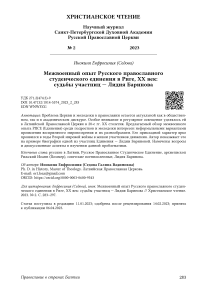Межвоенный опыт русского православного студенческого единения в Риге, XX век: судьбы участниц - Лидия Баринова
Автор: Седова Г.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
Проблема Церкви и молодежи в православии остается актуальной как в общественном, так и в академическом дискурсе. Особое внимание и регулярное освещение уделялось ей в Латвийской Православной Церкви в 20-е гг. XX столетия. Предлагаемый обзор межвоенного опыта РПСЕ (Единения) среди подростков и молодежи интересен неформальными вариантами проявления воспринятого мировоззрения и их разнообразием. Его прикладной характер ярко проявился в годы Второй мировой войны в жизни участников движения. Автор показывает это на примере биографии одной из участниц Единения - Лидии Бариновой. Намечены вопросы и дискуссионные аспекты в изучении данной проблематики.
Русские в латвии, русское православное студенческое единение, архиепископ рижский иоанн (поммер), советские военнопленные, лидия баринова
Короткий адрес: https://sciup.org/140301624
IDR: 140301624 | УДК: 271.2(474.3)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_2_283
Текст научной статьи Межвоенный опыт русского православного студенческого единения в Риге, XX век: судьбы участниц - Лидия Баринова
Церковь и молодежь — неотъемлемая часть приходской жизни христиан, которая остается актуальной в общественном дискурсе и сегодня. На протяжении истории отношения Церкви и молодежи принимали разные формы. Интересный опыт церковной работы с подрастающим поколением и молодежью существовал в Прибалтике. В данной работе будет рассмотрен латвийский опыт в межвоенный период XX столетия. Инославная среда способствовала созданию Русского православного студенческого единения (далее также — РПСЕ, Единение), которое входило в состав Русского студенческого христианского движения за рубежом и стало уникальным явлением в прибалтийских странах Латвии и Эстонии. Несмотря на светский миссионерский характер движения, православные клирики принимали в нем активное участие. Основной целью его стала религиозно-педагогическая работа среди православных учащихся и студентов, а также рабочей молодежи, в частности в Латвии. Собственно, Церковь стала смыслом и центром бытия для русских в эмиграции. А наработанный опыт участников молодежного движения проявился в христианском служении ближнему в годы Второй мировой войны.
На сегодняшний день данная проблематика не является объектом изучения историков, тем не менее историография, посвященная РПСЕ, представлена работами латвийских [Плюханов, 1993; Фелдман, 1997; Фейгмане, 2000; Гаврилин, 2008], эстонских и российских исследователей [Православие в Прибалтике, 2018]. В изучении темы нами также был использован корпус документов Латвийского Национального архива, Государственного архива РФ, фотоархива Р. М. Башкиной, Музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии; публикации периодической печати межвоенного и военного периода в Латвии и зарубежье, а также воспоминания о приходской жизни Латвийской Православной Церкви (далее — ЛПЦ).
Целью данного исследования стало изучение опыта религиозно-просветительской работы Единения, а также его применения к жизни, которое православные реализовали в период нацистской оккупации в Риге. Одной из поставленных задач стало изучение биографий и деятельности участниц Единения, в частности Лидии Бариновой (1912–1942).
Этапы становления Единения в Латвии в 20-е годы XX столетия происходили при поддержке Русского студенческого христианского движения за рубежом. О целях работы в своих воспоминаниях писал Борис Плюханов (1911–1993): «Русское студенческое христианское движение за рубежом имеет своею основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа неверующих» [Плюханов, 1993, 28]. Важно указать, что Единение стремилось помочь своим членам выработать христианское мировоззрение, защитить Церковь и веру, а также быть способными бороться с проявлениями атеизма и материализма. Более емко охарактеризовал Единение о. Сергий Булгаков (1871–1948): он видел его целью «принятие ответственности за судьбы Церкви в России и за рубежом; осознание новой Евхаристической эпохи; утверждения вселенскости восточного православия и связанного с этим стремления восстановить общение с западными христианами» [За рубежом, 1973, 103].
Обратимся к исторической справке. До революции в Риге существовал Библейский студенческий кружок, который был создан благодаря лекциям американского протестантского миссионера Джона Мотта (John Raleigh Mott; 1865–1955). Спустя время, в 1922 г., в Риге уже действовали ИМКА и ИВКА, в работе которых принимали активное участие старшие ученики рижских гимназий (ЛГИА. Ф. 2490. Оп. 1. Д. 44. Л. 214). Знаковым годом стал 1927-й, когда Прибалтику из Парижа посетили с лекциями Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, В. В. Зеньковский и С. М. Зернова. В том же году произошло важное событие: рижские делегаты приняли участие в общем съезде Движения во Франции, в Клермоне. В итоге в 1927 г. в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Рижском Свято-Троице Сергиевом женском монастыре состоялось первое собрание религиозных кружков.
Архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер; 1876–1934)1 благословил и поддержал начинание. По окончании вечерни в храме обители был совершен собор-но праздничный молебен духовенством: настоятелем рижского кафедрального собора Рождества Христова прот. Кириллом Зайцем (1866–1948), ректором Рижской духовной семинарии прот. Иоанном Янсоном (1878–1954) и свящ. Михаилом Бурнашевым (1882–1928). После службы в зале монастырской школы собрались члены кружков и гости: Библейскую группу для взрослых возглавил о. Михаил Бурнашев, Церковной истории — магистр истории, приват-доцент В. В. Преображенский (1897–1941), Студенческий кружок — Н. П. Литвин. Общее количество участников первых трех кружков и приглашенных насчитывало порядка 150 человек. Интересны воспоминания участников о том событии: «В этот вечер в жизни рижских кружков произошло что-то новое, что сближало всех, делало всех сообщниками большого христианского дела и тем самым придавало и новый смысл, и новые силы личной работе каждого члена кружка в отдельности» [Вестник, 1928, 29].
Главной целью РПСЕ стало объединение молодежи для работы на благо Церкви, борьбы с атеизмом и материализмом, а также любви к России и сохранению национального самосознания. Движение не было партией — ни церковной, ни политической и ни националистической. Отметим и основные программные положения Единения: изучение истории христианской Церкви, Священного Писания, православного богослужения, истории и культуры России. Важными пунктами устава были: организация русского национального меньшинства; член РПСЕ — студент или учащийся православного вероисповедания; руководящий орган — общее собрание; исполнительный орган — правление с председателем; существование на пожертвования по подписным листам; проведение ежегодных съездов-отчетов. Главной силой движения стала гимназическая молодежь, подростки объединялись в дружины «Витязей» и в девичье «Дружество» (см.: [Фейгмане, 2000, 222–223]).
Для понимания национального вопроса в Латвии в те годы обратимся к переписи населения, а их было четыре. Рассмотрим соотношение в динамике. Общее количество латвийского населения составляло:
– 1920 г.: 1 млн 596 тыс. — великороссов же (далее — рус.) 125 тыс. (= 7,82%);
– 1925 г.: 1 млн 845 тыс. — рус. 194 тыс. (= 10,50%);
– 1930 г.: 1 млн 900 тыс. — рус. 202 тыс. (= 10,62%);
– 1935 г.: 1 млн 951 тыс. — рус. 202 тыс. (= 10,59%).
Собственно, русские составляли самое многочисленное меньшинство. Это были коренные русские, которые возвращались из Советской России после Первой мировой войны как беженцы, а также незначительное количество прибывающих эмигрантов. Важное замечание: великороссы проживали на всей территории Латвии в основном в сельской местности, в меньшей степени в городах. Например, по данным на 1935 г., в Риге проживали от 100% населения: 63,4% латышей, 10% немцев, 11,3% евреев, 7,36% великороссов, 1,22% белорусов, 4,10% поляков и 1,44% др. национальностей [Skujenieks, 1930, 139]. Если в начале создания Латвийской Республики провозглашалась толерантность в национальном вопросе, то постепенно стал превалировать национализм — после государственного переворота 1934 г.
Следует отметить, что яркими деятелями Единения в Риге были свящ. Михаил Бурнашев, приват-доцент В. В. Преображенский и студент Н. П. Литвин. Охарактеризуем их кратко. Отец Михаил был руководителем Богословского кружка для взрослых имени Креста Господня. Молодежь его отличала как «бескорыстного труженика и доброго сеятеля на ниве Христовой». Родился Михаил Бурнашев в дворянской семье в Курской губ., окончил Училище правоведения (1904) и сдал экзамены на звание ученого-археолога в Петроградском археологическом институте (1914). Служил в Министерстве юстиции, позже предводителем дворянства в Борисовском уезде Минской губернии. Специалист по истории и культуре России, член дирекции «Старинного театра». Затем, в 1918 г., эмигрировал с сестрой в Латвию, преподавал в гимназиях Либавы (совр. Лиепая) русский язык и историю. В 1925 г. архиепископ Рижский Иоанн (Поммер) рукоположил Михаила Николаевича к храму Рижского Свято-Троицкого Сергиева женского монастыря. Отец Михаил принимал активное участие в религиозных беседах среди верующих и участвовал в собраниях латышского студенческого кружка. Он известен своими публикациями как писатель и журналист; в русском журнале «Перезвоны» (Рига, 1925–1929) вел рубрику «Детский уголок», которая стала при нем увлекательной, а также публиковался в «Юном читателе». Редактировал издания для юношества ко «Дням русской культуры»: журналы «Слово» и «Русь». Автор многих статей. Умер священник в 1928 г. и погребен на монастырском участке Покровского кладбища в Риге (ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 2. Д. 128); [Вера и жизнь, 1928, 31].
Историческим кружком имени В. В. Болотова руководил приват-доцент Василий Васильевич Преображенский (1897-1941). Созданный им кружок посещали гимназисты и ученицы Ломоносовской гимназии из девичьей дружины. Родился Василий Преображенский в Риге в семье прот. Василия Преображенского. Окончил Рижскую Александровскую гимназию с золотой медалью. Далее — учеба в Юрьевском университете на историко-филологическом факультете до 1918 г., затем в Латвийской высшей школе, также на одноименном факультете, до 1924 г. Спустя два года Василий Васильевич получил разрешение на поездку в Чехословакию для получения магистерской степени по всеобщей истории на историко-филологическом факультете Пражского университета. Собственно, одаренного и целеустремленного педагога отличала не только постоянная учеба, но и стремление к совершенствованию. Об этом свидетельствовал его послужной список. Он преподавал в известных Рижских гимназиях: Олимпиады Николаевны Лишиной (1873–1961), Людмилы Ивановны Тайловой (1851-1938), Натальи Семеновны Винзарайс-Вершканской (1877-1950), а также в Правительственной. Читал Василий Васильевич курсы истории, психологии и латыни. Несмотря на слабое здоровье, он принимал деятельное участие в РПСЕ, выступал с докладами, вел кружки, готовил публикации для русской газеты «Сегодня». С приходом советской власти в 1941 г. его депортировали, умер В. В. Преображенский в лагере в Соликамске (ЛГИА. Ф. 1632. Оп. 1. Д. 16762. Л. 1–3, 15, 55; ЛГА. Ф. 1987. Д. 13703).
Бессменным руководителем Студенческого кружка был Николай Петрович Литвин (1905-1989). Родился он в Риге, после окончания школы с 1924 г. выполнял послушание иподиакона в рижском кафедральном соборе Рождества Христова. Долгие годы он был председателем Единения (1928–1930, 1932–1934). С 1944 г. Н. П. Литвин служил псаломщиком в Свято-Духовской церкви в Икшкиле (ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 2. Д. 246). К активным членам Единения принадлежали также братья А. В. и Д. В. Буковские, Б. В. Плюханов, Н. П. Истомина, М. Ф. Семенова, М. Я. Миезис, Д. В. Маслов, И. Н. Трубецкой, Т. Д. Эренштейн и мн. др. (см.: [Фейгмане, 2000, 222]).
Работа Единения заключалась не только в религиозной кружковой деятельности (13 кружков), но и в проведении общих ежегодных шести съездов. Во время работы первого зимнего съезда архиепископ Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер) принял первое почетное звание члена Единения. Остались памятными его слова-напутствие: «Молодежь Движения, посвящающая себя проповеди веры и церковному служению, является соработником епископов и священников и делает то же Христово дело, хотя и в другом чине» [Плюханов, 1993, 90–91]. Владыка Иоанн понимал важность деятельности Единения, он приветствовал участников I летнего съезда в Рижской Спасо-Преображенской пустыни. Архипастырь видел пробуждение русского общества к церковной жизни и стремление молодежи «обрести источники живой воды и подлинного благочестия, от которой берут свое истинное начало культурная работа, научное и художественное творчество, здоровая общественная жизнь» [Плюханов, 1993, 68].
Постепенно движение распространялось по Латвии. Провинциальные отделы располагались и в Латгалии: Двинске (совр. Даугавпилс), Лудзе, Режице (совр. Резекне) и деревне Боровки. Съезды Единения проходили регулярно. Так, в зимнее время проходила интенсивная учеба, например в 1928 г. — в Рижском монастыре; в 1930 г. — в помещении Единения, которое размещалось в приходском доме по ул. Тургеневская, 21а, кв. 8, в Риге, а по соседству совершались службы в Благовещенской церкви; в 1931 г. — в Рижской Правительственной гимназии, а службы проходили в Скорбя-щенской церкви. Важно отметить, что рижские слушатели жили дома, а приезжие в общежитии. А летние съезды совмещались с паломничеством: в 1928 г. в Рижскую пустынь — 40 чел.; в 1929 г. в Псково-Печерский монастырь — 250 чел.; в 1930 г. в Пюх-тицкий монастырь — 270 чел.; в 1931 г. в имение Лоберж в Латгалии — более 200 чел.; в 1932 г. в Пюхтицкий монастырь — 160 чел.; в 1934 г. в пригород Тарту — 74 чел. (см.: [Фелдман, 1997, 111–114]).
Тем временем Европу захлестнул глубокий экономический кризис. События эти ярко описаны в печати и литературе, а также в работах известных публицистов тех лет. Обратимся к церковной статистике, в качестве примера — сведения о государственных дотациях ЛПЦ. В 1932 г. они были сокращены на 25% (с 22 050 латов в 1931 г. до 17 640 латов в 1932 г.). Государство проводило оптимизацию финансового бремени, субсидии Церкви заметно сокращались. В 1934–1936 гг. государственная помощь составила около 10 000 латов в год. Протоколы заседания Синода ЛПЦ от 17 августа 1933 г. свидетельствовали о том, что в текущем бюджетном году из-за нехватки средств было сокращено жалование архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). Также сокращалось выделение средств для учащихся Рижской духовной семинарии (ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 1. Д. 72. Л. 139; Д. 73. Л. 98; Д. 74. Л. 127).
Коснулись ли Единения финансовые проблемы? Безусловно, т. к. денежные поступления с 1929 г. шли за счет частных пожертвований, 40 молодых людей обходили с подписными листами ежегодно священников, прихожан и интеллигенцию. Архиепископ Иоанн благословил сборщиков и покровительствовал им, даже проводились тарелочные сборы в латвийских церквях. Известен факт, когда Рижская городская управа в 1934 г. выделила Единению для работы с детьми 700 лат, видимо, это была разовая помощь (см.: [Фелдман, 1997, 124]).
В мае 1934 г. произошел государственный переворот премьер-министра К. Ул-маниса (1877–1942). Вследствие этого был распущен парламент и все политические партии, приостановлено действие Конституции и закрыты многие печатные издания. А 12 октября произошло убийство архиепископа Рижского Иоанна (Помме-ра). 8 ноября 1934 г. РПСЕ было ликвидировано, члены Единения, кто находился в здании организации, были арестованы по обвинению в стремлении «восстановить единую, святую, великую Россию». После ареста в одной из комнат на столе осталась записка, написанная Борисом Владимировичем Плюхановым: «Жизнь кончилась, и начинается житие». Бессмертная фраза лесковских «Соборян» стала для многих пророческой. Более месяца они находились в здании Политического управления Риги. Власти обвиняли организацию как «филиал» эмигрантской шовинистической организации, которая якобы готовила предателей Латвии для будущей России. Ее члены якобы вредили интересам Латвии, а также обвинялись по делу убийства владыки Иоанна. Доказательств так и не было предъявлено, тем не менее организацию закрыли. После ликвидации ее члены продолжали религиозно-педагогическую работу, но только на отдельных приходах в воскресных школах ЛПЦ (Вестник, 1931, 5; Вестник, 1934, 5–11).
Единение работало в течение шести лет (1928–1934) и добилось значительных результатов в деле христианского просвещения, социального служения и катехизации, среди них:
-
— создание и постоянная работа в 13 религиозных кружках;
-
— проведение шести общих съездов зимой и летом;
-
— организация постоянной библиотеки и двух передвижных;
-
— распространение религиозно-педагогической литературы;
-
— организация воскресных школ в четырех рижских предместьях;
-
— работа с детьми зимой и летом, обустройство лагерей;
-
— открытие детского сада для малоимущих;
-
— клубная работа в воскресенье для молодежи;
-
— объединение девичьих кружков в «Девичье Дружество» для активного участия в «Днях русской культуры» в Риге;
-
— открытие православного Дружества Учащейся Молодежи («Гимназическое Дружество»);
-
— издание монографии В. В. Преображенского;
-
— лекции гостей: Н. А. Бердяева, В. П. Вышеславцева, С. Л. Франка, В. В. Зеньков-ского, Л. А. Зандера, иеромон. Иоанна (Шаховского), мон. Марии (Скобцовой), диак. Льва Липеровского, И. А. Ильина и мн. др.
Одним словом, главной работой многочисленных участников и гостей Единения было свидетельство о Христе и опыт жизни, пронизанной Божественным присутствием. Как вспоминала участница Единения Екатерина Рогозина из Режицы, «мне Движение дало очень много. Оно приблизило меня к православию, под влиянием Движения я заинтересовалась вопросами духовного порядка — богословием, вопросами самосовершенствования, самопожертвования… Всю свою дальнейшую жизнь и до старости я сохранила добрую и благодарную память о Движении и профессорах… с которыми была в переписке… Все они призывали нас, молодежь, к деланию добра, к духовному просвещению, к воцерковлению жизни, к жизни во Христе» [Плюханов, 1993, 128, 133].
Что касаяется государственно-церковных отношений в Латвии, то они складывались относительно сбалансированно в период управления Рижской кафедрой архиеп. Иоанном (Поммером). Но с изменением политической повестки произошли изменения и в этих отношениях, т.к. активность православных, в особенности русской их части, стала слишком явной. Поэтому латвийские власти усилили наблюдение особенно за русскими эмигрантами. В этой связи на особом контроле спецслужб стояла тема РОВСа, т. к. в Латвии проживало значительное количество офицеров, которые принимали участие в Гражданской войне (1918–1922) на стороне белых. Это отражено в агентурных донесениях Политического управления. Например, агент «Янис» утверждал в своем донесении, что союз Врангель-Кутепов-Миллер «имел поступательную силу во всех местах, где рассеяна русская эмиграция, и его, это движение, называют „фашизмом в фашизме“». В качестве подтверждения прилагалась статья из газеты «Возрождение» («Генеральная линия» младороссов) с отрывками из доклада лидера движения младороссов, педагога, впоследствии церковного журналиста Александра Львовича Казем-Бека (1902-1977). Поднимаемые белоэмигрантом вопросы касались «нынешнего отношения младороссов к Обще-Воинскому Союзу и к вопросу о непредрешении („политический мораторий“)». Выдвигались основные тезисы: объединение всех русских в эмиграции, принятие политической программы, разработка нового русского монархического учения Национальной Революции и ликвидация коммунизма (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 3. Д. 172. Л. 7–7а).
На этом фоне усиливалось наблюдение за неблагонадежными гражданами и русскими эмигрантами в Латвии. В качестве примера: в одном из донесений даже подверглась пристальному вниманию программа концерта Русского общества «Баян», хотя в репертуаре были произведения не только русских классиков, но и латышских (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 3. Д. 172. Л. 62–63). Слежке подвергались и те, кто принадлежал к русским организациям, которые легально существовали в Латвии. Безусловно, в поле зрения властей находились и те, кто был связан с Единением, среди них:
учитель Антонина Емельяновна Ершова (?–1943), принадлежала к организации «Общество русских эмигрантов Латвии»; врач и журналист Анатолий Козьмич Перов (1907–1977) входил в организацию «Братство Русской правды» и др. (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 3. Д. 172. Л. 62–63).
Лимитрофные государства Прибалтики находились под особым контролем различных европейских спецслужб и не только, поэтому положение для русских и православия было крайне сложным. К тому же давление властей в вопросе о переходе ЛПЦ под омофор Константинополя не прекращалось, нападки на архиерея шли со всех сторон. А кульминацией этого давления стало убийство правящего предстоятеля, которое оказалось невосполнимой утратой не только для Церкви и Единения, но и для всей Латвии. В «Вестнике РСХД» сообщалось: «Октябрь 1934 г. в памяти нашего поколения навсегда останется месяцем ужаса и глубокой скорби» (Вестник, 1934, 1).
По воспоминаниям участников движения, владыка Иоанн помогал решать многие вопросы и нужды, в том числе разрешал пользоваться его внушительной богословской библиотекой, он был ревностным архипастырем. Трагическая смерть архиерея стала своеобразным триггером для ликвидации движения русских в Прибалтике. В качестве рабочей гипотезы напрашивается мысль: не могли ли убийство на архиерейской даче у Кишозера архиепископа Рижского Иоанна (Поммера) 12 октября и ликвидация Единения 8 ноября 1934 г. быть единым замыслом в сложной политической комбинации? Ведь над раскрытием резонансного дела работали лучшие следователи, но оно зашло в тупик — или его завели. Как говорили древние, cui bono, cui prodest?
В декабре 1934 г. в латышской газете Jaunākās Ziņas вышло примечательное сообщение «Закрытие вредной организации „восстановление святой Руси“»: «В свое время в Риге было основано общество Русское Православное Студенческое Единение. Хотя устав этой организации совсем невинен, она вопреки уставу занималась политикой в духе национального шовинизма и русификации, проповедовала идею восстановления „единой святой, великой России“. Само собой понятно, что в Р. П. С. Единении объединялись главным образом только в таком духе настроенные люди. Выяснено, что это общество — тайное отделение парижской эмигрантской организации „Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом“. У парижской центральной организации военная окраска. Цель организации — восстановить „великую единую святую Россию“. Она руководила также в Риге нелегальными собраниями русских людей балтийских государств. Теперь вице-министр внутренних дел А. Берзинь закрыл Р. П. С. Единение и назначил для этого ликвидационную комиссию» (Jaunākās, 1934).
Собственно, комментарии здесь излишни. А в качестве иллюстрации к происходящему — одно из донесений министру МВД. Чиновник сетовал на то, что в русской организации есть люди с латышскими фамилиями, как, например, Мильда Миезис, Николай Карклин, Л. Эглон, Янис Янсонс, Карлис Зайц и др. По его утверждению, «все эти носители чисто латышских фамилий уже денационализировались и обрусели настолько, что для них вступление в филиал „Русского Студенческого Христианского движения за рубежом“ и даже в правление его нипочем. Они уже не только сами себя мыслят в Латвии „за рубежом“, но это преступное сознание они готовы прививать и другим своим согражданам. Среди рядовых членов филиала наряду с чисто латышскими фамилиями Рейзнекс, Берзинь, Бирзинь и пр. встречаются фамилии немецкие — Беервальд, Рейнгольд, Гартман, польские Слимскевич, Буковский и еврейские — Эренштейн» (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 2. Д. 5629. Л. 2).
Следственная работа с активистами РПСЕ строилась на обвинении в убийстве предстоятеля Церкви, но когда эта линия развалилась (следователи считали ее также несерьезной), то вопросы ушли в политическую плоскость, тому подтверждением допросы в декабре Николая Петровича Литвина (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 2. Д. 5629. Л. 19–23 об.). Далее — допросы в январе сестер Миезис, Мильды Яновны (1883–?) и младшей Ольги Яновны (1894–?) (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 2. Д. 5629. Л. 49–50 об. Л. 51–52). Религиозные вопросы следователей мало интересовали, а касались они жизни эмигрантской общины: кто ездил в Париж, от кого получали финансирование, кто из русских эмигрантов выступал и читал доклады в Латвии и т. д. В деле сохранился запрос МВД на получение экземпляра газеты «Православная Русь». В номере за 1935 г. была опубликована небольшая заметка «Разные вести» о закрытии организации. В ней извне дана оценка ликвидации: «В Латвии правительство закрыло организацию „РСХД“ под предлогом, что она является политическим сообществом, будто бы имеющим целью восстановление „Единой Святой Руси“. „РСХД“ никакой политической деятельностью не занималось, и потому его закрытие оказалось для всех полным сюрпризом, подготовленным, очевидно, теми, кому мешала борьба этой организации с безбожной пропагандой. Будем надеяться, что это правительственное распоряжение о закрытии полезной для государства организации в самом скором времени отменится» (ЛГИА. Ф. 3724. Оп. 1. Д. 7922. Л. 6).
Если рассматривать прикладной характер накопленного опыта Единения, то он особенно ярко проявился в годы Второй мировой войны на оккупированной территории. Единенцы явили лучшие христианские качества милосердия и сострадания, будь то помощь евреям и военнопленным или беженцам и сиротам. Например, в декабре 1943 г. в Аллажской волости (совр. Сигулдский край) в Доме Единения нашли приют 300 русских беженцев, где для них совершались специально православные богослужения [Русский Вестник, 1943]. Следует упомянуть клириков и мирян из числа Единения, которые проявили себя в Псковской Православной миссии [Обозный, 2008, 198].
Перечислим имена некоторых участников Единения в Риге, с которыми автор познакомился в ходе исследования: семья Бенуа, мать — Ольга Федоровна, ее дочери — Ольга и Лидия [Евфросиния Седова, 2019, 2020; Sedova, 2021], сестры Александра и Вера Мункевич, Мария Бовтович, сестры Мильда и Ольга Миезис, Лидия Зепп, Вера Лопатина, сестры Комита (в замуж. Портнова) и Антонина Ершовы, Лидия Баринова. Бывшая рижская гимназистка Валентина Сидиропуло вместе с матерью Ириной Яновной (урожд. Блуке) спасали военнопленных и были арестованы в ноябре 1942 г. и отправлены в Саласпилсский концентрационный лагерь, затем в лагерь Грюнберг-Равенсбрюк. Валентина выжила, матушка ее погибла в 1944 г. Нацисты так и не узнали, что семья Сидиропуло скрывала в квартире еврейскую девушку [Рижская городская, 1999, 138, 141]. Матвея Нитавского арестовало гестапо в 1942 г. за помощь военнопленным красноармейцам, а в 1944 г. уже арестовали сотрудники СМЕРШа (Nо NKVD, 1999, 536). Некоторые из единенцев были репрессированы уже советской властью. Погибли в ГУЛАГе: Алексей Исаевич, Всеволод Елистратов, Матвей Нитавский, Георгий Ильинский и др. [Плюханов, 1993, 296, 298–299].
Среди единенцев были те, кого нацисты казнили за помощь советским военнопленным и укрывательство их. Это Антонина Ершова, супруги Константин и Комита Портновы, Вера Мункевич. Погибла во время допросов в Рижской центральной тюрьме Лидия Баринова. Все эти благородные люди отдали свою жизнь за помощь ближнему. Их жертвенное служение и сегодня поражает своим христианским мужеством.
Но кто они, участницы Единения? Обратимся к материалам биографии одной из них — Лидии Афанасьевны Бариновой (1912-1942). Она родилась незадолго до Первой мировой войны в Риге, рядом с Кузнецовской фарфоровой фабрикой. Родители принадлежали к потомственным рабочим Кузнецовки: мать работала в живописном цехе, а отец выполнял обязанности по доставке продукции в центральную часть губерний России. Семья Афанасия Ивановича и Анастасии Яковлевны (урожд. Барабановой) была многодетной, в ней воспитывалось семь детей. С началом Первой мировой войны предприятие с персоналом эвакуировалось в Дулёво, а последующие революционные события застали Бариновых в Советской России. Они не приняли власть большевиков, к тому времени глава семейства и сыновья умерли на чужбине. Вернулись в Латвию только мать с тремя дочерями: Анфисой, Лидией и Ниной. Вдове пришлось одной поднимать детей, и ее верной помощницей стала средняя дочь Лидия (см.: (Воспоминания Р. М. Башкиной)).
Большинство кузнецовских рабочих из эвакуации также вернулось в Латвию. Будучи подростком, Лидия поступила в 1926 г. в школу по ул. Московской, 140 (совр. адрес: ул. Маскавас, 166). Это была 7-я Русская основная школа (совр. Рижская 3-я музыкальная школа). Вначале она была двухлетняя, а спустя некоторое время стала шестилетняя. Предместье отличалось компактным проживанием русского населения, детей было много. Пока для школы не подыскали здание, занятия проходили в вечернюю смену. Позже учебное заведение размещалось уже в известном на Московском форштадте Русском доме трудолюбия, устроенном еще в XIX в. купцом и депутатом Рижской думы Николаем Дмитриевичем Меркульевым (1851–1925) по благословению прот. Иоанна Сергиева (1829-1908) из Кронштадта2. По семейным воспоминаниям, Лидия училась в вечернюю смену. Сохранилась фотография от 29 мая 1929 г., где Лидия запечатлена среди 14 выпускников. На обороте фотографии записаны некоторые фамилии: А. Алимов, Т. Авсеев, Н. Чернчев, Громов, Войченков, А. Агурбяпова, В. Машогшина, А. Милашевич (Фотоархив).
Русская газета «Сегодня» к 10-летию 7-й русской основной школы сообщала, что если в 1921г. в школе было только 3 класса и 90 учеников, то в 1931г. — 11 классов и 400 учащихся, преподавательский состав насчитывал 16 учителей. Школа стала самой большой русской основной школой в Риге, а также отличалась своей активностью, т.к. одна из первых ввела помощь ученикам. Нуждающиеся получали не только школьные пособия, но и материальную поддержку в виде одежды и обуви. А у истоков создания 7-й основной школы стоял народный учитель Козьма Иванович Перов (1888–1936), известный апологет просвещения в Прибалтике до Первой мировой войны. Он был не только педагогом, администратором, общественным деятелем, но и глубоко верующим человеком. Долгое время он входил в приходской совет Ивановской церкви на Московском форштадте. Сформированное им учебное заведение славилось преподавательским составом. Одним из учителей русского языка и литературы был Александр Григорьевич Каверзнев (1881–1949), сын военного священника 157-го Имеретинского полка. До революции Александр окончил СПбДА, но не пошел по духовной линии. Позже он продолжил учебу в С.- Петербургском и Юрьевском университетах. Его супруга Вера Михайловна (урожд. Голубева, 1902-1988) была также учителем словесности и тесно поддерживала связь с Единением. По некоторым сведениям, за помощь советским военнопленным Александр Григорьевич Каверзнев был арестован и направлен в Саласпилсский концлагерь, где находился до 1942 г. Однако документального подтверждения этой информации нет. Семья Бариновых была хорошо знакома с семьей Каверзневых (см.: (Воспоминания Т. О. Амосовой)).
По воспоминаниям близких, Лидия, будучи подростком, училась и на курсах белошвеек. Как уже было сказано, многие родственники семьи Бариновых работали на фарфоровой фабрике Кузнецовых. Не стала исключением и Лидия, какое-то время она работала на Кузнецовке, но недолго, затем по рекомендации перешла на фабрику резиновых изделий «Квадрат» как декоратор. Почему она сменила работу? Возможно, новая работа была более творческой (см.: (Воспоминания Р. М. Башкиной)).
Надо отметить, что девушку отличала глубокая вера, особая тяга к знаниям и самообразованию. Ее способности отметила преподаватель Надежда Степановна Трей-мане, которая вела уроки рукоделия (и всего, что связано было с модой тех лет). Лидия была талантливым и трудолюбивым человеком, она шила и вышивала, что давало дополнительные средства в семейный бюджет. По рекомендации учительницы она подрабатывала в престижном ателье «Джентльмен», которое находилось в Старой Риге. Девушка выполняла заказы по ночам, чтобы воплотить свою заветную мечту, купить немецкую швейную машинку Pfaff (см.: (Воспоминания Р. М. Башкиной)).
Родственники характеризовали ее как очень целеустремленную личность, которая обладала притягательной силой, и все, кто ее знал, всячески ей помогали. Лидия влилась в движение молодежи РПСЕ. Она посещала кружок в честь Покрова Божией Матери, который вела Мильда (в крещении Ольга) Яновна Миезис. Примечательна личность и самой М. Я. Миезис. Известно, что в 1916 г. она, коренная рижанка, окончила в Петрограде Высшие женские педагогические курсы, была опытным педагогом. Как и многие старшие единенцы, М. Я. Миезис имела основное место работы. Она трудилась в Министерстве землеустройства на станции по контролю за семенами как старший аналитик (ЛГИА. Ф. 3235. Оп. 2. Д. 5629. Л. 49–50 об.). А в свободное время бескорыстно занималась религиозно-просветительской работой в движении.
Итак, главной темой занятий кружка под руководством Мильды Яновны стало изучение женских типов по житиям святых, а также произведениям литературы. Важно отметить, что Единение объединяло не только студентов и гимназистов, но и рабочую молодежь Риги. Многие работали на Кузнецовской фарфоровой фабрике, кто-то на других предприятиях города. Лидия пользовалась уважением и любовью единенцев. В архиве семьи сохранилось почтовое поздравление от Ольги (Мильды) Яновны Миезис. Открытка была направлена по адресу: ул. Тургеневская, 21 а, кв. 8, где в помещении Единения проходили занятия в кружках и встречи. Наставница с теплотой написала имениннице: «Сердечно поздравляю с днем Ангела, желаю счастья и всяческого благополучия. О. Миезис» (Фотоархив).
В межвоенный период православная молодежь принимала активное участие не только в движении РПСЕ, но и в жизни русской общины. В течение года готовились к ежегодным «Дням русской культуры» в Латвии. Их ждали с нетерпением, т. к. устраивались публичные выступления известных лекторов из Европы, вечера и концерты. Широко отмечался Татьянин день и, конечно, проходил Татьянин бал. Единенцы были погружены в интересы русской общины Латвии, они жили национальной идеей.
Важно отметить, что фабричная молодежь посещала различные просветительские и духовные кружки еще и потому, что не все православные юноши и девушки из-за ограниченности средств могли учиться в средней и высшей школе. Конечно, большая часть из них работала, но плата за обучение была высокой. Лидия закончила только основную школу, и Единение ей давало возможность расширить кругозор и дальше расти как личности. Она хорошо понимала, что образование дает возможности для карьерного роста, поэтому усердно работала, чтобы младшая сестра Нина смогла поступить в Рижскую Правительственную гимназию и окончить ее. Таковы были реалии жизни в довоенной Латвии.
Лидия, как и любой подросток, ждала наступления лета, когда выкраивалось свободное время для отдыха. Девушка даже смогла купить велосипед, что позволило ей с подругами ездить на Рижское взморье, т. к. плата за проезд на поезде для семьи была обременительной. Как уже упоминалось, ежегодно участники Единения выезжали в паломничество, на сборы и съезды, которые проводились в разных известных монастырях. Например, в 1930 г. 26 июля состоялся летний съезд Единения в Пюх-тице, Лидия была в числе его участников. Сохранилась фотография за подписью ее близкой подруги Тамары: рижские делегаты сделали снимок на фоне монастырской башни. Следующий съезд прошел 26 июля 1931 г. в Латгалии, в старинном поместье Вощининых — Лоберж. Некогда этот русский уголок принадлежал братьям Жемчужниковым, в соавторстве подарившим миру Козьму Пруткова. В архиве семьи сохранился фотоснимок Лидии среди молодежи. По воспоминаниям участницы этого съезда Н. К. Фелдман-Кравчёнок, службы совершались в Скорбященской церкви Куль-нево, где хранился прах героя Отечественной войны 1812 г. генерала Якова Кульнева (1763–1812). Небольшая церковь с трудом вмещала прибывших богомольцев, служили сельские батюшки из близлежащих храмов (см.: [Плюханов, 1993, 127]).
Съезд в Лоберже отличался от предыдущего, т. к. молодые люди «самодеятельно» готовили семинары. Они были разнообразны по тематике: например, Аскетический семинар готовил А. А. Косинский; Апологетический — Е. К. Берзинь; по сравнительному богословию — Д. В. Буковский; Социальный — Б. В. Плюханов, Религиознопедагогический — А. И. Драгунова, Религиозно-литературный — М. И. Миезис, Религиозно-философский — В. К. Торно. Делегаты из Эстонии выступили также с познавательными семинарами. Безусловно, все ждали выступления западноевропейских гостей — проф. прот. Г. В. Флоровского, Л. А. Зандера, диак. Льва Липе-ровского, Б. И. Сове, А. И. Никитина. Звучали темы, которые волновали молодежь в предвоенное время: «Православие среди инославия», «О национализме», «Общественное служение христианина», «Оксфордское служение в Англии», «Идеалы педагогики», «Христианство и семья». Под большим впечатлением слушатели остались от встречи с русским художником Н. П. Богдановым-Бельским (1868–1945). Мастер руководил сводным церковным хором и давал мастер-классы по рисованию (см.: [Фелдман, 1997, 113–114]).
К концу 1934 г., когда Единение было ликвидировано, жизнь Лидии сосредоточилась на заботах о семье. До войны уклад семейства Бариновых мало чем отличался от жизни большинства русских Московского форштадта: все работали, а в воскресные и праздничные дни старались быть у обедни. Наступило лето 1941 г., немецкие войска вошли в Ригу, убитые красноармейцы лежали непогребенными вдоль реки Даугавы. После призыва священников Московского форштадта — настоятеля Ивановской церкви прот. Николая Шалфеева (1863–1941), настоятеля церкви Всех святых прот. Алексия Торопогрицкого (1877–1941) и cтаршего наставника Гребенщиковской старообрядческой общины Льва Сергеевича Мурникова (1882–1945), прихожане приняли участие в захоронении погибших воинов. На православной части Ивановского кладбища погребено 150 погибших, а на старообрядческой общинной — 800 (по другим данным — 600, т. к. трудно было тела опознать). Священниками было принято смелое решение отпеть воинов без разрешения немецкой комендатуры, т. е. на свой страх и риск. Погибших красноармейцев похоронили и поставили два памятных креста в 1942 г., деньги собирали всем миром (см.: (Воспоминания директора); [Емельянов, 2005, 11–12]).
Участвовала ли Лидия в этих событиях? С большой вероятностью можно утверждать, что да, т. к. она была прихожанкой Ивановского храма, а настоятель прот. Николай Шалфеев был ее духовником. Известно, что девушка с единомышленниками активно помогали узникам Рижского гетто (1941–1943), которое значилось вторым по величине после Варшавского. Гетто находилось на Московском форштадте, напротив Ивановской церкви и рядом с храмом Всех святых. Верующим удавалось даже скрывать обреченных в Ивановском храме и оказывать им помощь. Не помогали оккупационным властям и угрожающие предупреждения: «Лица, пересекшие забор и вступившие в контакт с жителями гетто, расстреливаются на месте» (Музей).
Первый раз полиция задержала Лидию осенью 1941 г. за передачу продуктов военнопленным и евреям в гетто, но прот. Николай Шалфеев ее вызволил из комендатуры. Полицейский контроль усиливался, настоятели двух храмов скончались после допросов в гестапо в декабре 1941 г. На Страстной неделе, 3 апреля 1942 г., в Риге прошла массовая облава, были задержаны более 150 человек. Лидию арестовали за помощь советским военнопленным и направили в Рижскую центральную тюрьму, где она и содержалась. По воспоминаниям соузниц, 26 апреля ее «в очередной раз без сознания бросили в камеру, заключенные с ужасом увидели, что у нее изо рта хлещет кровь с клочками растерзанных легких: ее затоптали коваными сапогами…» [Дзинтарс, 1986, 70]. Через несколько часов после допросов Лидия умерла, по свидетельству сокамерницы, не назвав своих единомышленников. Под страшными пытками с Лидией Бариновой погибли Мария Маруфленко, Анна Кононова и Владимир Стразд (см.: [Дзинтарс, 1986, 85]). О невероятной жестокости в Рижской центральной тюрьме в годы оккупации оставил воспоминания адвокат Кирилл Георгиевич Мункевич (1879–1950), семья которого был арестована за помощь советским военнопленным. Его дочь Вера Мункевич — участница Единения, как указывалось выше, была с единомышленниками казнена нацистами (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 93. Д. 17. Л. 244–248); [Заложник, 1998, 5].
Сохранилась фотография Лидии на семейном торжестве, когда племянник Борис Акимович Баринов сочетался браком с Татьяной Михайловной Сметанки-ной (женитьба давала отсрочку от службы в вермахте). Снимок сделан незадолго до ареста Лидии в 1942 г. Родные ничего не знали об антифашистской деятельности девушки, в семье она ничего не рассказывала: не хотела подвергать опасности близких. Похоронили Лидию на тюремном участке городского кладбища Маtīsa у стены Рижской центральной тюрьмы (Фотоархив; Воспоминания Р. М. Башкиной). Родственники узнали о трагической кончине Лидии от сокамерницы, которая посетила Анастасию Яковлевну Баринову и рассказала подробности. По воспоминаниям родных, дата гибели Лидии Бариновой указывалась как 1943 г. После дополнительных исследований установлен 1942 г., что подтверждает книга о Рижском подполье в период нацистской оккупации (1941–1944), в которой упоминалась Лидия Баринова как антифашист (см.: [Дзинтарс, 1986, 70]).
Анализируя вышеизложенный опыт Единения в межвоенный период в Риге XX столетия, отметим, что тема государственно-церковных отношений остается актуальной, особенно в контексте работы с молодежью, формирования у нее ценностных основ. Следует признать, что деятельность РПСЕ стала историческим явлением как в церковной, так и в культурной жизни Прибалтики. Динамичному развитию и объединению русского меньшинства в Латвии способствовали:
-
— уникальный опыт религиозно-педагогической работы многочисленных кружков, сборов и съездов РСПЕ;
-
— содружество молодых людей через осмысление веры в Бога и свидетельство о Христе;
-
— выстраивание органичных отношений мирян с клиром ЛПЦ на принципах соборности;
-
— сохранение национальной идентичности и православия.
Таким образом, старшие участники Единения сохранили национальную русскую культуру, оставаясь религиозными людьми, продолжая верно служить Православной Церкви, являя пример младшим, передавая знание истории и культуры, проповедуя идеи общего дела. В результате движение смогло привлечь в свои ряды широкие круги подростков и молодежи через православную русскую идею. Именно экзистенциальные идеи и смыслы, т. е. философия существования, стала движущей силой Единения на фоне роста консьюмеризма и жажды потребления в Европе. Тому яркий пример — осознанный выбор единенцев и, в частности, Лидии Бариновой, простой фабричной девушки.
Список сокращений
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ИВКА — Христианский союз молодых женщин (YWCA).
ИМКА — Христианский союз молодых людей (YMCA).
ЛГА — Латвийский Государственный архив (LNA LVA).
ЛГИА — Латвийский Государственный исторический архив (LNA LVVA).
ЛПЦ — Латвийская Православная Церковь.
РГСО — Рижская Гребенщиковская Старообрядческая Община.
РОВС — Русский Обще-Воинский Союз.
РПСЕ — Русское православное студенческое единение.
РСХД — Русское студенческое христианское движение.
Список литературы Межвоенный опыт русского православного студенческого единения в Риге, XX век: судьбы участниц - Лидия Баринова
- Вера и жизнь. 1928. № 2. С. 31.
- Вестник РСХД. 1928. № 1. С. 29; 1931. № 10. C. 5; 1934. № 10. С. 1. № 11-12. С. 5-11.
- Воспоминания директора — Воспоминания директора музея РГСО А. И. Иванова. Январь 2022 г., Рига.
- Воспоминания Р. М. Башкиной — Воспоминания Р. М. Башкиной. Январь 2021 г., Рига.
- Воспоминания Т. О. Амосовой — Воспоминания Т. О. Амосовой. Декабрь 2020 г., Рига.
- ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 93. Д. 17. Л.244-248. [№ 5 Справка по делу №18 о немецко-фашистских злодеяниях по истреблению мирных советских граждан в Рижской Центральной и Срочной тюрьмах, гестапо, префектуре и др. фашистских застенках г. Риги].
- «Генеральная линия» младороссов — «Генеральная линия» младороссов. Возрождение. 1933. 2 VI.
- ЛГА. Ф. 1987. Д. 13703. [Список депортированных. В. В. Преображенский.]
- ЛГИА. Ф. 1632. Оп. 1. Д. 16762 [Послужной список преподавателя Василия Васильевича Преображенского].
- ЛГИА. Ф. 2490. Оп. 1. Д. 44. Л. 228-230. [International Survey of the YMCA and the YWCA. (Разные документы 1922-1929г.)]
- ЛГИА. Ф.3235. Оп.2. Д.5629. [Политическое управление Рижского района 19321934 гг. Справка № 452/32 g. об Обществе «Русское Православное Студенческое Единение»]; Оп. 3. Д. 172. [Агентурные донесения № 18/548/sl. О русской монархической деятельности в Латвии. 1933, 1934, 1935 гг.]
- ЛГИА. Ф. 3724. Оп. 1. Д. 7922. [Iekslietu ministrijas Preses un biedrlbu nodala. Akts Biedrlbas: "Krievu pareizticlgo studentu vienlba" (МВД Отдел обществ и прессы. Акт о ликвидации общества «Русское Православное Студенческое Единение»).]
- ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 1. Д. 72. Л. 139; Д. 73. Л. 98; Д. 74. Л. 127; Оп. 2. Д. 128; Д. 246. [Клирики ЛПЦ.].
- Музей — Музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии.
- Разные вести — Разные вести. Закрытие организации Русского Студенческого Христианского Движения. Православная Русь (ранее «Православная Карпатская Русь»). 1935. №4 (162). С. 4.
- Русский Вестник. 1943. № 19 (85). 18.12. Рига.
- Фотоархив — Фотоархив Р. М. Башкиной. Рига.
- Jaunäkäs — Jaunäkäs Zinas. 1934. 7. XII.
- [Nitavskis Matvejs] No NKVD lldz KGB politiskäs prävas Latvijä 1940-1986. Noziegumos pret padomju valsti apsüdzeto Latvijas iedzlvotäju radltäjs // R. Vlksnes un K. Kangera red. R.: 1999.
- Гаврилин (2008) — Гаврилин А. В. Единение Русских православных студентов Латвии // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 18.
- Дзинтарс (1986) — Дзинтарс Я. Тайны Рижского подполья: борьба рабочих Риги в годы гитлеровской оккупации, 1941-1944. Рига, 1986.
- Евфросиния Седова (2019) — Евфросиния (Галина Седова), инокиня. Ольга Федоровна Бенуа: материалы следственного дела (1944-1945 гг.) // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии: Научно-богословский журнал. Пенза, 2019. Вып. 2 (12).
- Евфросиния Седова (2020) — Евфросиния (Седова Г.В.), инокиня. Homo empatio. Заведующая приютом советских детей в Дубулты (1943-1945 гг.) Ольга Елисеевна Бенуа // На пути к гражданскому обществу: Научный журнал. Иваново, 2020. № 2 (38). URL: http://goverment. esrae.ru/pdf/2020/2%20/708.pdf (дата обращения: 20.03.2023).
- Емельянов (2005) — Емельянов А. Акт христианского долга и гражданского мужества // Поморский вестник. Рига, 2005. № 2 (17).
- Заложник (1998) — Заложник гестапо. Из дневника Кирилла Мункевича, узника Рижской центральной тюрьмы 12.09.42-10.11.43гг. [Литературная запись Леонида Коваля] // СМ. Рига, 1998. № 148. URL: https://www.russkije.lv/ru/journalism/read/munkevich-vera-neplyujeva/ (дата обращения: 20.03.2023).
- За рубежом (1973) — За рубежом: Белград-Париж-Оксфорд: (Хроника семьи Зерновых): (1921-1972) // Под ред. Н. М. Зернова. Париж: YMKA-Press, 1973.
- Обозный (2008) — Обозный К. П. История Псковской Православной Миссии 19411944 гг. М., 2008.
- Плюханов (1993) — Плюханов Б.В. РСХД в Латвии и Эстонии. Материалы к истории Русского Студенческого Христианского Движения. Париж, 1993.
- Православие (2018) — Православие в Прибалтике: религия, политика, образование 1840-е — 1930-е гг. // Отв. ред. И. П. Пярт. Тарту, 2018.
- Рижская (1999) — Рижская городская русская гимназия (бывшая Ломоносовская) 1919-1935. Сборник воспоминаний и статей // Сост. М.В. Салтупе, Т.Д. Фейгмане. Рига, 1999.
- Фелдман (1997) — Фелдман-^авченок Н.К. Русское православное студенческое единение в Латвии // Православие в Латвии. Исторические очерки. Вып. 2. Рига, 1997.
- Фейгмане (2000) — Фейгмане Т.Д. Русские в довоенной Латвии. На пути к интеграции. Рига, 2000.
- Sedova (2021) — Sedova G. (nun Euphrosyne). Stalinist repressions in the Diocese of Riga in 1945: biographical information about the historical portrait of Olga Benois. Vesture: Avoti un cilveki. XXXI Zinatniskie lasîjumi. Daugavpils, 2021.
- Skujenieks (1930) — Skujenieks M. Latviesi svesuma un citas tautas Latvija. Vesturiski statistisks apcerejums par emigraciju un imigraciju Latvija. Rîga, 1930.