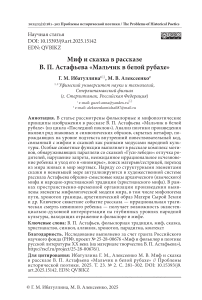Миф и сказка в рассказе В. П. Астафьева «Мальчик в белой рубахе»
Автор: Ибатуллина Г.М., Алексеенко М.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены фольклорные и мифопоэтические принципы изображения в рассказе В. П. Астафьева «Мальчик в белой рубахе» (из цикла «Последний поклон»). Анализ поэтики произведения выявил ряд знаковых и символических образов, скрытых метафор, порождающих на уровне подтекста внутренний повествовательный код, связанный с мифом и сказкой как разными модусами народной культуры. Особые сюжетные функции выполняет в рассказе комплекс мотивов, обнаруживающих параллели со сказкой «Гуси-лебеди»: отлучка родителей, нарушение запрета, неожиданное иррациональное исчезновение ребенка и уход его в «иномирье», поиск матерью/сестрицей, переход из мира живых в мир мертвых. Наряду со структурными элементами сказки в неменьшей мере актуализируются в художественной системе рассказа Астафьева образно-смысловые коды архаического (языческого) мифа и народно-христианской традиции (христианского мифа). В рамках пространственно-временной организации произведения выявлены элементы мифологической модели мира, в том числе мифологема пути, хронотоп границы, архетипический образ Матери Сырой Земли и др. Ключевое сюжетное событие рассказа — иррациональная трагическая смерть невинного ребенка — получает возможность экзистенциально-духовной интерпретации на глубинных уровнях народной культуры, находящих отражение в фольклоре и мифе.
В. П. Астафьев, фольклорная традиция, миф, сказка, христианство, символ, аллюзия, хронотоп, парадигма, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/147248217
IDR: 147248217 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15142
Текст научной статьи Миф и сказка в рассказе В. П. Астафьева «Мальчик в белой рубахе»
«Последний поклон» В. П. Астафьева — книга уникальная не только в силу своей полифонической жанровой природы, но и в силу того духовно-философского и культурологического синтеза, в котором получил воплощение опыт народной российской жизни изображаемой здесь эпохи — опыт одновременно самобытно-национальный и универсальный, общечеловеческий. В художественном мире произведения этот экзистенциальный синтез находит отражение в единстве фольклорных и мифологических форм восприятия реальности и путей воссоздания образа мира и человека, причем миф здесь существует в двух своих базовых для народной культуры модусах — архаическом/языческом и народно-христианском. В астафье-ведении существует ряд работ, обращенных к исследованию данных аспектов поэтики «Последнего поклона» (см., например: [Железова], [Калимуллин], [Канева], [Матыушова], [Неверович]), однако он не столь велик, а рассказ «Мальчик в белой рубахе» в этом плане оставался практически вне круга внимания литературоведов.
Отмеченное духовно-эстетическое единство фольклорных и мифологических мотивов и в то же время их отчетливую художественную дифференциацию мы обнаруживаем уже в первом рассказе, открывающем цикл В. П. Астафьева и носящем во многом программно-знаковое название — «Далекая и близкая сказка» (исследованию архетипического сюжета рассказа была посвящена работа одного из авторов данной статьи, см.: [Ибатуллина]). Заданный этой своеобразной художественной прелюдией «Последнего поклона» образно-смысловой вектор, ориентирующий на фольклорно-мифологические формы ми-росознания, находит затем воплощение во многих других произведениях цикла, в том числе и в рассказе «Мальчик в белой рубахе».
Миф и фольклор проявлены в произведении разноплано-во, как в вербально выраженных, непосредственно данных в слове образах и мотивах, так и на уровне внутренних художественных кодов, требующих специальной экспликации и интерпретации. Так, например, первый названный ряд представлен через упоминание сакральных дат народного календаря, ритуальных традиций (Ильин день, родительский день, похороны), бытовую мифологию (суеверия сельских старух), народно-поэтическое слово («не ведала, не знала она», «попили студеной водицы» и т. п.). В фокусе нашего внимания прежде всего явления второго ряда — образные и мотивные структуры, генерирующие ассоциативно-символический подтекст повествования.
Следует отметить, что само повествование в рассказе, как и в цикле Астафьева в целом, строится также двупланово: с одной стороны, здесь отчетливо задана установка на факто-графичность (иногда почти очеркового характера), объективную реалистичность изображения; с другой — столь же очевидным образом — авторское сознание ориентировано на создание особого условно-символического пространства текста, многократно обогащающего возможности интерпретации изображаемого. Поэтому фольклорно-мифологические элементы существуют в произведении и как конкретные факты народной жизни, и как художественные коды и структуры, подключающие эти факты к смысловому универсуму «большого времени» (М. М. Бахтин) культуры.
Подобная двуплановость, актуализация фольклорно-мифологической семантики в узнаваемых социально-исторических реалиях, обнаруживается уже с первых строк «Мальчика в белой рубахе»:
«В том же тридцать третьем году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда» [Астафьев: 124].
Предыдущий рассказ цикла — «Ангел-хранитель» — начинался такой же хронологической маркировкой:
«В тридцать третьем году наше село придавило голодом» [Астафьев: 105].
Тридцать третий год, как известно, связан в истории страны не только с массовым голодом, охватившим значительную часть территории СССР в 1932–1933 гг., но и с эпохой сталинских репрессий, наиболее активно проводившихся в 30-е гг. ( в том числе, например, именно в 1933 г. была объявлена «генеральная чистка» ВКП(б) ) .
Вместе с тем в общей мифопоэтической парадигме «Последнего поклона», основные координаты которой заданы, как мы уже говорили, еще «Далекой и близкой сказкой», повторяющееся, то есть акцентированное, число три и его производные воспринимаются как образы, приобретающие фольклорно-семантические обертоны (помимо тридцать третьего года далее в рассказе встречается «троица парней» [Астафьев: 125], а главному герою произведения три года). Отметим, что аллю-зивно-знаковые цифровые коды проявлены и через символические коннотации других сакральных чисел: «седьмой год» [Астафьев: 124], «сорок с лишним лет минуло» [Астафьев: 128].
Разумеется, одной лишь числовой маркировки было бы недостаточно, чтобы увидеть в тексте отсылки к фольклорномифологическим контекстам. Более значимо, что сюжетная завязка «Мальчика в белой рубахе», а затем и ряд других образных элементов и мотивов выстраиваются в соответствии с логикой повествования народной сказки, в том числе с системой функций и художественных структур, описанных В. Я. Проппом в «Морфологии волшебной сказки» [Пропп].
Так, например, в рассказе Астафьева отчетливо выявляется мотив «отлучки» родителей/матери: сначала говорится о том, что в шести верстах от села «страдовала тетка Апроня , оставив дома ребятишек» [Астафьев: 124], затем мы узнаем, что троица братьев, «стосковавшаяся по родителям » [Астафьев: 125], отправляется в путь1. В данных эпизодах обозначена аллюзив-но и сказочная функция нарушения запрета; хотя сам запрет вербально в тексте не озвучен, но подразумевается, поскольку перед нами типичная ситуация, узнаваемая как в контекстах народных сказок, так и в реальной повседневной жизни: маленькие дети, оставленные дома одни, не должны его покидать. Еще одно нарушение запрета, значимого в контекстах фольклорно-мифологической традиции, встречается чуть позже, когда мальчики, выбравшись из дикого леса, «долго еще оборачивались <…> назад, на тайгу, на ущелье» [Астафьев: 125]: запрет «не оборачиваться назад» характерен для архаических культурных к одов многих народов.
Отчетливые фольклорные параллели имеют, конечно, и образ «трех братьев», и мотив пути-дороги, ведущей героев из обжитой человеческой повседневности в мир неведомый, приобретающий черты мифологического иномирья. Возникает здесь также образ сказочного клубка, указывающего путь:
«Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем — в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы» [Астафьев: 125].
Сама дорога проходит через тайгу (фольклорный «дремучий лес»), горы и представляет собой множество препятствий, подвергающих мальчиков, как и в сказке, испытаниям. «Лес в сказке вообще играет роль задерживающей преграды» [Пропп: 151]; «лес окружает и н о е ц а р с т в о, а дорога в иной мир ведет сквозь лес» [Пропп: 152]. Образ «раскаленного ущелья», упоминаемого в тексте рядом с «горной речкой» [Астафьев: 125], ассоциативно порождает параллели с «огненной рекой» — такой же архетипической для сказки преградой, встающей на пути героев.
В целом начальные эпизоды рассказа, включая завязку и дальнейшее развитие событий, обнаруживают отчетливые анлогии с известной народной сказкой «Гуси-лебеди»2, которую анализирует В. Я. Пропп в «Морфологии волшебной сказки» [Пропп: 73–75]. С этой сказкой коррелируют в «Мальчике в белой рубахе» не только мотивы отлучки родителей и нарушения запрета детьми, но и ключевой для обоих текстов образ маленького мальчика: «похищенного», потерянного — сестрой/ братьями; ушедшего/уведенного в иномирье. Знаковыми становятся и семантические коннотации, связанные с белым цветом, — «белая рубаха» героя и белые крылья «гусей-лебедей». Белый цвет в архаической традиции, как известно, амбивалентен: связан с мифологемой умирания — воскресения, оппозицией жизни и смерти, в целом — с семантикой перехода; это цвет и савана, и пеленок новорожденного, соответственно, белая рубаха мальчика в рассказе Астафьева — знак пересечения границы между миром земным и потусторонним. Отметим, что «белая рубаха» имеет и другие символические отсылки — к христианским представлениям о белых крыльях ангелов, образы которых непосредственно репрезентированы в произведении: «Взял его, невинного и светлого, к себе во слуги-ангелы Господь Бог» [Астафьев: 127], — однако о христианских контекстах рассказа речь пойдет ниже.
Значим для развития сюжета и в сказке «Гуси-лебеди», и в повествовании Астафьева мотив забывания/засыпания: в фольклоре эти состояния нередко воспринимаются как взаимозаменяемые и подобные друг другу. Кроме того, по Проппу, «засыпание <…> немедленно влечет за собой смерть» [Пропп: 173], что, соответственно, мы обнаруживаем в обоих текстах. Несмотря на то, что «Гуси-лебеди» завершаются благополучным исходом, герои также оказываются в загробном мире, когда попадают к Бабе-яге, хозяйке царства мертвых (интерпретацию образа Бабы-яги см.: [Пропп: 146–203]). Мотивы забывания/засыпания в этих произведениях связаны со старшими — братьями или сестрой: « Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил»; «когда братья сморенно заснули под навесом» [Астафьев: 126]; « дочка забыла , что ей при-казывали»3.
Забывание (засыпание), как мы видим, контаминируется здесь у Астафьева с другой сказочной функцией — обмана/ уловки. Не только в данном случае, но и говоря о повествовательной парадигме рассказа в целом, можно констатировать, что она строится на множественных семантических взаимо-отражениях с народной сказочной традицией. Перед нами не клонирование сказочных схем, а сложная художественнорефлексивная система поэтики, живущая в диалоге с образносмысловым универсумом народной сказки.
Примером подобных взаимоотражений можно считать также параллели с традиционной сказочной ситуацией, где сон старших братьев приобретает сюжетопорождающее значение («Иван — крестьянский сын и Чудо-Юдо», «Сивка-бурка» и др.); и в сказках, и в рассказе самые важные события происходят, когда старшие братья спят. Еще один пример — образ самого Петеньки, в котором, в изображении Астафьева, контурно обозначены сказочные мотивы не только младшего сына/брата, но и «чудесного младенца». Несмотря на голодное время, трехлетний мальчик («Петеньке и четырех еще не минуло» [Астафьев: 125]), как маленький богатырь, крепок телом: «А он такой тяжелый — долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным» [Астафьев: 125]. К тому же отметим, что ребенок оказывается не по возрасту инициативным и самодостаточным в ситуации «выбора путей».
Коннотативно-аллюзивно обнаруживается в герое и первообраз фольклорного Дурака4 (нередко в сказке это тоже младший сын), отправившегося искать счастья «куда глаза глядят» и попадающего в «иное царство»5. Петенька назван «малым», «несмышленышем» [Астафьев: 127], у него, как и у сказочного Дурака, отсутствует выраженное индивидуально-личностное начало6: «У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища» [Астафьев: 127].
В рассказе Астафьева с удивительной тонкостью обыгрывается на уровне подтекста упомянутая сказочная ситуация, когда Дурак отправляется в путь, не ставя перед собой каких-либо рационально выстроенных целей. Реализация метафоры «куда глаза глядят» происходит в эпизоде, где Петенька высматривает на горизонте поле, на котором «страдовала» его мать:
«…он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет закатывающегося к вечеру солнца, высмотрел желтую полосу и потащился туда» [Астафьев: 126].
В результате «буквализации» сказочной образной ситуации ее смысл приобретает у Астафьева, на первый взгляд, диаметрально противоположный характер: герой определяет цель своего путешествия, однако, в конечном итоге, он также ока зывается на п ути в «неведомое».
Вернемся к сопоставительному анализу «Мальчика в белой рубахе» и сказки «Гуси-лебеди», выявляющему и другие знаковые параллели между ними. Так, образ молочной реки с кисельными берегами аллюзивно отражается во фрагменте рассказа, описывающем « дымящуюся в скалистом провале чистоводную Ману, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-пресладкой воды» [Астафьев: 125]. Исчезновение мальчиков и в том и в другом произведении носит акцентированно неожиданный и отчасти иррациональный характер; реакция и поведение героинь — матери Петеньки и сестрицы из сказки — также обнаруживают прозрачнозеркальные аналогии. В сказке «Гуси-лебеди»:
«Пришла девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери, — братец не откликнулся! Выбежала в чистое поле…»7.
В рассказе Астафьева:
«Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжко уставшего человека» [Астафьев: 126];
«Как там малый-то наш, несмышленыш-то, без матери живет-поживает?
— А он к тебе ушел…
Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не обез-голосила и не свалилась без сил наземь» [Астафьев: 127].
В сказке иррациональные силы, уводящие мальчика в неведомый потусторонний мир, инкарнированы в образах загадочных гусей-лебедей, состоящих в услужении у Бабы-яги. Иррациональные обертоны в истории Петеньки подчеркнуты загадочностью и необъяснимостью его бесследного исчезновения:
«Колхозная бригада рыскала по всем окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли, ка пельку крови нигде не увидели» [Астафьев: 127].
Однако, в отличие от сказки, антагонист героя здесь так и остается неузнанным. Хотя мать мальчика пытается найти и идентифицировать «вредителя» (термин В. Я. Проппа) среди «злых» соседей, авторский комментарий тут же развенчивает подозрения, возникшие в ее потрясенном горем сознании.
Таким образом, корреляции рассказа Астафьева с художественными парадигмами народной сказки проявлены вполне отчетливо как на уровне вербально оформленного повествования, так и на уровне внутренних символических кодов произведения через ряд знаковых деталей, отсылок, аллюзий. Вместе с тем развитие повествования в рассказе и логика формирования его символического подтекста не ограничиваются ориентацией на народную сказку, существенную роль здесь играют принципы изображения, характерные для архаического мифа. При этом, следует отметить, некоторые образы и мотивы, как, например, упоминавшийся выше архетип «чудесного младенца», инвариантно связаны и со сказкой, и с мифом. Это касается и хронотопа пути-дороги.
Путь мальчиков в описаниях Астафьева наделен чертами не только фольклорно-сказочными, но и собственно мифологическими. Сказка, как правило, не детализирует маршрут персонажа и не локализует топографически образы природных стихий, чаще обходясь традиционными формулами — «долго ли коротко ли шел Иван-царевич…»; «семь башмаков железных истоптал…» и т. п. В то же время, сделаем оговорку, сами образы первостихий — например, «огонь, вода и медные трубы» — нередко находят отражение в сказочных контекстах, сохраняющих в себе память мифа.
У Астафьева мифологизированные координаты путешествия героев неоднократно актуализируются через знаковосимволические мотивы, связанные с природными первоэлементами и с локусами, уходящими в сферы Хаоса:
«На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами; затем — таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но дополна раскаленного острого камешника, принесенного потоками во время вешневодья, миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок» [Астафьев: 125].
Здесь представлены, по сути, образы всех мифологических первостихий — воды, земли, огня, воздуха, — причем в их дисгармоничном, неупорядоченном, «перемешанном» состоянии, в каком они существуют в царстве Хаоса и какое оказывается губительным для всей земной жизни, кроме самих хтонических существ — ящериц и змей. Дважды упомянутое «ущелье» с акцентированными хтоническими деталями в его описании воспринимается как топос, связанный с мифологическим Нижним миром8.
Прочитывается в описаниях Астафьева и мифологизированное противопоставление образов Хаоса как сферы изначальной Тьмы и Космоса как царства Света9, в котором существует и мир человеческий:
«Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет , и хотя их мучил зной , идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студеной водицы …» [Астафьев: 125].
Природные стихии в Срединном, земном мире сохраняют свой амбивалентный, созидательно-разрушительный по отношению к человеку характер, не теряют своей силы и энергии («их мучил зной»), но здесь они уже более упорядочены, уравновешены в общем космизированном балансе: «попили студеной водицы».
Как мы уже говорили, мальчики совершают ошибку: для устойчивого сосуществования разных бытийных сфер необходимо соблюдать гласные и негласные их законы — возвращаясь в мир людей, герой мифа и сказки не должен оглядываться. Вместе с тем ошибка «ребятишек» вполне объяснима не только по логике «возрастной психологии», но и по логике мифа: они еще не достигли инициационного возраста. Ска-зочный/мифологический герой обретает надлежащее знание законов жизни лишь после посвящения, получаемого в результате инициации, через которую, как правило, проходят не ранее семи лет, а чаще всего и позже. В рассказе не случайно даже самому старшему из «мальчишек» — Саньке — «весною пошел седьмой год» [Астафьев: 124].
Преждевременная, «до сроков», инициация оборачивается трагедией, а сама эта преждевременность (экзистенциальный сбой) порождается, в изображении Астафьева, не просто человеческим недомыслием, но и общим дисгармоничным состоянием жизни, в котором нарушены естественные природнокосмические ритмы:
«Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба » [Астафьев: 124].
Сбой природных циклов в свою очередь в общем контексте «Последнего поклона», где Природа — История — Культура представлены единой экзистенциальной парадигмой, воспринимается как проекция неблагополучия и драматизма в мире человеческом (вспомним, что речь идет о тридцатых, «сталинских» годах в истории СССР).
Итак, космогонический — солярно-хтонический — миф переплетается в рассказе Астафьева с мифом космологическим, описывающим реальность как многомерное пространство, в котором базовыми являются три основных бытийных уровня: мир земной — Срединный; сферы, связанные с Хаосом, — Нижний мир; сферы горние, небесные, обладающие высшей сакральностью, — Верхний мир.
Первые два ряда образов мы здесь уже обозначили, мифологема же Верхнего мира не менее отчетливо проявлена в тексте. Во-первых, образом «Всевышнего», который парадоксально соединяет в себе христианские представления о едином Боге («Взял его, невинного и светлого, к себе во слуги-ангелы Господь Бог…» [Астафьев: 127]) и функции сказочного «помощника», без чудесного участия которого путешествие мальчиков было бы невозможно:
«Каким образом шла троица парней, где сил набралась и бесстрашия — объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но скорее всего — смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью» [Астафьев: 125].
(Отметим, что здесь в двойной мотивировке этого рационально необъяснимого «чуда» вновь отражена двуплановость астафьевского повествования, интегрирующего в себе мифопоэтические и реалистические принципы изображения.) Во-вторых, образ мира Верхнего, горнего, становится заключительным аккордом всего рассказа в его финале:
«…ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе…» [Астафьев: 128].
Напомним, что данная троичная модель реальности актуальна не только для архаических, языческих по своей сути, мифов, но и для мифа христианского. Как известно, внутреннее единство этих форм мировосприятия находит отражение и в русской фольклорной традиции, в основе которой обнаруживается феномен «народного двоеверия» / «народного христианства»10. Подобный синтез характерен и для «Последнего поклона» Астафьева: не только в рассказе «Мальчик в белой рубахе», но и в других произведениях цикла мы видим органичное взаимопроникновение языческих и христианских мотивов, так что их интеграция в результате не нарушает, а усиливает общую целостность мироощущения.
Сделаем оговорку, что троичная структура реальности сосуществует в художественной парадигме рассказа с другой, такой же семиотически значимой мифологической моделью мира — двоичной. Эта модель предполагает дифференциацию двух планов бытия: видимого, земного (явь в славянской мифологии), и незримого, потустороннего (навь). Мы уже упоминали об этой двуплановости изображаемой Астафьевым реальности, когда речь шла о сказочных художественных кодах произведения. Река, дорога — традиционные знаки границы между данными экзистенциальными сферами, между явью и навью. Эти хронотопы и связанные с ними мотивы перехода, переправы, выбора пути выполняют смыслопорождающие функции и в фольклоре, и в мифе.
Не случайно поэтому, что еще одна мифологема, приобретающая сюжетообразующее значение в рассказе, — мифологема границы между мирами. Путь мальчика в иномирье у Астафьева представлен в буквальном смысле как путь «фронтир-ный», символически пролегающий по двойной границе между разными пространственными локусами — солярным и хто-ническим, инореальным и земным, человеческим:
«И притопал бы, да попал он в водомоину , что тянулась вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам — песок в ней и мелкая галька . Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмытому ли, обвалившемуся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве , Петенька убрел от дороги» [Астафьев: 126].
Процитированный фрагмент насыщен хтоническими мотивами — воды, земли, углубления, погружения в «нижние» сферы; в славянской мифологии вода традиционно воспринимается как граница между земным и потусторонним миром, она тесно связана с Матерью Сырой Землей, поскольку, по словам А. Н. Афанасьева, отождествляется с ее кровью [Афанасьев: 29]. Аллюзивно просвечивает в описании Астафьева на уровне ассоциативного подтекста и образ змея — одного из самых популярных хтонических существ в мифологии: очертания водомоины (тянущаяся, узкая и т. п.) приобретают заметный «змеевидный» характер. Эта скрытая метафора оттеняет амбивалентность ситуации: змея-водомоина одновременно оказывается и в роли проводника, и в роли искусителя.
Помимо этого, коннотативно обнаруживается здесь внутренняя связь между архетипом Матери и образами змея/змеи, что могло бы, на первый взгляд, вызвать удивление. Однако известно, что в глубинно-архаических славянских (а отчасти и общеиндоевропейских) традициях существуют представления и культы тотемного характера, связанные со Змеем/Зме-едевой, которых почитают как первопредков11. Примечательно, что образ Змеедевы в русской культурной традиции «уживался»
с христианским почитанием Богородицы: на некоторых зме-евиках12 с одной стороны изображалась Змеедева (Медуза Горгона), с другой — святые или даже Сама Богоматерь. Парадоксально, что комплекс мотивов, актуализированный в повествовании Астафьева и объединяющий образы змея, чудесного ребенка (причем именно мальчика), «особой» рубашки, символических крыльев, находит параллели в славянской мифологии, в частности в верованиях болгар: «Болгары считали, что змеем становится ребенок, рожденный после смерти отца13. Беременность женщины, вынашивающей змея, протекает ненормально долго: 11, 15, 20 месяцев или три года14. Ребенок-змей рождается с крыльями под мышками, от рождения обладает необычайной силой <…>. Узнав о рождении змея, ночью собирались 9 или 12 девушек или старух, молча пряли пряжу и за один день шили ему рубашку, чтобы закрыть крылья; после облачения в такую рубашку ребенок-змей получал огромную силу» [Левкиевская: 186]. Получается, таким образом, что в художественно-смысловой парадигме астафьевского текста не только Матерь Сырая Земля (Богородица, Змеедева — инварианты сакрального женского начала мироздания) принимает к себе Петеньку, но и сам мальчик в результате уподобляется сакральному существу: чудесный младенец/дитя Змея-первопредка/ангел.
В следующем после описания водомоины-змеи фрагменте текста акцентированы уже не хтонические, а, во-первых, солярные образы, во-вторых, образы, репрезентирующие косми-зированный, человеческий мир:
«Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полосу жита , где до звона в голове пропеченная солнцем , оглохшая от усталости хруско резала серпом ржаные стебли его мать, в узелке под кустиком хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранной » [Астафьев: 126].
Земная реальность также амбивалентна, в ней царит хрупкое солярно-хтоническое равновесие. Мощь природных стихий, с одной стороны, гармонизирована и соизмерена с человеческими потребностями и возможностями: хтонические энергии воды редуцированы здесь до «росы», земля — основа жизни, рождающая хлеба. С другой стороны, избыточные солярные энергии, требующие от человека предельного напряжения сил, привносят в общую картину ноты драматизма и дисгармонии.
Поэтому столь же амбивалентно и парадоксально разворачивается в этом мире история мальчика, который, направляясь к своей земной матери, теряет путь, однако в символическом плане повествования он движется в лоне Матери всего сущего, причем вектор его движения оказывается направлен одновременно и вниз, в сферы хтонические — Матери Сырой Земли, и вверх — к Отцу, Всевышнему, пребывающему в мире Верхнем и сферах солярных. Пространство высшей сакральной реальности в финальном фрагменте рассказа очерчено скрытыми метафорами, определяющими ее образно-смысловые координаты как в контекстах архаико-мифологических, языческих, так и народно-христианских. Напомним еще раз уже цитированные нами строки, где ключевыми в этом плане деталями становятся дорога «ввысь», сияющий свет и символическая белая рубаха героя (см.: [Астафьев: 128]).
Таким образом, центральное событие произведения — смерть невинного ребенка15, — выглядящее трагически-жес-токим и иррационально-бессмысленным, обретает возможность осмысления на глубинно-фундаментальных уровнях народного мировосприятия, выраженных в мифе и фольклоре. Вместе с тем в изображении Астафьева само это восприятие неоднородно. Если для сельских старух история Петеньки превращается в христианизированный миф о ребенке, обращенном в ангела, то для матери мальчика его гибель в то же время остается и трагедией, в отличие от многих других пережитых ею потерь близких людей:
«Сорок с лишним лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться маленького сына» [Астафьев: 128].
Мы видим здесь, по сути, символическую инверсию традиционного для фольклора и литературы «сиротского» сюжета: сиротой становится не дитя, а мать, потерявшая свое дитя, — прежде всего потому, что для нее это не просто физическая смерть ребенка, — она потеряла его «душу»:
«Оплаканы, преданы земле люди — значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте.
Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствах беспризорно бродит неприютная детская душа?‥» [Астафьев: 128].
И преждевременная, до сроков, смерть, и неупокоенная, непогребенная в согласии с ритуалом душа — это экзистенциальный «сбой», противоестественная, аномальная ситуация, которая порождает чувство драматизма бытия, приобретающее трагедийные обертоны. Однако, в изображении Астафьева, в общем гармоничном мифологическом многоголосии народной культуры эта ситуация контрапунктно встречается с образом состоявшегося аллюзивно-символического «погребения» героя, ушедшего/вернувшегося в лоно Матери Сырой Земли. Характерно, что здесь на уровне подтекстового кода актуализируется и одна из древнейших мифологем, отождествлявших тело покойника и младенца: во многих архаических культурах умерших хоронили в земле в позе эмбриона.
Отметим, что в системе авторского сознания в рассказе дифференцируются также разные «форматы» народного как известно, являются «обратные» сюжеты — когда ребенок теряет родителей и остается сиротой фольклорно-мифологического мышления. Первичный, укорененный в недрах коллективного бессознательного, архаический миф и память о нем, сохранившаяся в фольклоре, сосуществуют в народной культурной традиции не только с мифом христианским, но и с бытовой мифологией («Бабушка <…> кормила корову с заслонки, чтоб "заслонить" от худого глаза и хворей» [Астафьев: 124]), с суевериями (эпизод с Шариком, накликавшим, «по мнению бабушки, неминуемую беду» [Астафьев: 124]), с субъективной мифологизацией реальности (история тайного убиения Петеньки соседями, сочиненная в горести его матерью).
Астафьев, таким образом, далек от идеализации традиционного народного миросознания, однако видит вместе с тем его глубинное экзистенциальное ядро, порождающее в человеке чувство устойчивости бытия даже в ситуациях, когда нарушается природно-космическое, социальное или личностнодуховное равновесие.
Образ мальчика, подобного ангелу, — «в белой рубахе», «осиянного светом», уходящего «по горной дороге» в горний мир, — привносит в историю Петеньки и отчетливый ми-стериальный контекст, причем эти символические коннотации связаны здесь не столько с архаическими ритуальными мистериями (поскольку герой, как мы уже говорили, не достиг еще возраста инициаций), сколько с мистериями христианскими, главный итоговый смысл которых — в преодолении трагической конфликтности земного бытия человека через приобщение к миру Всевышнего. В системе авторского сознания, воплощенного в художественных парадигмах рассказа и «Последнего поклона» в целом, судьба «мальчика в белой рубахе», судьбы его односельчан вписаны в координаты не только отечественной, но и общемировой истории и культуры.