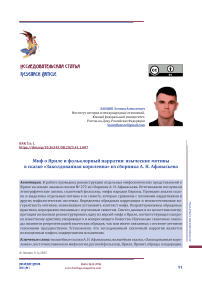Миф о Яриле и фольклорный нарратив: языческие мотивы в сказке «Заколдованная королевна» из сборника А. Н. Афанасьева
Автор: Ланцов Л.А.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Антропология культуры
Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе проведена реконструкция отдельных мифологических представлений о Яриле на основе анализа сказки № 272 из сборника А. Н. Афанасьева. Источниками послужили этнографические записи, сказочный фольклор, мифы народов Европы. Проведен анализ сказки и выделены отдельные мотивы в ее сюжете, которые сравнены с похожими нарративами в других мифологических системах. Определена обрядовая корреляция и межисточниковая когерентность мотивов, позволившие установить контекст мифа. Охарактеризованы обрядовые практики, неразрывно связанные с изученным сюжетом. Синтез данных и их целостная интерпретация позволили реконструировать одну из версий мифа о Яриле, соответствующего широко известному архетипу умирающего и воскресающего божества. Изученные сказочные эпизоды являются репрезентацией языческих обрядов, так или иначе связанных с весенне-летними сезонными празднествами. Установлено, что исследованный сказочный нарратив является полноценным мифом, подвергшимся искажению.
Волшебные сказки А. Н. Афанасьева, волшебная сказка, «Заколдованная королевна», восточнославянская мифология, русский фольклор, Ярило, Яровит, обряды плодородия
Короткий адрес: https://sciup.org/170209420
IDR: 170209420 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.007
Текст научной статьи Миф о Яриле и фольклорный нарратив: языческие мотивы в сказке «Заколдованная королевна» из сборника А. Н. Афанасьева
Введение . В современном обществе существует устойчивый запрос на реконструкцию дохристианских мифологических представлений, отражающих глубинные истоки культурного наследия. К сожалению, несмотря на обилие исследований, посвященных славянской мифологии, их все еще недостаточно для полноценного удовлетворения спроса на данную тематику. Это связано в первую очередь с актуализацией потребности в доступном изложении мифов и сюжетов о богах и героях, тогда как систематизированной информации в достаточном объеме по ряду причин не хватает. Данная работа направлена на частичное решение этой проблемы путем реконструкции элементов мифа о Яриле - одном из ключевых персонажей, ассоциирующихся с системой языческих представлений восточных славян.
В академической среде существуют различные точки зрения на персонажа, известного под именем Ярилы. А. Н. Афанасьев видел в нем «бога-оплодотворителя», представителя благодатной весны, аналогом скандинавского Фрейра [4, с. 262] и отождествлял его с «дождящим Перуном» [4, с. 265]. Подобное сопоставление связано с взглядами исследователя на славянскую мифологию, где божества в первую очередь сводились к поэтическим образам, оторванным от своей первоначальной сути: «Вначале народ еще удерживал сознание о тождестве созданных им поэтических образов с явлениями природы, но с течением времени это сознание более и более ослабевало и наконец совершенно терялось; мифические представления отделялись от своих стихийных основ и принимались как нечто особое, независимо от них существующее» [4, с. 18]. Эту аксиому мифологической теории лаконично сформулировал Ф. И. Буслаев: «Сама мифология есть не что иное, как народное сознание природы и духа, выразившееся в определенных образах» (цит. по: [28, с. 94]).
Другие исследователи считали, что Ярило - это не отдельное божество, а в первую очередь остаток культа одного из основных богов. Так, Л. С. Клейн видел в похоронах Яри-лы отголоски мифической смерти Перуна как части архетипа умирающего и воскресающего божества [11, с. 382]. Е.Л.Мадлевская рас- сматривала Ярилу в контексте обрядности XIX - начала XX в. как сезонного персонажа, связанного с земледельческим культом и воплощающего плодородие, сохраняющего отзвуки древнеславянского культа языческого божества весеннего плодородия [21, с. 129]. В. К. Соколова полагал, что между Ярилой и Купало можно поставить знак равенства, с тем лишь отличием, что последнее название «более позднее, появившееся у восточных славян, когда праздник, как и у других христианских народов, был приурочен ко дню Иоанна Крестителя» [25, с. 252]. Аналогичную позицию занимал Л.С.Клейн [11, с. 331]. Е.Е.Лев-киевская воспринимала Ярило как божество, властвовавшее над плодовитостью людей и скота, урожаем на полях, плодородием почвы [13, с. 47]. В. Я. Петрухин понимал этого славянского персонажа в первую очередь как «персонификацию одного из летних праздников в славянском народном календаре» [17]. Некоторые полагают, что значение Ярилы в славянском мифологии переоценено, ссылаясь в частности на то, что один из основных источников сведений о нем - работа П.Древ-лянского «Белорусские народные предания» -является романтической мистификацией [17] и выдает фантазии самого автора за записи устного народного творчества [27].
Еще одна точка зрения опирается на так называемую демонологическую концепцию [11, с. 65], исходя из которой постулируется невозможность подобной (как в случае Ярилы) реконструкции высшей мифологии на основе фольклорных источников. Одним из главных сторонников данного подхода является Н.И.Толстой. Оппонируя его эпистемологической позиции, Л. С. Клейн пишет: «Русской мифологии просто не повезло - она не была “отражена в скульптуре, изобразительном искусстве” и т.д. Русская мифология - не мифология без мифов, а только без записей этих мифов. Но все явления, приводимые Толстым как специфические, на которых славянская мифология основана якобы в отличие от классических - одухотворение сил природы, культ предков, культ домашнего очага и т.д.,- все они также имелись и в римской, греческой, германской и других мифологиях. А то, чем были богаты те мифологические системы, в русской все-таки присутствует - следами и остатками. Дело за тем, чтобы их обнаружить, и за реконструкцией по следам, остаткам и аналогиям» [11, с. 68]. Именно анализу подобных «следов, остатков» и будет посвящена данная статья.
Отсутствие работ, сфокусированных на анализе сказочного фольклора с целью реконструкции мифологических воззрений о Яриле, говорит о слабой изученности данной темы, поэтому целью исследования является реконструкция мифа об этом ритуальнообрядовом персонаже на основе этнографических и фольклорных источников. В частности, объектом данного исследования является сказка «Заколдованная королевна» из сборника А.Н.Афанасьева под № 272, которая представляется именно таким «остатком» мифологических воззрений о Яриле, ранее не затронутым в посвященных ему исследованиях.
Особенностью приведенной в статье реконструкции, отличающей ее от других подобных работ, будет являться ориентация на углубленный анализ сказочного фольклора, в частности, на исследуемый сказочный сюжет. Для комплексного изучения и описания данной тематики помимо сказки будут использованы и иные типы источников (мифы, этнографические записи, летописи, житие), позволяющие наиболее полно раскрыть предмет настоящего исследования. В частности, для сравнительного анализа привлечены германские, греческие и хеттские мифы. Для установления обрядовой корреляции использована научная литература и взяты этнографические записи, описывающие такие события русского народная календаря, как похороны Ярило, Егорий Вешний. В качестве средневековых источников привлечено житие епископа Оттона Бременского. В данном исследовании из источников сознательно исключены «Белорусские народные предания» П.Древлянского. В первую очередь для того, чтобы продемонстрировать, что реконструкция мифологических воззрений о Яриле возможна и без привлечения источников, вызывающих сомнения касательно их содержания.
Сказки содержат в себе куда больше мифологических воззрений, чем может показаться на первый взгляд. Как писал Л. С. Клейн, «русская мифология - особая равно в той же мере, в какой специфична мифологическая система каждого народа, и в той же мере она сопоставима с ними, обладая родственными компонентами и общими чертами» [11, с. 68]. Именно поэтому в настоящем исследовании будут применяться методы сравнительного религиоведения. Их использование необходимо не только для того, чтобы лучше раскрыть тот или иной мифологический мотив, но и за тем, чтобы продемонстрировать высокую степень их аутентичности. Так, если те или иные мотивы в сказках имеют свои аналоги в мифологиях других народов, то предположение о каких-либо влияниях, «отравляющих» фольклорный источник, попросту избыточны и, исходя из принципа бритвы Оккама, должны быть отвергнуты.
Это в свою очередь не означает, что дошедшая до нас сказка является нарративом, в полном объеме отражающим дохристианские воззрения славянских народов. Она, конечно же, представляет собой продукт своей эпохи и содержит многие сведения, экстраполяция которых на более ранние эпохи не представляется возможной. Помимо сравнительного метода будут использованы и другие инструменты для комплексного анализа данной тематики.
Если сказка является искаженным мифом, то обряды, зафиксированные в этнографических источниках, текстовая взаимосвязь которых установлена, должны выступать репрезентацией самого повествования. Это в настоящем исследовании будет называться обрядовой корреляцией. Данное положение следует применить и по отношению к более ранним источникам - летописям, хроникам, житиям и т.д. Языческие фрагменты, известные нам из средневековых источников, являются частью славянской мифологии и потому должны отражать тот или иной аспект реконструируемой мифологемы, если она касается аналогичной или смежной тематики. Источником таких фрагментов могут являться и упоминавшиеся выше обряды. В настоящем исследовании это будет называться ме-жисточниковой когерентностью.
Структура работы на начальном этапе предполагает детальный анализ сказки А.Н.Афанасьева «Заколдованная королев-
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE
на» и выделение в ее сюжете отдельных мотивов. Затем каждый мотив в отдельности предполагается сравнить с похожими нарративами в других мифологических системах. Подобный анализ покажет, что объект исследования - сказка «Заколдованная королевна» - является полноценным мифом, хотя и искаженным в ряде аспектов. Далее применительно к этим же мотивам будет определена обрядовая корреляция и межисточниковая когерентность, о которых упоминалось выше. Это позволит установить контекст мифа, находящегося в системе русской традиционной культуры. В результате синтеза данных и их целостной интерпретации будет осуществлена реконструкция упомянутой сказки как мифа о Яриле. Таким образом, подытоживая методологические рассуждения, можно отметить, что инструментарий настоящего исследования включает сравнительный, историкогенетический, типологический, а также системный методы анализа и синтеза данных.
Представляется, что проведенная в данном исследовании реконструкция дополнит перечень оснований для включения восточнославянской мифологии в общеиндоевропейский мифологический континуум, способствуя тем самым преодолению изоляционистских концепций и отражая сопоставимость мифологических представлений восточных славян с более документированными традициями. Обогащая новым материалом сравнительную мифологию, настоящая работа, как кажется, вносит вклад в решение проблемы интерпретации сказочного фольклора как носителя мифологических архетипов и реализует конкретную методологию «декодирования» мифологического слоя в сказочных текстах. Именно последний тезис, помимо самой реконструкции мифа, представляется одним из важнейших итогов исследования, во многом определяющим его научную новизну.
* * *
Сказка «Заколдованная королевна» приведена в сборнике А. Н. Афанасьева под № 272 [3, с. 276-280]. Место ее записи - неизвестно. В сравнительном указателе сюжетов (далее по тексту работы - СУС) [6] соответствует индексам 401 (Заколдованная (превращенная) царевна) и 518 (Обманутые черти (лешие))
[15, с. 436]. Главный герой - солдат конной гвардии, который по дороге домой заезжает в большой замок. Изрядно изголодавшись, он находит там изобилие всякого продовольствия: «В палатах стол накрыт, на столе и вина и ества, чего только душа хочет!». Утолив голод, он сталкивается с медведицей, которая оказывается заколдованной королевной. Чтобы снять с нее заклятие, необходимо переночевать в замке три ночи. Герой соглашается, но как только девица покидает его, на него набрасывается скука: «Тут напала на него такая тоска, что на свет бы не смотрел, а чем дальше - тем сильнее; если б не вино, кажись бы одной ночи не выдержал!». Герой пытается выбраться из замка, но ничего у него не получается. Вскоре возвращается заколдованная королевна, и они женятся. Однако на этот раз герой начинает тосковать по своей родной стороне и изъявляет желание вернуться домой. Королевна же его отговаривает, но у нее ничего не получается.
Аналогичный эпизод можно обнаружить в мифе об Амуре и Психее. Для демонстрации сходства следует выделить в повествовании четыре основополагающие категории, которые будут присутствовать в обоих текстах.
Первая категория - это пространство развития сюжета. В мифе об Амуре и Психее локус представлен как одиноко стоящий замок / дворец с изобилием яств: «И тотчас вина, подобные нектару, и множество блюд с разнообразными кушаньями подаются, будто гонимые каким-то ветром, а слуг никаких нет. Никого не удалось ей увидеть, лишь слышала, как слова раздавались, и только голоса имела к своим услугам» [1, с. 173]. Вторую категорию можно охарактеризовать как наличие «супруга-чудовища-оборотня»: «Вспомни предсказания пифийского оракула, что провозвестил тебе брак с диким чудовищем» [1, с. 181]. Впоследствии в ходе развития сюжета оказывается, что дикое чудовище есть не кто иной, как прекрасный бог любви - Амур. В случае же русской сказки медведица по истечении срока превращается в прекрасную королевну [3, с. 276]. Третья категория - это предостережение, которое дается супругом или супругой и заключается в том, чтобы не покидать чудесный замок или дворец: «Сестры твои, счи- тающие тебя мертвой и с тревогой ищущие следов твоих, скоро придут на тот утес; если услышишь случайно их жалобы, не отвечай им и не пытайся даже взглянуть на них, иначе причинишь мне жестокую скорбь, а себе верную гибель» [1, с. 174]. Четвертая категория - это невыносимая тоска, наступившая после ухода супруга, которая и становится одним из катализаторов дальнейшего развития сюжета - нарушения просьбы остаться в доме. В греческом мифе она выглядит следующим образом: «Она кивнула в знак согласия и обещала следовать советам мужа, но, как только он исчез вместе с окончанием ночи, бедняжка весь день провела в слезах и стенаниях» [1, с. 174]. Эти и подобные параллели в дальнейшем говорят не о заимствованиях, а об общности мифологического континуума. Далее, в ходе развития сюжета будет показано, что главный герой - это божество плодородия Ярило. Он, заточенный в замке прекрасной королевны, подобен Персефоне, украденной Аидом и помещенной в его царство. По мнению Дж. Фрэзера, Персефона в греческом мифе о ее похищении является аллегорией растительности, молодым зерном, находившимся под землей определенный промежуток времени [29, с. 371]. В случае русской сказки аналогичное описание следует применить к Яриле. Более полно этот образ и лейтмотив всего повествования раскроется в дальнейшем.
Не в силах отговорить супруга, королевна дает ему волшебный предмет: «Прощается она с мужем, дает ему мешочек - сполна семечком насыпан, и говорит: “По какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя: где оно упадет, там в ту же минуту деревья повырастут; на деревьях станут дорогие плоды красоваться, разные птицы песни петь, а заморские коты сказки сказывать”» [3, с. 277]. Собственно, репрезентацией этого мотива является обряд посевания. Однако связь не столь очевидна, как может показаться на первый взгляд. Этот эпизод мог быть приурочен к конкретному празднику, когда начинали сеять хлеб. К таким возможным датам относится, например, Егорий Вешний, когда в некоторых местностях начинался посев [16, с. 18]. Именно на этот день укажет и другой мотив, находящийся в конце сказки. Таким об- разом, данный мотив следует воспринимать, скорее, как предписание к началу пашни, что, впрочем, не отменяет его связи с вышеуказанным обрядом. Так или иначе, об этом аспекте будет сказано в дальнейшем.
Идя по лесу, герой находит играющих в карты нечистых в образе купцов рядом с горящим без огня волшебным котлом. Волшебный котел встречается в мифологии как мотив у других народов, в частности у кельтов. Так, у бога Дагда был котел изобилия - один из главнейших артефактов племени богини Дану [15, с. 346]. По всей видимости, репрезентацией этого сказочного эпизода являются приготовления к празднованию Ярилы: «После обеда все шли на берег реки или озера, женщины несли котелки с яйцами; на берегу разводили костры и варили яйца, их обычно красили луковыми перьями» [25, с. 251]. Если такая связь верна, то становится понятно, почему эти купцы-нечистые играют в карты. Эта деталь явно более позднего происхождения и могла появиться вследствие того, что само времяпровождение накануне праздника менялось и в уже измененном виде оказало влияние на текст повествования. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что подобная трансформация может являться не искажением, а мифологической метаморфозой.
Герой сказки хвастается перед нечистыми волшебным мешком: «Вынул из мешка одно зернышко и бросил наземь - в ту же минуту выросло вековое дерево, на том дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты сказки сказывают» [3, с. 277]. Они узнают в нем избавителя заколдованной королевны и решают опоить его волшебным зельем, от которого герой погружается в сон на полгода .
Природа реагирует на сон персонажа и начинает увядать: «Вскоре после того вышла королевна в сад погулять; смотрит - на всех деревьях стали верхушки сохнуть. “Не к добру! -думает. - Видно, с мужем что худое приключи-лося! Три месяца прошло, пора бы ему и назад вернуться, а его нет как нету!”» [3, с. 277]. Героиня отправляется по той тропе, по которой шел герой (где еще растут деревья, поют птицы) и таким образом находит его спящего у чудесного дерева.
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE
Королевна пытается разбудить своего мужа (толкает, щиплет, колет булавкой), но он так и не просыпается. В сердцах она произносит проклятье: «Чтоб тебя, соню негодного, буйным ветром подхватило, в безвестные страны занесло!» [3, с. 277]. Сказанные слова тотчас же исполняются: «А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за тридевять земель, в тридесятое государство, и бросило на косе промеж двух морей» [3, с. 277]. В русской традиционной культуре существовало верование в роковое время, «лихую минуту», когда сказанное проклятье сбывается. Оно могло быть приурочено к различным переходным стадиям суточного цикла, будь то рассвет или закат, полночь или полдень [5]. В сказке отсутствуют какие-либо упоминания, позволяющие соотнести момент произнесения злого слова и так называемый «недобрый час». Однако поскольку мы имеем дело с мифом, то само это событие могло быть интерпретировано как возникновение того самого рокового времени, приводящего к осуществлению проклятия. Как-либо подтвердить это предположение, по крайней мере в рамках данного сюжета, не представляется возможным.
Теперь следует вспомнить, что сон героя длится полгода. Репрезентацией этого мотива являются похороны Ярилы. Его погребали с «плачем и воем» [23, с. 759], женщины подходили к гробу и «плакали голосом» [12, с. 365], но при этом само празднование сопровождалось весельем [7, с. 41]. По мнению В. Я. Проппа, «все эти знаки почтения, траура, горестное пение и причитания носят нарочито притворный и иногда фарсовый характер» [20, с. 98]. Представляется очевидным, что крестьяне, справляющие обрядовые действа, в полной мере не могли отрефлексировать существующую традицию в связи с ее забвением и медленной деконструкцией. Наличие столь различного эмоционального фона свидетельствует скорее о том, что аутентичным было празднование и веселье, а траур возник вследствие ассоциации похоронной процессии с оплакиванием умершего.
Поскольку данный миф носит отчасти цикличный характер, то смерть Ярилы есть манифестация естественного порядка вещей, знаменующая грядущее возвращение. Смерть божества есть всего лишь сон, эти явления в рамках русской традиционной культуры часто отождествляются. Так, в сказках широко распространен мотив, где герой оживает после обрызгивания его мертвого тела живой водой: «Начали его лечить, живой водой вспрыскивать. Иван-царевич встал: “Ах, моя милая невеста! Как долго я спал”.- “Спать бы тебе вечным сном, кабы не я!” - отвечала невеста и рассказала все, что с ним мать сделала» [3, с. 91].
Далее герой оказывается на высокой горе «верхушкою до облаков хватает, а на горе лежит большой камень» [3, с. 278]. На этой горе между собой дерутся три черта за отцовское наследство: ковер-самолет, сапоги-скороходы и шапку-невидимку. Они просят солдата поделить наследство между ними. Тот отправляет их собрать в сосновых лесах 300 пудов смолы и, забрав из пекла самый большой котел, растопить в нем эту смолу. Затем они, дотащив котел до вершины горы, должны полить ее смолой, спихнуть большой камень и бежать наперегонки за ним. Кто первый добежит - тот и выбирает волшебный предмет, который ему захочется. Этот мотив широко распространен в восточнославянском фольклоре (СУС 518) [6], но имеет ряд оригинальных эпизодов. Обычно герой три раза стреляет из лука в разные стороны и отправляет наследников на поиски стрел. Кто принесет ее быстрее, тому достанется более ценное наследство [2, с. 209].
Для понимания этого оригинального мотива следует обратиться к скандинавской мифологии. Согласно текстам Эдд, в Нифелхейме протекает поток Хвергельмир («Кипящий котел») из которого протекает множество рек, включая реку смерти Гьёлль [24, с. 20]. В нем же обитает Нидхёгг: «Но хуже всего в потоке Кипящий Котел: “Нидхёгг там гложет трупы умерших”» [24, с. 94]. Это место называется также Берег Мертвых [26, с. 13]. Через реку мертвых проложен мост Гьяллар-бру, по которому Хермод пробирается в мир мертвых [24, с. 84].
Аналогами моста Гьялларбру и реки Гьёлль в русской традиционной культуре выступают Калиновый мост и река Смородина, название которой, по наиболее распространенному мнению, производят из корня
«смрад» («смород») - «сильный, неприятный, удушливый запах» [30, с. 184]. Она является границей между миром живых и миром мертвых [19, с. 445]. В сказке «Иван Быко-вич» из сборника А.Н.Афанасьева есть описание этой реки, где должна произойти битва с Чудо-Юдами на Калиновом мосту: «Приезжают к реке Смородине; по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет навалено! Увидали они избушку, вошли в нее - пустехонька, и вздумали тут остановиться» [2, с. 227]. Река Смородина в других фольклорных источниках может фигурировать как черная [30, с. 184]. Следует отметить, что в других версиях сказки типа «Битва на Калиновом мосту» перед избушкой следует произнести заветную сказочную форму: «Осмотрелся кругом - около моста избушка на курьих ножках, на петуховой головке, к лесу передом, а к ним задом. Буря-богатырь и закричал: “Избушка, избушка! Устойся да улягся к лесу задом, а к нам передом”» [2, с. 218].
По мнению В.Я.Проппа, сказочная избушка Бабы-Яги - это сторожевая застава на границе мира живых и мира мертвых. Герой сказки не может просто обойти эту избушку, ему обязательно необходимо произнести заклинание, так как двери изначально обращены в тридесятое царство - царство смерти [19, с. 248]. В Старшей Эдде упоминается, что у «змеиного дома» двери расположены на север, со стороны царства мертвых - Хельхейма:
Видела дом, далекий от солнца, на Береге Мертвых, дверью на север; падали капли яда сквозь дымник, из змей живых сплетен этот дом
[26, с. 13].
Таким образом, в скандинавской и русской мифологиях наблюдается ряд схожих мифологем, связанных с представлениями о реке смерти: река Гьёлль - река Смородина, мост Гьялларбру - Калиновый мост, змей Нид-хёгг - змей Чудо-Юдо, «змеиный дом» с дверьми на север возле реки на Берегу Мертвых -дом Бабы-Яги возле реки Смородины.
Исходя из ряда общих мифологических черт, следует предположить, что и кипящий котел, из которого льется смола в сказке «Заколдованная королевна» является аналогом скандинавского Хвергельмира («кипящего котла»), из которого, в том числе, вытекает огненная река. Если это так, то смола, вытекающая из самого большого котла в пекле, есть прямое описание огненной реки, а сам эпизод в контексте сказки является мифом о происхождении реки Смородины.
Далее сказочный герой забирает у чертей волшебные предметы и отправляется в избушку к Бабе-Яге, чтобы спросить у нее, как ему отыскать свою супругу. Однако она не знает и отправляет героя к своей старшей сестре на край света: «наконец прилетел на край света, стоит избушка, а дальше никакого ходу нет - одна тьма кромешная, ничего не видать!» [3, с. 178–179]. Это является вполне традиционным описанием края света. Подобное, например, присутствует в скандинавской мифологии, в мифе о путешествии Торкилля (Тора) в царство Угардилока (Утгард-Локи): «Они отправились в путь и приплыли в страну, над которой никогда не бывает солнца, которая не знает звезд и которую не наполняет свет, в страну, которая покрыта мраком вечной ночи» [22, с. 315].
Чтобы помочь герою и узнать, где находится королевна, Баба-Яга созывает ветра. (Ей и избушке, локусу ее обитания, в сказочном фольклоре посвящено немало исследований, в данном случае Баба-Яга выступает в роли духа-хозяина ветров - волшебных помощников). Никто из ветров, кроме Южного, не может помочь. Он же с опозданием приходит и рассказывает, где найти королевну: «Виноват, бабушка! Я зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна; муж у ней без вести пропал, так теперь сватают ее разные цари и царевичи, короли и королевичи» [3, с. 279].
Солдат просит Южный ветер отнести его к супруге, и тот соглашается, но с одним условием: «Я тебя донесу, коли дашь мне волю погулять в твоем царстве три дня и три ночи», герой же разрешает ему гулять по своему царству «хоть три недели» [3, с. 279]. Южный ветер доносит солдата до его царства, но не остается там на оговоренный ранее срок, дабы не навредить: «Потому - если я загуляю,
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE
ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется; все вверх дном поставлю!» [3, с. 279]. Этот эпизод был, по всей видимости, связан с персонификацией розы ветров определенного календарного периода, когда наступает потепление. Возможно, речь идет о 6 марте, в народном календаре названном Тимофеем-Весновеем, когда ожидали прихода теплых, южных ветров [16, с. 131].
В контексте этого эпизода интересным представляется поверие о весенних ветрах, дующих из ясеня и разбивающих почки деревьев [4, с. 259]. Аналогичный мотив, где герой использует ветра для передвижения можно обнаружить в хеттской мифологии, где Кумбара обратился к Импалури со словами: «О Импалури! Слова, которые я говорю тебе, к моим словам склони свое ухо! Возьми посох в свои руки, надень быстрые ветры как обувь на твои ноги!» [14, с. 187]. Интересно, что сапоги-скороходы, аналогом которых являются сандалии Гермеса - в данном сюжете героем приобретаются, но не используются, поскольку аналогичные функции выполняет ковер-самолет и южный ветер. Этот же мотив присутствует и в уже упомянутом выше мифе об Амуре и Психее: «Психею же, боящуюся, трепещущую, плачущую на самой вершине скалы, нежное веяние мягкого Зефира, всколыхнув ей полы и вздув одежду, слегка подымает, спокойным дуновением понемногу со склона высокой скалы уносит и в глубокой долине на лоно цветущего луга, медленно опуская, кладет» [1, с. 171].
Здесь можно обнаружить одну интересную черту различия. Дело в том, что в греческой мифологии именно бог западного ветра Зефир обладает «плодоносными» функциями. Так, у Плиния Старшего можно встретить следующую садоводческую рекомендацию: «Этот ветер, однако, приносит небольшие дожди; фавоний суше; он дует со стороны, противоположной к тому с равноденственного запада и называется у греков zephyros. Катон советовал разбивать оливковые сады таким образом, чтобы они были обращены в его сторону. С его появлением начинается весна; со своей здоровой прохладой открывается лоно земли, и по его появлению определяют, когда обрезать лозы, пропахивать хлеба, сажать деревья, прививать яблони, обрабатывать оливковые сады; дыханием своим он питает все» [10, с. 281]. В случае же славянской мифологии «плодоносными» функциями обладает именно южный ветер. Данное свойство южного ветра, ассоциируемое с теплом, можно обнаружить и в других источниках [12, с. 464] [16, с. 131]. Эта деталь очень ценна, поскольку свидетельствует о том, что в двух мифологических сюжетах существует общий мотив, который сохраняет свою семантику (то есть функцию «плодоносного» ветра), однако персонификация этого явления отлична и детерминирована географическим положением (в случае русской сказки говорится о южном ветре, в греческом варианте - о западном). Ранее было сказано, что подобные параллели указывают, скорее, на общий мифологический континуум, а не на культурные заимствования. Если же исходить из диффузионного подхода, то данная параллель, приведенная выше, говорит о том, что если заимствование и происходило, то осуществлялось оно отнюдь не в русле профанного рассказа, но с сохранением мифологической семантики повествования, что, в свою очередь, еще раз демонстрирует мифическую основу анализируемого сказочного сюжета. Интересно и то, что после злого слова королевны сонного героя похищает вихрь, а возвращает южный ветер. И если последний в традиционной культуре наделяется положительными коннотациями, то вихрю и вихрям приписываются негативные и демонические черты. Так, согласно некоторым легендам, вихри устраивают падшие ангелы, чтобы навредить человеку [13, с. 154]. Он же считался источником болезней [21, с. 189].
Когда герой возвращается - природа вновь возрождается: «Вот пока его не было в царстве, в саду все деревья стояли с сухими верхушками; а как он явился, тотчас ожили и начали цвесть» [3, с. 279].
Итак, лейтмотивом данного повествования является так называемый миф о воскресающем и умирающем божестве плодородия. В случае данной сказки персонаж не умирает, но засыпает на полгода. Это следует сравнить с таинством элевсинских мистерий, суть которых передает Блаженный Августин, ссылаясь на Варрона: «Элевсинские мистерии це- ликом посвящены хлебу, открытому Церерой (Деметрой), и похищению Прозерпины (Пер-сефоны) Плутоном. Прозерпина же, по его [Варрона] мнению, олицетворяет плодородие семян. Неурожаи некогда заставили Землю оплакивать свое бесплодие и породили представление о том, что дочь Цереры, то есть само плодородие, была похищена Плутоном и задержана им в подземном царстве. Когда люди стали открыто сетовать по этому поводу, к ним вновь вернулось изобилие. По случаю возвращения Прозерпины воцарилась радость и были учреждены священные обряды. После этого он (то есть Варрон) сообщает, что во время мистерий учили многому, что имеет отношение исключительно к открытию земледелия» [29, с. 372].
Более того, сказка в точности передает мотив, связанный с функциональной сущностью божества плодородия, во фрагменте, где представлена речь жреца, согласно которой Яровит (Ярило) властвует над плодами земли и зеленью: «Я есть тот, кто покрывает травами луга и листьями леса; урожай с полей и с деревьев, приплод скота и все, что служит нуждам людей, находится в моей власти» [9]. Аналогичными функциями наделяется балтийское божество Пергрубрюс, которого сопоставляют с Ярилой [15, с. 302]. Эта же функция встречается и в песнях, посвященных Яриле:
Валачывся Ярыло
Па усему свету, Полю жито радзив, Людзям дзеци пладзив. А гдзе ж он нагою, Там жито капою, А гдзе же он ни зырне, Там колас зацвице...
[21, с. 127].
Отдельно стоит отметить образы птиц и котов. Ранее в сказке было сказано, что от разбросанных героем семян начинают тотчас же расти деревья, петь птицы и сказывать сказки коты. Прилет птиц в традиционной культуре связан с приходом весны [16, с. 13] и приурочен к разным дням. Так, на 17 марта, в день Герасима-грачевника прилетают грачи [16, с. 144]; на 19 марта, в Каллистов день, прилетает аист [16, с. 147]; на 22 марта, в день Сорока мучеников, прилетают жаворонки и ла- сточки [16, с. 153] и т. д. Ранее было сказано, что приход южных ветров также был приурочен к началу весны. Коты же, рассказывающие сказки в данном эпизоде, по всей видимости, являются мартовскими котами, которым именно в этот промежуток времени присуще начинать «петь» свои «серенады». Данное обстоятельство говорит о том, что действия героя по разбрасыванию семян следует рассматривать как многогранную этиологическую мифологему, охватывающую сразу несколько явлений. Здесь же следует упомянуть и то, что сон героя приводит только к засыханию деревьев, об отлете птиц и «замолкании» котов не упоминается. Поэтому говорить, что похищению вихрем героя, как и отлету птиц, есть этиологическое объяснение, можно только гипотетически.
Далее герой возвращается домой: «Входит он в большую комнату, там и сидят за столом разные цари и царевичи, короли и королевичи, что приехали за прекрасную королевну свататься; сидят да сладкими винами угощаются» [3, с. 279]. Аналогичный мотив можно обнаружить в «Одиссее», где герой возвращается к своей Пенелопе и проходит испытание с луком, предложенное верной женой для женихов [15, с. 299]. В рассматриваемой сказке в качестве такого испытания королевна задает загадку: «Была у меня шкатулочка самодельная с золотым ключом; я тот ключ потеряла и найти не чаяла, а теперь тот ключ сам нашелся. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду» [3, с. 279]. Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкою ломали свои мудрые головы, а разгадать никак не могли. Говорит королевна: «Покажись, мой милый друг!» Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял супругу за белые руки и стал целовать в уста сахарные. «Вот вам и разгадка! - сказала прекрасная королевна.- Самодельная шкатулочка - это я, а золотой ключик - это мой верный муж» [3, с. 280]. На этом сказка заканчивается. Именно Егорию Вешнему, по мнению многих исследователей [21, с. 130] [13, с. 49], унаследовавшему черты и характеристики Ярило, приписывается мотив отмыкания земли весной [16, с. 216].
Другие вариации сюжетного типа (СУС 401) в некоторых деталях сильно отличаются
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE
и требуют отдельного исследования. Однако все же сохранились некоторые детали, дополняющие данный сюжетный тип. А.Н.Афана-сьев представил еще два варианта начал данной сказки, но в них по большей части содержатся мотивы, носящие не мифологический, а бытовой характер. В контексте анализа данного сюжета нас интересует один интересный эпизод: «Вдруг поднялась сильная буря - катит огромная колесница, в двенадцать лошадей запряжена, лошади словно змеи извиваются, позади двенадцать волков, да столько ж медведей на железных цепях приковано. Быстро пронеслась колесница по полю; где росла-зеленела пшеница, там черная земля повысту-пила; не осталось ни единой былинки!» [3, с. 437]. Этот мотив расширяет и более наглядно демонстрирует семантику начального эпизода - пропажу растительности, что в очередной раз подтверждает связь данной сказки с мифологическими воззрениями об умирающем и воскресающем боге плодородия. Похожую мифологему, хоть и диаметрально противоположную по содержащейся в ней функции, можно обнаружить в скандинавских и германских мифологических воззрениях. Речь идет о Дикой охоте, по некоторым представлениям она появляется в урожайные годы, в тех же местах на поле, где проходит Роденштайнер, рожь вырастает выше обычного [8, с. 529].
* * *
В ходе проведенного исследования была детально проанализирована сказка «Заколдованная королевна» под № 272 из сборника А.Н.Афанасьева. Применение методов сравнительного религиоведения позволило прийти к заключению о том, что мотивы, сконцентрированные в изученном фольклорном сюжете, равно как и цельный сюжет, аналогичны по своей форме и содержанию мифологическим мотивам других народов мира. В частности, установлены мифологические параллели между сказкой «Заколдованная королевна» и целым рядом других мифологических сюжетов и мотивов, среди которых: миф об Амуре и Психее, история похищения Персефоны, путешествие Тора в царство Утгард-Локи, мотив Дикой охоты, хеттский миф о Кумбаре и представления кельтов о Котле Изобилия. Проделанная работа показала, что исследуемые сказочные эпизоды являются репрезентацией восточнославянских обрядов, так или иначе связанных с весенне-летними сезонными празднествами, известными как Ярило и Его-рий Вешний.
Исследование данного сюжета обнаружило его чрезвычайно глубокую семантическую нагруженность. Сравнительный анализ дает основание утверждать, что почти каждый мотив имеет свой аналог в других мифологиях и / или репрезентируется в традиционной культуре. Некоторые детали, безусловно, имеют более позднее происхождение. К их числу следует отнести эпизод с нечистыми в образе купцов, играющих в карты у костра. Однако подобные метаморфозы не оказали существенного влияния на саму суть повествования, они лишь указывают на живую изменчивость самого сюжета, его способность меняться и адаптироваться к новым реалиям. Конкретным механизмом сохранения и адаптации мифа в сказке является и сохранение его глубинной семантической структуры (архетип, цикличность, связь с плодородием) под «бытовым» слоем.
Следует задаться вопросом, есть ли какие-либо основания не называть данный рассказ мифом? Подобный аргумент действительно есть, поскольку главный герой - не мифологический персонаж, а солдат конной гвардии. Между тем под влиянием эвгемери-стической1 парадигмы миф лишился божественного персонажа, поставив на его место безликого солдата. Следовательно, восстановление имени этого персонажа и позволит нам говорить о данном нарративе как о мифе. Комплексный и, можно сказать, построчный анализ данного сюжета дает все основания утверждать, что данным персонажем является Ярило.
В настоящем исследовании была проведена реконструкция лишь одной вариации мифа о данном божестве. В русском сказочном фольклоре за рамками анализируемого сюжета обнаруживаются и другие элементы «присутствия» Ярилы. Так, например, в одной из сказок можно обнаружить теоним «Яро- вит»: «Потом приказал привести себе доброго коня, и как привели, то клал на него седелечко черкасское, подпружечку бухарскую, двенадцать подпруг с подпругами шелку шамаханского; шелк не рвется, булат не трется, яровит-ское золото на грязи не ржавеет. И как оседлал своего доброго коня, то приказал подать себе копье булатное, палицу боевую и меч-кладенец» [18, с. 129]. Этот факт свидетельствует о том, что данная тема себя не исчерпала и нуждается в дальнейшей исследовательской разработке.
Leonid A. LANTSOV
The Myth of Yarilo and Folk Narrative:
Pagan Motifs in the Tale «The Enchanted Princess»
from A. N. Afanasyev’s Collection
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE