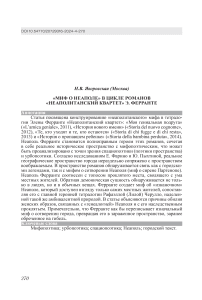"Миф о Неаполе" в цикле романов "Неаполитанский квартет" Э. Ферранте
Автор: Яворовская Н.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена конструированию «неаполитанского» мифа в тетралогии Элены Ферранте «Неаполитанский квартет»: «Моя гениальная подруга» («L’amica geniale», 2011), «История нового имени» («Storia del nuovo cognome», 2012), «Те, кто уходят и те, кто остаются» («Storia di chi fugge e di chi resta», 2013) и «История о пропавшем ребенке» («Storia della bambina perduta», 2014). Неаполь Ферранте становится полноправным героем этих романов, сочетая в себе реальное историческое пространство с мифопоэтическим, что может быть проанализировано с точки зрения спациопоэтики (поэтики пространства) и урбопоэтики. Согласно исследованиям Е. Фарино и Ю. Пыхтиной, реальное географическое пространство города нераздельно сопряжено с пространством воображаемым. В пространстве романов обнаруживается связь как с городскими легендами, так и с мифом о сотворении Неаполя (миф о сирене Партенопе). Неаполь Ферранте соотнесен с топосом проклятого места, сводящего с ума местных жителей. Обратная демоническая сущность обнаруживается не только в людях, но и в обычных вещах. Ферранте создает миф об «изнаночном» Неаполе, который доступен взгляду только самих местных жителей, сопоставляя его с главной героиней тетралогии Рафаэллой (Лилой) Черулло, наделенной такой же амбивалентной природой. В статье объясняются причины обилия женских образов, связанных с «генеалогией» Неаполя и с его наследственным проклятьем. Примечательно, что Ферранте как бы переписывает изначальный миф о сотворении города, превращая его в зараженное пространство, заранее обреченное на гибель.
Мифопоэтика, урбопоэтика, спациопоэтика, неаполь, городской текст
Короткий адрес: https://sciup.org/149147194
IDR: 149147194 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-270
Текст научной статьи "Миф о Неаполе" в цикле романов "Неаполитанский квартет" Э. Ферранте
The article is devoted to the construction of the “Neapolitan” myth in the in the “Neapolitan Novels” (“My Brilliant Friend”, “L’amica geniale”, 2011), “The Story of a New Name” (“Storia del nuovo cognome”, 2012), “Those Who Leave and Those Who Stay” (“Storia di chi fugge e di chi resta”, 2013) и “The Story of the Lost Child” (“Storia della bambina perduta”, 2014) by Elena Ferrante. Ferrante’s Naples becomes a full-fledged hero of these novels, combining real historical space and mythopoetic space, which can be analyzed from the point of view of spaciopoetics (poetics of space) and urban poetics. According to the research by E. Farino and Yu. Pykhtina, the real geographical space of the city is inseparably linked with the imaginary space. In the space of the novels, a connection is found both with urban legends and with the myth of the creation of Naples (the myth of the siren Partenope). Ferrante’s Naples is correlated with the topos of a cursed place that drives local residents insane. The reverse demonic essence is found not only in people, but also in ordinary things. Ferrante creates a myth about the “wrong side” of Naples, visible only to the local residents themselves, comparing it with the main character of the tetralogy, Raffaella (Lila) Cerullo, endowed with the same ambivalent nature. The article explains the reasons for the abundance of female images associated with the “genealogy” of Naples and its hereditary curse. It is noteworthy that Ferrante rewrites the original myth of how the city was created turning it into a contaminated space, doomed to be destroyed advance.
s
Mythopoetics; urban poetics; spaciopoetics; Naples; urban text.
В западноевропейской словесности городской текст образует многоуровневое пространство, существующее в самых разных проявлениях культурной памяти. Интерес к городскому мифу порождает поле исследований в области спациопоэтики (поэтики пространства) и урбопоэтики в частности. Задача урбопоэтики состоит в исследовании художественной модели города, состоящей из культурных, мифологических и литературных реминисценций. По замечанию Ю.М. Лотмана, городской текст представляет собой «модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [Лотман 1970, 6]. Е. Фарино вводит в научный оборот концепцию онейриче-ских пространств, возникающих в воображении героя (во снах, мечтаниях, галлюцинациях). Метафорически эти пространства визуализируются за счет отражений в различных зеркальных поверхностях. К онейрическим пространствам относятся как отражения и различные зеркальные поверхности, так и интертекстуальные и интермедиальные «пространства-изображения» («пространства музыки», «внутреннего мира памяти, подсознания»), а также пространства мифологические [Фарино 2004, 376].
Развитие подобной концепции встречается в исследовании виртуальных пространств Ю.Г. Пыхтиной. Пыхтина убедительно доказывает невозможность разделения в текстах «пространства реального (географического и социального) и виртуального, текстовыми локализаторами которого могут быть сновидения, грезы, видения, гипнотические состояния, эзотерические, игро- вые, компьютерные миры» [Пыхтина 2017, 114]. Невозможно не заметить некоторое сходство с бахтинским понятием хронотопа, в котором неразрывная связь времени и пространства подчеркивается по аналогии с «четвертым измерением» [Бахтин 1975, 11].
Семантическое пространство Неаполя в истории мировой литературы формирует его особый культурно-эстетический статус, «пропущенный» через историю города и социокультурный контекст. Характерно, что большие нарративы последних десятилетий XX в. и настоящего времени трансформируют уже устоявшийся архитектурный визуальный образ. Реальное историческое пространство зачастую выстраивается в противовес мифопоэтическому хронотопу. Важно отметить, что по сравнению, с другими итальянскими городами (Венецией, Римом, Флоренцией) миф о Неаполе представляется гораздо менее разработанным. Как справедливо отмечает П. Муратов, «едва ли следует искать в Неаполе впечатлений искусства и истории, похожих на те, которые встречают путешественников в городах верхней и средней Италии» [Муратов 2022, 223].
Выразительным примером разработки неаполитанского мифа становится нарратив современного итальянского писателя (уроженца Кампании), который сделал своей сознательной стратегией анонимность, отстаивая право автора на защиту личных данных, скрываясь от публичности под псевдонимом Элена Ферранте. В цикл, объединенный под условным названием «Неаполитанский квартет», входят четыре романа: «Моя гениальная подруга» (L’amica geniale, 2011), «История нового имени» (Storia del nuovo cognome, 2012), «Те, кто уходят и те, кто остаются» (Storia di chi fugge e di chi resta, 2013) и «История о пропавшем ребенке» (Storia della bambina perduta, 2014).
Неаполь является центральным топосом романов Э. Ферранте, приобретающим свойства полноценного персонажа, который вступает в конфронтацию с главными героями тетралогии – Эленой (Лену) Греко и Рафаэллой (Лилой) Черулло. Неаполь Ферранте историчен и достоверен, при этом хранит память о своей мифологии. Романы, таким образом, сочетают в себе нарратив физиологического очерка в духе итальянской микроистории, в центре которой «стоит отдельный человек» [Медик 1994, 195], и мифопоэтический подтекст.
В статьях Г.И. Лушниковой и Е.И. Чибиревой «Два Неаполя в художественном контексте: контрастный образ города» и «Образ Неаполя в нарративе Элены Ферранте» Неаполь в текстах Ферранте предстает прежде всего городом коренного жителя, контрастирующим с «выставочным» образом Неаполя туристического [Лушникова, Чибирева 2020, 145]. Представление о городе напрямую связано с субъективным взглядом героинь – «пейзаж выполняет «функцию психологического параллелизма», когда автор передает через описание пейзажа внутреннее душевное и эмоциональное состояние героя» [Чибирева 2019, 519]. Таким образом, городское пространство становится продолжением эмоционального состояния персонажей. Подобная мысль подтверждается в исследовании Ф. Сьело «Заметки о визионерском реализме Элены Ферранте: места Неаполя между литературой и кино» (Note sul realismo visionario di Elena Ferrante: i luoghi di Napoli tra letteratura e cinema): образ Неаполя, созданный на пересечении вымысла и реальности, в полной мере раскрывается, благодаря форме личного дневника [Sielo 2020, 194]. В нашей статье мы сосредоточимся на связи «изнаночного» Неаполя с авторским мифом.
Первый аспект мифопоэтики Неаполя связан с топосом проклятого места. Нельзя не согласиться с мнением Ю. Корригана, который проводит сравни- тельный анализ между демонологией Ферранте и Ф.М. Достоевского, чья интертекстуальная связь прослеживается за счет аллюзий на роман «Братья Карамазовы», которым зачитывается презирающий своего отца Нино Сарраторе [Ферранте 2015, 250]. Круг чтения героя позволяет провести параллель между паттерном взаимоотношений Нино Сарраторе и его отца Донато Сарраторе по аналогии с противостоянием Федора и Дмитрия Карамазовых [Corrigan 2018, 40]. В первом романе цикла «Моя гениальная подруга» Неаполь описывается как город, пораженный загадочной болезнью, которая вызывает ярость у местных жителей:
Женщины дрались между собой чаще, чем мужчины: таскали друг друга за волосы, охотно причиняли друг другу боль. Это было что-то вроде болезни. В детстве я представляла себе маленьких-маленьких животных, почти невидимых, которые по ночам приходят в наш район, вылезают из прудов, из заброшенных железнодорожных вагонов за насыпью, из травы, которую за жуткий запах называли вонючкой, из лягушек, саламандр и мух, из камней и пыли и попадают в воду, в еду и в воздух, и из-за них наши мамы и бабушки становятся злобными, как бешеные собаки. Они были заражены сильнее, чем мужчины: мужчины то и дело впадали в бешенство, но потом успокаивались, а женщины с виду казались спокойными, молчаливыми, но, когда злились, доходили в своей ярости до самого края и уже не могли остановиться [Ферранте 2018, 29].
Сопоставляя Неаполь Ферранте с Петербургом Достоевского, Корриган приводит высказывание Лилы о Дидоне: «Без любви угасает жизнь не только людей, но и целых городов» [Ферранте 2018, 29]. Эту же мысль подхватывает и развивает в своем сочинении Лену: «…когда из городов уходит любовь, они меняются, перестают служить благим целям и в них воцаряется зло» [Ферранте 2018, 248]. Первоначально в сознании Лену эти характеристики Неаполя «сужались» до размеров квартала: «Неужели только в нашем квартале все такие злобные и грубые, а остальной город так и светится доброжелательностью?» [Ферранте 2018, 173].
Примечательно, что эта характерная для жителей Неаполя одержимость в случае некоторых героев приобретает форму безумия. Обсуждение Дидоны пересекается с разговором о сумасшедшей вдове Мелине, родственницы матери Лилы. Эта параллель возникает, с одной стороны, из-за неразделенной любви героинь и их помешательства, а, с другой, вероятно, связана с неофициальным символом Неаполя – прекрасной безумной Мбрианой (Bella ‘Mbriana). Любопытная рифма напрашивается не только между Мбрианой и Мелиной, но и между Мбрианой и Лилой. Современный писатель-уроженец Кампании П. Императоре описывает прекрасную Мбриану как благодетельную фею [Im-peratore 2013, 47].
Характерно, что роман Лилы, написанный ею в детстве, называется «Голубая фея». Итальянский фольклорист Дж. Питре указывает на оборотниче-ство как на главное свойство духа Мбрианы [Pitre 1890, 156]. Учитывая так и невыясненные, не поддающиеся рациональному объяснению подробности исчезновения Лилы, можно предположить, что она трансформировалась в некое иное существо. В эпилоге четвертого романа цикла постаревшая Лену рассуждает:
Иногда я спрашиваю себя, куда она могла подеваться. Сгинула на дне моря или в коридоре подземного коллектора, о существовании которого никто, кроме нее, не догадывается? Растворилась в старой ванне с кислотой? Провалилась в древнюю карбонарную яму, о которых столько читала? А может, она сейчас в склепе покинутой всеми церквушки, затерянной в горах? Или в одном из тех измерений, которые для нас остаются загадкой – для нас, но не для Лилы? [Ферранте 2018, 733].
Обращает на себя внимание предположение Лену о том, что Лила может прятаться в церковном склепе, что может быть связано с еще одним неофициальным духом Неаполя, именуемым Муначелло (il Monaciello), Монашек. Его функции амбивалентны: он может как докучать людям, так и благоволить им. В последнем случае он способен обратить подношение (как правило, еду) в сокровище. Небезосновательно в городском фольклоре возникает сопоставление между двумя этими образами. Согласно легенде, Муначелло способен проникать в любой дом, являясь хранителем подземных каналов. В этой связи особенно интересно смотрится попытка Лилы реконструировать путь таинственного убийцы дона Акилле, которого девочки окрестили людоедом из сказок:
Он был на кухне и как раз открыл окно, чтобы впустить в квартиру свежего, пахнущего дождем воздуха. Специально встал ради этого с кровати, прервав послеобеденный отдых. На нем была сильно поношенная голубая пижама, на ногах – желтоватые, потемневшие на пятках носки. Но только он распахнул оконную створку, ему в лицо дохнуло дождем, а в шею с правой стороны, ровно посередине между верхней челюстью и ключицей, ударил нож. Кровь брызнула на медную кастрюлю, висевшую на стене. Медь была такой блестящей, что кровь на ней казалась чернильным пятном, из которого, как нам рассказывала Лила, вытекала извилистая черная струйка. Убийца – Лила склонялась к тому, что это была женщина, – проникла в квартиру в то время, когда дети обычно гуляют на улице, а взрослые, если они не на работе, отдыхают. Замок, разумеется, открыла отмычкой. И разумеется, хотела нанести удар спящему Акилле в сердце, но обнаружила, что он проснулся, и вонзила нож ему в горло [Ферранте 2018, 97–98].
Примечательно, что Лиле важно отождествлять себя с убийцей: «Конечно, она верила, что убийца – женщина, только потому, что так ей было проще представлять на ее месте себя» [Ферранте 2018, 98].
Отдельного внимания заслуживает пограничное состояние Лилы, которое она именует «обрезкой» (smarginatura). В этом состояние предметы и люди обнаруживают свою скрытую демоническую суть. В продолжение сопоставления мотивов Ферранте и Достоевского можно предположить, что Лила страдает эпилептическими припадками. Один из таких приступов случается с ней во время землетрясения 1980 г.:
Задыхаясь, она простонала, что и машина, и Марчелло за рулем машины обрезаны, что все вокруг – люди и предметы – теряют очертания, ломаются и разрушаются, и их плоть сплавляется с металлом. Она сказала именно это слово: «обрезаны». Тогда она произнесла его впервые и, задыхаясь, пыталась объяснить, что оно означает; она хотела, чтобы я поняла, что это такое – обрезка и почему это так ужасно [Ферранте 2018, 256].
Исповедь Лилы оказывается откровением, связанным с обнаружением истины об обратной стороне вещей и своем месте в мироустройстве:
…она говорила, что очертания людей зыбки и рвутся, как нитки. Она бормотала, что всегда это видела, видела, как лопаются и меняют суть вещи и люди вокруг, перетекая одно в другое, что все окружающее – это смесь разнородных материй. Она всю жизнь принуждала себя думать, что все на свете имеет свои четкие границы, хотя с детства знала, что это не так – совсем не так, – вот почему ее так напугали подземные толчки: мир перед ними не устоит. Вслед за тем она снова принялась нести какой-то бред, возбужденно выкрикивая то бессвязные фразы на диалекте, то повторяя вычитанные из книг цитаты. Она твердила, что ей приходится жить в постоянном напряжении, потому что стоит ей на миг расслабиться, и привычные вещи искажаются, пугая ее и причиняя боль; они подчиняют себе – физически и морально – все, что так необходимо для спокойной жизни; она чувствует, что тонет в запутанной реальности, и теряет способность различать собственные ощущения. Осязание превращается в зрение, зрение – в обоняние, и уже никто не может сказать, на что похож настоящий мир. «Понимаешь, Лену, никто, никто на целом свете!». Поэтому ей нельзя ни на миг ослаблять внимание, иначе окружающее разлетится на кровавые менструальные сгустки, злокачественные полипы и грязно-желтые волокна [Ферранте 2018, 256–257].
Одержимость жителей Неаполя сравнивается с болезнью, обнажающей их внутреннюю скверну. Лила так описывает первое состояние «обрезки»:
Раньше я думала, что плохие вещи случаются и проходят, как детская болезнь. Помнишь, я рассказывала тебе, как взорвалась медная кастрюля? Или вспомни, как на Новый год братья Солара стреляли по нам фейерверками. Я испугалась не выстрелов. Я испугалась цветных огней, которые резали глаза, особенно зеленый и фиолетовый. Они могли разрезать нас на куски. Лезвия пущенных ракет целились в моего брата Рино, отсекая от него куски плоти и по капле выпуская на свободу всю ту мерзость, что я старалась держать в нем взаперти, потому что знала: если она вырвется, мне будет плохо [Ферранте 2018, 258].
Печать проклятия обнаруживается и в традиционном символе Неаполя – яйце. Лила, обладающая даром предвидения описывает свои видения, казалось бы, в один из самых счастливых моментов:
Помнишь, как меня испугало небо на Искье? Вы восхищались его красотой, а на меня веяло тухлым яйцом с зеленоватым желтком и растрескавшейся от варки скорлупой. Я чувствовала во рту вкус этих ядовитых звездных яиц, светивших резиновым, как белок, светом и липнувших к зубам вместе с желеобразной чернотой неба; я с отвращением пережевывала их, ощущая, как хрустит на зубах скорлупа [Ферранте 2018, 259].
Легенда о волшебном яйце, оставленном Вергилием в основании замка Кастель-дель-Ово, связана с ощущением безопасности. Пока яйцо лежит нетронутым, Неаполю ничего не угрожает [Michael 2011, 13]. В этом контексте видение о протухшем яйце звучит особенно зловеще.
Способность к пророчеству у Лилы может быть связана с важным женским образом, упомянутым Вергилием в «Энеиде». Так, Кумская сивилла обитала в храме Аполлона в Кумах, который находится недалеко от современного Неаполя. В «Энеиде» Сивилла не только владеет даром предвидения, но и знает путь в царство Аида [Вергилий 1994, 222]. В «Сатириконе» Петрония Сивилла описывается как дряхлая старуха, тяготящаяся своим бессмертием: «А то еще видал я Кумскую Сивиллу в бутылке. Дети ее спрашивали: “Сивилла, чего тебе надо?”, а она в ответ: “Помирать надо”» [Петроний 1990, 48].
Любопытно, что эта ипостась Лилы, связанная с желанием исчезнуть, не оставив следов, пересекается с другим ключевым женским образом. В статье Ф. Галлиппи «“Моя гениальная подруга” Элены Ферранте: В поисках Парте-нопы и “Основание” нового города» (Elena Ferrante’s My Brilliant Friend: In Search of Parthenope and the “Founding” of a New City) образ Лилы и ее таинственное исчезновение напрямую соотносится с Партенопой, чье тело растворилось в Неаполитанском заливе [Gallippi 2016, 114]. Миф о сирене Партенопе связан с основанием Неаполя. В древнегреческой традиции Партенопа предстает в амплуа соблазнительницы, которая не сумела покорить сердце Одиссея [Facaros, Pauls 2007, 21]. Подобно Дидоне, она решает покончить с жизнью и бросается в море. Ее тело выбросило на берег в Неаполе как раз в том месте, где находится замок Кастель-дель-Ово [Lancaster 2005, 11]. Город был позже назван в ее честь. В римской традиции Партенопа и ее возлюбленный кентавр Везувий были наказаны Юпитером. Партенопа была обращена в горд Неаполь, а кентавр – в вулкан. Таким образом, извержения Везувия объясняются, согласно логике мифа, его рвущимися на волю порывами чувств [Michael 2011, 37].
Любопытна также связь Парnенопы и Вергилия. В «Георгиках» он утверждал, что был ей воспитан: «Сладостной в те времена был я – Вергилий – питаем Партенопеей…» [Вергилий 1971, 114]. Образ Лилы-соблазнительницы наиболее ярко раскрывается в эпизоде, когда на нее засматривается незнакомый мужчина в баре. Не в силах сопротивляться порыву,
…мужчина, не понимая, какой опасности себя подвергает, встал, подошел к Лиле и, повернувшись к парням, вежливо произнес :
– Вам невероятно повезло. С вами девушка, которая станет прекраснее Венеры Боттичелли. Прошу прощения, но я сказал об этом своей жене и детям и счел необходимым сообщить вам [Ферранте 2018, 161].
Так же, как и в других ранее перечисленных случаях этот образ амбивалентен: божественная красота Лиля не только не примеряет жителей Неаполя, но и провоцирует приступ агрессии:
Лила напряженно засмеялась. Мужчина улыбнулся, слегка поклонился ей и собрался возвращаться на свое место, когда Рино схватил его за шиворот, оттащил назад к столу, силой усадил на стул и обложил, прямо при жене и детях, жуткими словами. Лицо мужчины налилось злобой, его жена закричала и встала между ним и Рино. Антонио еле оттащил его на улицу. Еще одно воскресенье было испорчено [Ферранте 2018, 187].
Другая ипостась Лилы как соблазнительницы раскрывается, прежде всего, в сложных отношениях с Лену: именно она выступает инициатором-режиссером, побуждая Лену задавать вопросы и писать. Отражение мотива искушения прослеживается в эпиграфе к первому тому тетралогии из «Фауста» Гете:
Господь:
Тогда явись ко мне без колебанья!
К таким, как ты, вражды не ведал я… Хитрец, среди всех духов отрицанья Ты меньше всех был в тягость для меня. Слаб человек; покорствуя уделу, Он рад искать покоя, – потому Дам беспокойного я спутника ему: Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу! [Ферранте 2018, 3]
Во втором томе тетралогии описывается эпизод обретения единства между Лену, Лилой и их возлюбленным Нино во время купания в море. Характерно, что он подается как некий акт сотворения единого организма из морской пены: «Я схватила Лилу и Нино за руки и с восторженным воплем потащила в холодную воду, подняв кучу брызг. Мы нырнули в волну, точно были единым существом, и только потом расцепили руки» [Ферранте 2018, 351]. Нино, как кажется, выполняет здесь символическую роль Адама, а Лила и Лену образуют двойническую пару Ева-Лилит, причем именно роль Лилы оказывается заведомо нежизнеспособной. Помимо очевидного созвучия с именем Лилит, Лила оказывается бесплодной в символическом смысле: первая беременность заканчивается выкидышем, второй ребенок Рино приобретает черты оборотня, постепенно трансформируясь из сына Нино в ребенка от Стефано, третий ребенок – девочка Тина таинственным образом исчезает, предрекая такую же судьбу своей матери.
Писательское детище Лилы уничтожается ею самой: роман «Голубая фея» символично сгорает в огне. Таким образом, Лила выступает в роли демиурга, все творения которого обречены на провал. Лену в некотором смысле можно тоже расценивать как творение Лилы, постепенно обретающее независимость. Заметим, что их дружбе приходит конец, когда Лену принимает самостоятельное решение, ослушавшись Лилу.
Пугающая ипостась Лилы как демиурга проявляется в избранной маске кукловода:
Я не могу остановиться, мне постоянно надо что-то делать и переделывать, одно прятать, другое разоблачать, сначала строить, а потом одним ударом рушить. Возьми, к примеру, Альфонсо: я с детства видела, что его ниточка еще тоньше, чем у других, и вот-вот порвется. А Микеле? Он думал, что он самый умный, а на самом деле… Я нащупала его нить, слегка потянула – и готово! Ха-ха-ха! Я разорвала его нить и сплела с нитью Альфонсо: смешала одну мужскую плоть с другой мужской плотью; днем опускала занавес, а ночью поднимала. Моя голова и не на такое способна [Ферранте 2018, 260].
В то же время Лила искренне пытается изменить жизнь микро-Неаполя, своего родного квартала:
Я мечтала переделать всю жизнь квартала, покончить со всем плохим, оставить только хорошее. Сколько это продлилось? Добрые чувства слишком хрупки, и моей любви надолго не хватает. Ни любви к мужчине, ни любви к детям – она рвется, и ничего с этим не поделаешь. Попробуй заглянуть в эту дыру, и ты увидишь тучу добрых намерений, перемешанных с тучей злых [Ферранте 2018, 260].
Лила надолго становится для местных жителей настоящим авторитетом, гением места. В отличие от Лену, которая смогла осуще ствить свою мечту и выбраться за пределы квартала, Лила навсегда остается внутри него и посвящает конец своей жизни (вплоть до своего исчезновения) изучению Неаполя, его культуры и истории.
Как можно было заметить, большинство образов, связанных с мифом о сотворении Неаполя, женские. Исследовательница Г. Загребельски описывает Неаполь как «город-паутину, внутри которой с трудом передвигаются женщины, потому как она была соткана мужскими руками, которые и определяют его жестокий и деловой характер. Насилие заполняет пустые места, занимает пробелы человеческих отношений. <...> Неаполь, таким образом, является сценарием женской неадекватности» [Zagrebelsky 2019, 411–429]. Напомним, что, по наблюдениям Лену, наиболее подверженными проклятию оказываются именно женщины. Другая современная итальянская писательница, уроженка Неаполя А. Чиленто называет Неаполь женским городом:
Неаполь – это город-женщина. При этом кое-кто утверждает, что у Неаполя, как и у женщин, нет головы; кроме того, в природе возможно выживание и без головы: достаточно нервного центра, причем у иных видов он расположен в непосредственной близости от потрохов. Но это все – болтовня злопыхателей. Когда я ночью иду по улице Орацио, Неаполь томной красавицей лежит на боку. У нее коралловые браслеты (это автомобильные стоп-сигналы на дорогах), торчащие вверх черные волосы (телевизионные антенны), белоснежные зубы и темные осьминожьи гениталии, а глаз она, по счастью, не открывает, иначе они пылали бы раскаленными углями. Это Кали многорукая и многогрудая. Прекрасная богиня, убивающая в танце под звуки тамморры. Это сирена, чье пение, сочетающее древнегреческие мотивы с неаполитанской неомелодикой, несет смерть, она очень похожа на Лигию, на пустынном берегу говорившую с профессором-сици- лийцем на ионийском диалекте, но только она – простолюдинка [Чиленто 2012, 15–16].
В своем сборнике «Фрагменты» (La Frantumaglia) Ферранте пишет: «Неаполь, о котором я говорю, является частью меня, я знаю его изнанку» [Ferrante 2016, 305]. В своем стремлении придерживаться в романах литературной правды она призывает читателей пренебречь «правдой гугл-карт». Таким образом, Ферранте создает собственный миф об «изнаночном» Неаполе исходя из личного опыта и из логики художественного текста.
Список литературы "Миф о Неаполе" в цикле романов "Неаполитанский квартет" Э. Ферранте
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 237-407.
- Вергилий. Собрание сочинений / пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского. СПб: Студиа Биографика, 1994. 210 с.
- Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / пер. с латинского С. Шервинского. М.: Художественная литература, 1971. 418 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 c.
- Лушникова Г.И., Чибирева Е.И. Два Неаполя в художественном контексте: контрастный образ города // Litera. 2020. № 1. С. 137-151.
- Медик Х. Микроистория // Thesis: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. Вып. 4. Научный метод. М.: ИГИТИ, 1994. С. 193-202.
- Муратов П.П. Образы Италии: Рим. Лациум. Неаполь и Сицилия. М.: Издательство «Иллюминатор», 2022. 320 с.
- Петроний А. Сатирикон. М.: Вся Москва, 1990. 236 с.
- Пыхтина Ю.Г. Виртуальное пространство в литературе: типология, структура, функции // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 1 (201). С. 114-118.
- Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб.: Издательство РГПУ имени А.И. Герцена, 2004. 639 с.
- Ферранте Э. Моя гениальная подруга / пер. О. Ткаченко. М.: Синдбад, 2018. 352 с.
- Ферранте Э. История о пропавшем ребенке / пер. О. Ткаченко. М.: Синдбад, 2018. 480 с.
- Чибирева Е.И. Образ Неаполя в нарративе Элены Ферранте // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2 (75). C. 518-520.
- Чиленто А. Неаполь чудный мой / пер. с итал. Е. Мениковой. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. 256 с.
- Corrigan Y. Comparative Demonologies: Dostoevsky and Ferrante on the Boundaries of the Self // Religion & Literature. 2017. № 2. Т. 49. P. 23-45.
- Facaros, D., Pauls M. Bay of Naples and Southern Italy. Cape Town: New Holland Publishers, 2007. 312 p.
- Ferrante E. La frantumaglia: carte: 1991-2003, tessere: 2003-2007, lettere: 20112016. Nuova edizione. Dal mondo Italia. Roma: Edizioni e/o, 2016. 373 p.
- Gallippi F. Elena Ferrante's My Brilliant Friend: In Search of Parthenope and the "Founding" of a New City // The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring the Margins. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016. P. 101-127.
- Imperatore P. Bentornati in casa Esposito. Un nuovo anno tragicomico. Firenze / Milano: Giunti, 2013. 288 p.
- Lancaster J. In the Shadow of Vesuvius: A Cultural History of Naples. London and New York, NY: I.B. Tauris, 2005. 266 p.
- Ledeen M.A. Virgil's Egg and other Neapolitan Miracles. New Preface by the Author. New Jersey, NY: Transaction Publishers, 2014. 134 p.
- Miles G.B. Virgil's Georgics: A New Interpretation. Berkeley, Los Angeles, CA: University of California Press, 1980. 311 p.
- Pitrè G. Curiosità popolari tradizionali. Volumi 7-9. Palermo: Luigi Pedone Lauriel, 1890. 240 p.
- Sielo F.Note sul realismo visionario di Elena Ferrante: i luoghi di Napoli tra lettera-tura e cinema // Polygraphia. 2020. № 2. P. 193-209.
- Zagrebelsky G. La sororanza nell "Amica genial" di Elena Ferrante: complicità e rivalità // Studi Novecenteschi. 2019. № 98. P. 411-429.