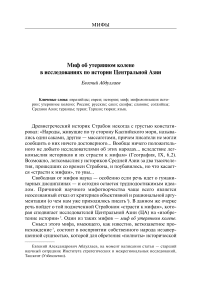Миф об утерянном колене в исследованиях по истории Центральной Азии
Автор: Абдуллаев Евгений Александрович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Мифы
Статья в выпуске: 1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Евразийцы, евреи, история, миф, мифологизация истоd рии, утерянное колено, Россия, русские, саки, скифы, славяне, согдийцы, средняя азия, туранцы, турки, турция, тюрки, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14911932
IDR: 14911932
Текст статьи Миф об утерянном колене в исследованиях по истории Центральной Азии
Древнегреческий историк Страбон некогда с грустью констатировал: «Народы, живущие по ту сторону Каспийского моря, назывались одни саками, другие — массагетами, причем писатели не могли сообщить о них ничего достоверного... Вообще ничего положительного не добыто исследователями об этих народах... вследствие легкомыслия историков и их страсти к мифам» (География, IX, 6,2). Возможно, легкомыслия у историков Средней Азии за два тысячелетия, прошедших со времен Страбона, и поубавилось, но что касается «страсти к мифам», то увы...
Свободная от мифов наука — особенно если речь идет о гуманитарных дисциплинах — и сегодня остается труднодостижимым идеалом. Причиной научного мифотворчества чаще всего является неосознанный отказ от критериев объективной и рациональной аргументации (о чем нам уже приходилось писать 1). В данном же очерке речь пойдет о той подмеченной Страбоном «страсти к мифам», которая сподвигает исследователей Центральной Азии (ЦА) на «изобретение истории» 2. Один из таких мифов — миф об утерянном колене .
Смысл этого мифа, имеющего, как известно, ветхозаветное происхождение 3, состоит в восприятии собственного народа незавершенной сущностью, которой для обретения «полноты» исторической
Евгений Александрович Абдуллаев, на момент написания статьи — старший научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований, Ташкент (Узбекистан).
субъектности надо отыскать и вернуть в свое лоно какую-то потерянную часть себя — племя или «колено». В мифе сквозит стремление представить Другого (другой, отдаленный народ) частью своего Мы, своего народа и своей культуры, растворить Других в этом Мы. Миф об утерянном колене дополняется национальными мифами «золотого века» — о первоединстве нации, нарушенном в силу неких исторических превратностей или злоумышлений врагов.
Миф об утерянном колене может принимать формы фантастических этимологий и этнологических гипотез, а может — в форме неявного научного интереса — лежать в основе вполне респектабельных академичных разысканий. При всем различии между ними, все они, если говорить об исследовании ЦА, обладают существенным сходством — стремлением представить древние народы региона (один или несколько) некогда «потерявшимся» коленом народа собственного. Поэтому анализ данного мифа будет осуществлен на примере его национальных вариаций — на материале тех построений, которые превращают историю и культуру региона в «сырье» для внешних по отношению к нему национальных мифологий.
В этом очерке будут рассмотрены три национальные вариации мифа. Назовем их условно «русской», «еврейской» и «турецкой». Этими тремя вариациями разновидности мифа не исчерпываются — просто три отобранных наиболее выражены. Далее, миф об утерянном колене не имеет прямого отношения к проблемам того или иного этнического меньшинства (русского, еврейского или турецкого) в ЦА. Эти проблемы составляют область другой мифологии, напрямую связанной с реальной, а не мифической частью этноса. Даже если такая часть, проживая в ЦА, приобрела некое культурное своеобразие, отличия от «материнского» этноса не настолько сильны, чтобы идентифицировать ее как Другого. В таких случаях уместно говорить скорее о мифологии «блудного сына», которого с распростертыми объятиями ждут обратно на «исторической родине». Напротив, в мифе об утерянном колене объект спекуляций — коренное население региона.
Русский миф: «Эти отважные сыны степей... были не кто иные, как наши предки»
Русская художественная литература, столь подробно освещавшая колониальные захваты на Кавказе, завоевание Казахской степи и Средней Азии обошла молчанием. Вольность и свободолюбие кавказцев импонировали романтизму Пушкина и Лермонтова, простота их нравов — опрощенцу Льву Толстому. В обоих случаях имела место определенная, хотя и мифологизированная, достигнутая путем значительной литературной идеализации, идентификация русского «человека культуры» с колонизируемым Другим. В отношении жителей ЦА такого отождествления не произошло. Колоритной вольности нравов, равно как и притягательной простоты, не наблюдалось (по крайней мере, в земледельческой части Туркестана). Беллетристика молчала, идеализированный тип современного «туркестанца» не был ею создан. Взамен заговорила историческая наука.
В 1871 году в Петербурге выходит объемный труд В. В. Григорьева «О скифском народе саках». Собрав и тщательно проанализировав все сохранившиеся сообщения античных и индийских авторов об этом древнем народе Средней Азии, ученый делает такой неожиданно лестный для саков вывод: «О характере саков вообще древние не отзываются иначе, как с уважением, упрекая их лишь в пристрастии к выпивке» 4. Попутно заявив, что из среды саков якобы происходил и род Будды (Шакья) 5, Григорьев подходит к своему главному умозаключению: среднеазиатские саки отождествлялись античными авторами со скифами, скифы — предки славян, следовательно, древние жители Средней Азии были предками не только ее современных обитателей, но и русских 6.
Этот не выдерживающий критики тезис был с воодушевлением подхвачен ташкентским историком конца XIX века М. М. Лютовым. Описывая ожесточенную борьбу сакских племен с войсками Александра Македонского, он резюмировал: «Григорьев целым рядом самых веских доводов и глубоких соображений утвердил в науке уже ранее него высказанную мысль о славянстве саков; таким образом эти отважные сыны степей, не побоявшиеся величайшего из завоевателей древности, были не кто иные, как наши предки — славяне» 7.
Так среднеазиатские саки превращались в славян, а фактически — в открытое стараниями историков утерянное колено мифического праславянского племени.
Отождествление предков славян с кочевниками-саками совершалось, что называется, в духе времени. Оно не только служило оправданием русских захватов в Туркестане, но и вносило свой вклад в антизападнические настроения части русской интеллигенции. Из представления о русских как о восточной расе выросло через пару десятилетий евразийство. Его возникновение как раз совпало с окончательным признанием несостоятельности гипотез о скифах как о праславянах, в результате чего потеряли смысл и григорьевские домыслы о «славянстве саков». Однако потерянное было для квазинаучных спекуляций «колено» славян почти тут же было обретено на новой волне «открытий». «Обнаружено» оно было опять в Средней Азии, а стали им «туранцы» Н. С. Трубецкого.
Тураном (в отличие от Ирана, Арианы) традиционно называется место проживания мифических «туранцев», под которыми традиция, начиная с зороастрийских текстов на среднеперсидском и «Шахнаме» Фирдоуси, подразумевала тюркских кочевников. В русской (а также немецкой) научной литературе конца XIX — начала ХХ века название «Туран» употреблялось как синоним Туркестана 8. Хотя Н. С. Трубецкой понимал его географически более расширительно, включая в него территорию, заселенную не только среднеазиатскими, но и другими тюркоязычными народами, а также угро-финнами, монголами и маньчжурами, топоним упорно отсылал читателей к Средней Азии, за которой этот термин к тому времени прочно закрепился.
С тем же пафосом, с каким Григорьев и его популяризатор Лютов расточали лестные эпитеты в адрес «наших предков» саков, Трубецкой провозглашал: «Мы имеем право гордиться нашими турански-ми предками не меньше, чем предками славянскими, и обязаны благодарностью как тем, так и другим. Сознание своей принадлежности не только к арийскому, но и к туранскому психологическому типу необходимо для каждого русского, стремящегося к личному и национальному самопознанию» 9. Стоит обратить внимание на то, что туранские предки русских в этой сентенции стоят в паре с «арийскими» — словно Трубецкой проецирует на русскую историю мифологему «единства и борьбы» арийцев/иранцев и туранцев. Впрочем, и здесь предшественником Трубецкого был Григорьев, сравнивавший пару «Иран — Туран» с... Россией и Польшей.
К чести Трубецкого следует сказать, что его выводы о «туранских предках» были менее прямолинейными, чем выводы Григорьева о предках-саках: основатель евразийства рассуждал о туранцах только как о «психологическом типе» и не пытался разглядеть за этим типом какой-то конкретный древний народ. Однако для мифотворчества в том не было необходимости: этноним «туранцы» был назван, читателям предоставлялась возможность с его помощью самим «достраивать» миф и локализовать туранское «колено». Возродившееся в наши дни евразийство тоже предпочитает замыкаться на Туран, то бишь на Центральную Азию. Марлен Ларюэль, анализируя современную ситуацию, отмечает: «Если ориентализм ранних евразийцев фокусировался на монгольском мире, на номадизме как олицетворении движения и обновления, то неоевразийцам больше нравится мир тюрков — как российских, так и среднеазиатских. Последний же... рассматривается ими прямо-таки как воплощение порядка и стабильности» 10.
Отчасти эти предпочтения неоевразийцев объясняются риторикой самих центрально-азиатских президентов, прежде всего Назарбаева 11. Не случайно в своей речи на учредительном съезде движения «Евразия» его лидер А. Дугин высоко оценил «последовательную евразийскую позицию президента Казахстана» 12. Правда, вернувшись фактически к «туранизму» в его изначальном, а не в том расширительном значении, который вкладывал в этот термин Н. С. Трубецкой, неоевразийцы нигде, насколько нам известно, не воскрешали в явном виде миф об утерянном и «обретенном» в Средней Азии колене русских. Видимо, после распада СССР и утраты иллюзий о возможности реколонизации исчезла и сама необходимость в подобной мифологии. Тем не менее, сохраняется идеализация среднеазиатского «туранизма», его имперского прошлого и авторитарного настоящего.
При этом, если судить по количеству публикаций, интерес к древностям центрально-азиатских народов в российской науке как и столетие назад абсолютно превалирует над интересом к истории русских и русской культуры в регионе. В этой области историков однозначно опережают этнографы и политологи. В ситуации, когда в государствах Средней Азии и в Казахстане идет активное переписывание истории в националистическом ключе, когда русским не просто отказывают в какой-либо позитивной роли, но и вообще вычеркивают их из исторического процесса в регионе в последние полтора столетия, — в такой ситуации русские, живущие в Центральной Азии, оказываются народом без истории.
Таким образом, русский вариант исторического мифа об утерянном колене имеет четкую связь с российской колонизацией Казахской степи и Средней Азии. Он возник в 60–90-е годы XIX века (тезис о «славянстве саков»), получил развитие в имперской идеологии евразийства (тезис о «туранстве русских») и фактически исчез после распада СССР, остаточно сохранившись лишь в центральноазиатских симпатиях неоевразийцев.
Еврейский миф: «Основную группу потомков этих самаритян составляют узбеки и таджики»
В отличие от русского варианта научного мифа о потерянном колене, еврейский вариант возник относительно недавно, в 1990-е годы, и не имеет того очевидного колониального привкуса, который присущ первому. Еврейский вариант — в том виде, в каком он присутствует у двух, вероятно, даже не знакомых с работами друг друга, авторов, о которых пойдет речь ниже, — на первый взгляд, более академичный и не связан с политикой.
В бескрайней библиотеке Йельского университета мое внимание привлекла книга с многообещающим названием: «От Самарии до Самарканда: десять потерянных колен Израиля» 13. Автором ее значился некто Дэвид Лоу (Law). Солидное, выдержанное в академическом формате издание, выпущенное University Press of America, казалось, гарантирует и академическую основательность содержания. Что внушительное впечатление обманчиво, обнаруживается при прочтении первых же страниц этого опуса.
Побывав в 1971 году на праздновании 2500-летия Самарканда, Лоу был настолько, по его словам, поражен древностью и красотой этого города, что «начал читать все, что смог найти о Средней Азии, и перечитывать Ветхий Завет с целью отыскать все, относящееся к десяти коленам». В результате этих поисков миру явились следующие открытия:
-
1. Потерянные колена Израиля и мидийское племя магов суть одно и то же; маг — неверная передача имени ветхозаветного пророка Михея 14.
-
2. В ходе датируемых VI веком до н. э. гонений персидского царя Кира эти маги-израильтяне (самаритяне) насильно переселяются в Центральную Азию вместе со своим пророком Зороастром — тоже, оказывается, израильтянином 15; там они строят город и называют его в честь своей родины Самарии Самаркандом 16.
-
3. Со временем этих сынов Израилевых начинают называть со-гдийцами, что в переводе с древнееврейского, как уверяет автор, означает «скрывающиеся» или «изгнанники» 17.
-
4. Именно израильтяне = маги = согдийцы отправили посольство на поклонение новорожденному Мессии — Иисусу 18, который после Воскресения явился согдийцам под именем Сиявуша, что в переводе с древнееврейского якобы означает «радость» 19.
Эти и другие подобные им откровения Лоу пытается подкрепить обильным цитированием исторической литературы по Средней Азии и многочисленными этимологическими изысками. О качестве последних можно получить исчерпывающее представление хотя бы по трем из них, приведенным под рубрикой «Семитские слова в согдийском языке». «Н а в р у з — Навра означает на древнееврейском огонь ; огонь был частью этого праздника. Б у х а р а — Бахур на древнееврейском означал избранный .Афрасиаб— Афра на древнееврейском означает посвященный Богу , например, Эфраим (Ефрем) и Авраам. Сиаб на древнееврейском означает старец » 20.
Недюжинная начитанность соседствует у Лоу с элементарным невежеством. Так, спутав Геродота с Онесикритом (вторая половина IV века до н. э.), он пишет: «Великий греческий историк Геродот, который прибыл вместе с Александром Великим, сообщил об обычае в Самарканде выставлять мертвых собакам и птицам» 21.
Вывод, который делает Лоу из всей этой игры воображения, восхитителен: «Потомкам Десяти потерянных колен Израиля предначертано вернуться в Израиль до Второго Пришествия... Основную группу потомков этих самаритян составляют узбеки и таджики» 22. Здесь, надо признать, автор неожиданно попадает в точку: действительно, в 1990-е годы в Израиль эмигрировали десятки узбеков и таджиков. Правда, не в качестве «потомков самаритян», а как члены еврейских семей из «неутерянных» колен.
Мы бы не стали смущать читателя перечислением плодов невменяемого дилетантизма, перед которыми меркнет научное мифотворчество В. В. Григорьева и Н. С. Трубецкого, ученых высокообразованных и заслуживших авторитет в своей области. Однако на примере патологических построений Лоу лучше всего видны те симптомы мифологического «вируса», которые порой сложно обнаружить в других, более академически респектабельных теориях. Это и голословные утверждения, и фантастические этимологии, и, главное, непоколебимая уверенность в существовании утерянного колена и пребывании его именно в Центральной Азии.
В этом ряду стоит более умеренная гипотеза петербургского исследователя Л. Л. Гуревича, с которым автор статьи имел возможность дискутировать в ноябре 1999 года в Петербурге на конференции «Культурное наследие Востока».
В 1991 году Гуревич принимал участие в этнографической экспедиции Петербургского еврейского университета, изучавшей быт и историю бухарских евреев. Его достаточно содержательная статья, написанная по результатам поездки, посвящена бытовой культуре бухарских евреев 23, хотя уже в ней есть отсылка к мифу о десяти потерянных коленах Израиля (кстати, не такая уж неожиданная для исследований о бухарских евреях). Однако в другой статье 24 и особенно в выступлении на упомянутой конференции Л. Л. Гуревич уже утверждал, что сама Бухара еще до того, как в ней возникла еврейская махалля, строилась в полном соответствии с образом Небесного Иерусалима, как он описан в Ветхом Завете. В частности, в ней было 12 ворот, символизировавших единство двенадцати колен Израилевых.
Откуда могло возникнуть такое соответствие? В тексте выступления Гуревича встречаем такие примечательные сведения: «В еврейской махалле Самарканда мне рассказали, что спускавшиеся при царе в Самарканд на заработки жители Матчи (по научным данным — потомки неисламизированных согдийцев) — тоже евреи, ибо по субботам они зажигают светильники-чероги и совершают ритуальное омовение» 25. Сложно сказать, кого здесь автор подразумевает под «неисламизированными согдийцами», ухитрившимися остаться «неисламизированными» аж до XIX века, и из каких «научных данных» он о них узнал. Безусловно, доисламские обычаи и обряды, особенно связанные с возжиганием огня, и сегодня играют определенную роль в религиозной жизни узбеков и таджиков. Однако обнаружение в этих обычаях еврейских или каких-либо других «уте-рянно-коленческих» корней — равноценно этимологическим фантазиям Лоу.
Следует отличать этот достаточно новый еврейский миф о среднеазиатских народах как утерянном колене Израиля от древней автохтонной традиции «евреизации» мифических предков. Эта традиция, зафиксированная впервые в середине I тыс. н. э., была основана на распространенном представлении о евреях как своего рода «эталонном» древнейшем народе; соответственно желание удрев-нить собственную генеалогию, как правило, приводило к обнаружению ветхозаветного иудейского прародителя. Например, в раннесредневековом иранском тексте «Города Ирана» (Sahriha i Eran, 10) утверждается, что «город Хорезм основал еврей (или «сын еврейки») Нарсе» 26; хотя это сообщение, как отмечает Г. Виденгрен, указывает на возможные контакты евреев и хорезмийцев в сасанидский период (III–VII века), однако, как признает сам историк, «мы не обладаем информацией о еврейских поселениях в Согдиане во времена Са-санидской империи» 27. Это вполне естественно: чтобы отнести как можно дальше в глубь времен основание города, приписав его представителю «образцового» древнего племени (носящего, правда, вполне иранское имя Нарсе), совсем не требовалось реальное присутствие в Хорезме евреев. Аналогичные мифы о ветхозаветном еврейском предке характерны и для других народов; пример тому — пуштуны 28.
Однако, хотя этот миф «евреизирует» народы Средней Азии и потому похож на миф об утерянном колене и даже «поставляет» для последнего определенный псевдоисторический материал, между двумя мифами имеется существенное различие. Цель мифа о еврейском предке — легитимация культурных претензий коренного народа на равенство с другими древними народами, тогда как миф о потерянном колене служит легитимации культурных претензий «пришлого» народа на равенство с коренными.
Таким образом, «еврейский» вариант мифа о потерянном колене так же, как и русский вариант, основан на бездоказательно принимаемых на веру аксиомах, своего рода самогипнозе ученого, стремящегося растворить Другого (другую культуру, другую историю) в исторической мифологии своего народа. Вместе с тем надо отметить, что оба национальных варианта создавались энтузиастами-одиночками, не имевшими идеологического заказа со стороны государства. Ни скифские фантазии В. В. Григорьева и М. М. Лютова, ни туран-ские — Н. С. Трубецкого, ни согдийские — Д. Лоу и Л. Л. Гуревича не были серьезно восприняты государством, которое остается окончательным арбитром (и спонсором) националистических псевдоисторических мифов. Отчасти это объясняется тем, что ни российские, ни еврейские политические элиты не питали к Центральной Азии настолько сильного интереса, который потребовал бы легитимации с помощью отсылок к «преданьям старины глубокой». Даже ставшему популярным среди российской политической элиты неоевразийству бесконечно далеко до превращения в национальную идеологию. Характерно, что широкое освещение вопроса о «возврате» России в Центральную Азию вполне обошлось без евразийской риторики русско-тюркского «братства».
Напротив, третий национальный вариант мифа о потерянном колене, «турецкий», сформировался при значительной поддержке со стороны политических элит государства, справедливо увидевших в нем дополнительное обоснование своих притязаний на лидерство в «тюркском мире».
Турецкий миф: «Различение тюркского и турецкого чуждо самим тюркам»
Несмотря на языковую общность турков с тюркскими народами ЦА, их исторические судьбы не пересекались, как минимум, полтысячелетия. Турки за эти пять веков успели ассимилироваться с греко-анатолийским, южнославянскими, кавказскими и южно-средиземноморскими этносами, испытали, особенно с начала XIX века, значительное влияние западноевропейской культуры. Тюрки ЦА продолжали ассимилироваться с оседлым ираноязычным населением, а в ХХ веке — частично с переселенцами из России и с Украины. Отделенная от ЦА с северо-востока Россией, а с юго-востока — Персией, Турция в XVII–XIX веках не интересовалась своими среднеазиатскими «братьями».
Ситуация изменилась в начале прошлого века, когда турецкие националисты, разочарованные в «европейском» будущем Турции, обратили свои взоры на Восток. Надо заметить, что среди тюркоязычных элит в самой ЦА в тот период также усилились сепаратистские и националистические настроения, вдохновлявшие на изобретение великого героического прошлого. Кроме того, между турецким и центрально-азиатскими национализмами располагались мощные детонирующие звенья в виде национализмов татарского и азербайджанского. В совокупности эти разнородные силы, объединенные смутной идеей великого тюркского прошлого и не менее смутной утопией великого будущего, сформировали феномен, получивший наименование пантюркизма.
Хотя сила пантюркизма в 1910–1920-е годы сильно преувеличивалась, трудно согласиться с современными турецкими историками, доказывающими, что его вообще не было. Особенно настаивает на этом в своих многочисленных статьях Х. В. Паксой; по его мнению, пантюркизм «не имеет никакого исторического идеологического прецедента среди тюрков и является, что отражено в документах, изобретением Запада» 29. Это утверждение справедливо в отношении самого термина, но отнюдь не в отношении обозначаемого им феномена. Впрочем, слова Паксоя, напоминающие известные строки «это все придумал Черчилль в восемнадцатом году», вполне соответствуют свойственной ему идеализации тюркской общности, якобы существовавшей до российской колонизации Средней Азии. Он, например, утверждает: «Даже различение тюркского и турецкого чуждо самим тюркам, которые до прихода русских беспрепятственно общались друг с другом» 30. Но, во-первых, тюркоязычные и другие народы Средней Азии продолжали беспрепятственно общаться с остальным миром как минимум еще полстолетия после «прихода русских» 31 (общение это стало даже более интенсивным благодаря постройке Закаспийской железной дороги). Во-вторых, понятие «турки» использовалось в Бухаре до 1925 года, а в Азербайджане даже позднее только в отношении языка — для того, чтобы отделить всех говорящих на местных тюркских диалектах от «фарси» — говорящих на диалектах иранских. Вне этой языковой дихотомии, понятие «турки» не имело особого смысла и уж тем более не указывало на какое бы то ни было «братство» между, скажем, тюркоязычными севера Казахстана и юга Анатолии.
В начале 1990-х годов отождествление тюркоязычных народов с утерянным коленом вновь стало популярным в Турции. Как наиболее знаковую в этом смысле можно упомянуть сентенцию С. Демиреля, бывшего тогда президентом Турции, из его речи, произнесенной в октябре 1994 года на открытии Второго конгресса братства, дружбы и сотрудничества тюркских государств и народов: «Великодушный турецкий народ никогда не забывал своих братьев, живущих на Урале, Алтае, во всех уголках Азии, непрестанно вспоминая о них» 32.
Трудно сказать, что здесь имел в виду Демирель под «непрестанным вспоминанием». Новейшая история Турции полна примеров, когда в стране проходили массовые движения в поддержку турецких общин на Кипре (в 1974 году) и в Болгарии (в 1980-е годы), — но отнюдь не в поддержку «братьев» из ЦА.
Впрочем, нас интересуют мифы не политиков, а историков, хотя провести границу между теми и другими подчас довольно сложно. Высказывание Демиреля вполне созвучно мнению многих современных турецких исследователей, считающих, что Турция для остальных тюркоязычных народов — великодушный и постоянно о них помнящий брат, иными словами, — старший брат. Собственно, сама мифологема братства предполагает отношение «старший — младший». Для некоторых турецких историков и филологов это означает восприятие турков не только в качестве primus inter pares, но и в качестве единственного носителя полного набора атрибутов «тюркизма». Например, зачастую только современный турецкий язык объявляется аутентичным тюркским языком, тогда как среднеазиатские языки — лишь его диалектами 33. А история Турции изображается как магистральное направление истории тюрков, в то время как история остальных тюркских народов, прежде всего среднеазиатских, оказывается чередой исторических неудач и отклонений.
Один из относительно недавних примеров такого подхода — статья И. Тоган «Образы легитимации власти в истории тюрков» 34. Автор выделяет восемь «поворотных пунктов» в тюркской истории. Первые три «пункта» (от «возвышения ранних тюрков» 35 в VI веке н. э. до возникновения Османской империи в XV веке) относятся к эпохе некоего воображаемого единства тюркского мира. После этого «золотого века» в тюркском мире возникает раскол. В объяснении его причин автор, надо отдать должное, смотрит дальше Паксоя, который видит корень всех зол только в приходе русских. Различия, полагает Тоган, наметились еще во времена Тамерлана: «Жесткая политика Темура надолго вбила клин между торговцами и государством; это отделение торгового класса от государства ознаменовало собой четвертый поворотный пункт в турецкой истории. В то время как Османы в Малой Азии продолжали культивировать добрые отношения с торговцами... в крупных городах Средней Азии купцы оборвали свои связи с государством и сформировали независимые ложи при религиозных орденах (тарикатах). Однако это ослабило способность этих обществ сопротивляться вторжению российской и китайской империй» 36. Другими словами, пока прогрессивные «западные» крепили союз трона и прилавка, «восточные» увлеклись какими-то подозрительными ложами, за что и поплатились колониальной зависимостью.
Дальнейшая тюркская история по Тоган развивается по той же схеме: прогресс в Турции на фоне регресса в Средней Азии. Вот как характеризуется «поворотный пункт», пришедшийся на 1839–1876 годы: «Танзимат (реорганизация централизованного государства по европейской модели) на западе и империализм на востоке» 37. Между тем Турция потеряла к тому времени больше половины своих владений, потерпела несколько сокрушительных поражений, и исторические реалии никак не вписываются в миф о ее «победоносном шествии».
Следующий «поворотный пункт» начинается в 1923 году: «Основание Турецкой Республики и попытки создать национальную буржуазию. Конец освободительного басмаческого движения» 38. Снова та же мифологическая схема: прогресс в Турции — регресс в Средней Азии. Возникает только два вопроса. Во-первых, почему попытки создать в Турции «национальную буржуазию» начались лишь в 1923 году, если «добрые отношения» с торговцами культивирова- лись турецким государством с XV века? И почему «освободительное басмаческое движение» закончилось в 1923 году, то есть когда на деле оно было в самом разгаре?
Последний «поворотный пункт»: «1980–1991. Попытки развить рыночную экономику» 39. Чтобы у читателя при виде этих дат не возникло естественного недоумения, Тоган поясняет: «В Турции политика свободного рынка была начата 12 января 1980 года, а в Центральной Азии — 5 сентября 1991 года» 40. Почему именно 5 сентября, так и остается необъясненным; главное — с помощью жонглирования датами доказать, что Турция и здесь более чем на десятилетие опередила центрально-азиатских «братьев».
Безусловно, Турция на сегодняшний день — одно из наиболее экономически развитых и политически стабильных стран западной Азии. Если сравнивать ее по этим показателям с государствами ЦА, то выигрышность сопоставления для Турции будет очевидной. Но если поместить те же государства в один ряд с Ираном, чья культура на протяжении тысячелетий оказывала воздействие на их народы? Или с Россией, как главным «действующим лицом» в регионе в последние два столетия? Или с Афганистаном, где проживают туркмены, узбеки, таджики? И перечень можно дополнять, прибавив, например, Китай, Индию, или другие страны: всегда обнаружится какой-нибудь критерий, по которому можно объединить в одну группу несколько государств, в результате чего наиболее развитое из них получает основание назвать себя старшим братом, сестрой или дядей остальных.
Например, для Узбекистана остро стоит вопрос о выходе к морским портам; при этом часто отмечают, что в мире только два государства — Узбекистан и Лихтенштейн вынуждены, чтобы достичь моря в любом направлении, миновать еще две страны. Почему бы на этом основании не объединить Узбекистан с Лихтенштейном, найти другие схожие черты (например, популярные и там, и там виды спорта) и дофантазировать, в стиле Тоган, некие исторические параллели и «поворотные пункты», в которых Лихтенштейн окажется заведомо прогрессивнее Узбекистана? При желании можно обнаружить и общие исторические и этнические корни двух народов, благо нашумевшая «теория» Мурада Аджи о тюрках как о предках современных германских народов Европы и носителях «подлинного» христианства 41 вполне предоставляет такую возможность. В любом случае, среднестатистический житель Лихтенштейна помнит о народах ЦА столько же, сколько и среднестатистический турок. А именно, увы, ничего.
Естественно, пример с Лихтенштейном — сознательное утрирование. Никто не станет отрицать, что общность тюркских народов не исчерпывается одним лишь языком. Нам самим, анализируя специфику среднеазиатского ислама, приходилось использовать термин «тюркский мир» 42. Однако эта культурологическая категория отнюдь не предполагает единой тюркской истории, тем более такой, как у Тоган, когда Турция предстает аутентичным воплощением некой исторически прогрессивной тюркской сущности, прочие же тюрки изображаются в виде пассивных жертв злобного исторического фатума, и в этом смысле — утерянных (для общетюркской истории, общетюркского прогресса) колен. В результате центральноазиатский Другой превращается в Своего, в данном случае — с приписанной ему турецкой принадлежностью. То, что значительную часть населения региона образуют не-тюркоязычные народы, — таджики, русские, корейцы и т. д. — для ревнителей турецкого варианта разбираемого нами мифа не имеет никакого значения. Для них, как и для Паксоя, Тоган и иже с ними, народы пяти новых государств — просто гомогенная масса, «восточные турки», обреченные на запоздалое и несовершенное следование за «западными» во всех «поворотных пунктах» их истории.
В отличие от аналогичных фантазий русских евразийцев, «турецкий» миф получил в прошедшем десятилетии достаточно последовательное политическое воплощение. Мы не согласны с Я. М. Ландау, считавшим стремление Турции к лидерству в Средней Азии своеобразным развитием пантюркизма, равно как и с его слишком оптимистической оценкой турецкого лидерства 43. Однако элементы прежней пантюркистской мифологии в этом политическом процессе обнаружить несложно.
Действительно, если в экономическом сотрудничестве стран региона с Турцией быстро возобладали прагматические соображения, что принесло только пользу обеим сторонам, то вне экономической сферы итоги первой половины 1990-х были скорее негативными. Усилилась напряженность между тюркоязычными народами региона и таджиками. Ухудшились отношения с Ираном. Начался дорогостоящий переход на латиницу, вызывающую скрытое отторжение у значительной части местной интеллигенции. Все это делалось при прямом лоббировании Турции, хотя и не всегда, как в случае с письменностью, полностью по турецкому рецепту. Наконец, сами сред- неазиатские элиты не соглашались с ролью «утерянных колен» и болезненно реагировали на любое отношение к себе как к «младшим братьям». Как признает турецкий исследователь И. Бал, «Турция производила впечатление государства, не способного понять суверенность и чувство достоинства других тюркских республик» 44.
Безусловно, в последовавшем охлаждении отношений Турции с тюркскими государствами ЦА неправомерно винить только миф об утерянном колене, всплывший на волне постсоветской эйфории. Не стоит преувеличивать его влияние, игнорировать экономические, политические и прочие факторы. Однако свою деструктивную роль он все же сыграл. Турция не смогла или не захотела использовать «открытие» ЦА в 1991 году для более глубокого изучения региона, его истории, традиций, современных политических процессов. Как следствие, в океане зарубежных исследований по ЦА работы турецких ученых занимают в количественном отношении крайне незначительное место. Что касается качества, то мифология «общих корней», преувеличение сходства между турками и тюрками и пренебрежение различиями делают эти работы невостребованными в научном сообществе.
Вместо исследователей из Турции в Узбекистан, Казахстан и другие страны региона хлынули преподаватели и просветители. Вскоре многие были вынуждены вернуться обратно: реальность, с которой они столкнулись, оказалась слишком отличающейся от представлений о «восточных турках» и о собственном «историческом великодушии», которыми питались просветительские амбиции. Вместо плодотворной и необходимой функции посредника между среднеазиатскими народами Турция взяла роль ментора, образца аутентичного тюркского государства, которому остальным тюркам следует подражать. Констатировать это приходится с явным сожалением, поскольку история связей между Турцией и Центральной Азией остается малоизученной, а знание центрально-азиатской интеллигенцией богатой турецкой культуры не слишком-то возросло за последние годы.
* **
Итак, рассмотрены три наиболее репрезентативных национальных варианта мифа об утерянном колене в исследованиях по истории ЦА. Не хотелось, чтобы у читателя сложилось впечатление, что в этом очерке мы специально собрали гипотезы устаревшие (В. В. Григорьев), политически сервильные (И. Тоган) либо просто казусные (Д. Лоу). Целью его была не критика отдельных несостоятельных изысканий, а того бессознательно воспроизводимого мифа, который и обрек столь различные построения на неудачу, в случае с Турцией — на неудачу не только научную, но и политическую. Представление о народах Центральной Азии как о пассивных обломках других, «полноценных», народов (турецкого ли, русского ли, еврейского или какого-то другого) превращает научное исследование в более или менее грубую конструкцию из рискованных аналогий, бесшабашных этимологий и бездумных экстраполяций. На тот же образ пассивной и неспособной к самостоятельному историческому действию ЦА работают и две недавно воскрешенные и подновленные мифологемы: «Великий шелковый путь» (Great Silk Road) и «Большая игра» (Big Game). Первая превращает народы региона в безликий «путейский персонал», обслуживающий европейскую и китайскую экономическую экспансию: вторая представляет их еще более безликими статистами, путающимися под ногами внерегио-нальных государств-игроков. Миф об утерянном колене — явление того же порядка, рожденное аналогичным стремлением исследователей к утверждению и раздуванию исторической идентичности Своего за счет идентичности Другого, в данном случае — центрально-азиатских народов. Так, к сожалению, подтверждается давнее сетование Страбона о «легкомыслии историков и их страсти к мифам».
Список литературы Миф об утерянном колене в исследованиях по истории Центральной Азии
- Абдуллаев Е. К вопросу о научности в центральноазиатских исследованиях//Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 3 (9).
- Bregel Yu. Notes on the study of Central Asia. (Papers on Inner Asia, 28). Bloomington, Indiana, 1996. P. 5.
- Григорьев В. В. О скифском народе саках. СПб., 1871. С. 171
- Лютое М. М. Александр Великий в Туркестане. Ташкент, 1890. С. 20-21.
- Большая энциклопедия. Т. 18. СПб, 1901. С. 640
- Трубецкой Н. С. О туранском элементе в русской культуре//Евразийский временник. Берлин, 1925. Также доступно на: umilevica.kulichki.net/TNS/tns06.htm. Последнее посещение 14 февраля 2006 года.
- Ларюэлъ М. Переосмысление империи в постсоветском пространстве: новая евразийская идеология. Доступно на: iicas.org/articles/KrSt_24_03_OO.htm. Последнее посещение 14 февраля 2006 года
- Рахмонов Э. «Республика Таджикистан: на пороге XXI века»//Независимая газета, 2000, 8 декабря
- Забелло Я. Евразия превыше всего?//www.transcaspian.ru/cgi-bin/web.exe/rus/prn00016249.html. Последнее посещение 18 марта 2002 года.
- Law D. A. From Samaria to Samarkand: The Ten Lost Tribes of Israel. Lanham, Maryland, 199 I.P.I.
- Гуревич Л. Л. Бытовое и сакральное пространство махалли Ягудиен Бухары и Самарканда//Евреи Средней Азии в прошлом и настоящем; Экспедиции, исследования, публикации: Сб. науч. тр./Сост. И. Дворкин; отв. ред. Т. Д. Вышенская/Петербург, евр. ун-т; Ин-т исслед. евр. диаспоры. СПб, 1995. (Труды по иудаике. Сер. «История и этнография». Вып. 4
- Gourevich L. Biblical Symbolism of the Spatial Structure of Bukhara//The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art. Fifth International Seminar on Jewish Art: Abstracts. Jerusalem, 1996.
- Гуревич Л. Л. Бухарские евреи и проблема десяти потерянных колен Израиля//Культурное наследие Востока. Международная конференция (Санкт-Петербург, 23-25 ноября 1999). СПб., 1999. С. 26
- A Catalogue of the provincial capitals of Eranshahr/Pahlavi text, version and commentary by J. Markwart. Ed. by G. Messina. Roma, 1931. P. 11.
- Widengren G. The Status of the Jews in the Sassanian Empire//Iranica Antiqua, I, 1961. P. 120.
- The Ten Lost Tribes:Afghanistan. Доступно на:http://moshiach.com/tribes/ns/overview.html. Последнее посещение 14 февраля 2006 года
- Paksoy Н. В. Nationality or Religion? Views on Central Asian Islam//AACAR (Association for the Advancement of Central Asian Research) Bulletin, 1995. Vol. Ill, № 2; также доступно на: www.ukans.edu/~ibetext/text/paksoy-6/cae02.html. Последнее посещение 11 октября 2000 года
- Turk Kulturu, 1995. Vol. 32, № 380, 1994. P. 707
- Kazak Lehfesi, Ozbek Lehfesi, Turkmen Lehgesi и Kirgiz Lehgesi» (Tryjarski E. Towards Better Mutual Comprehension among Turkic-Speakers//T. Atabaki and J. O'Kane (eds.). Post-Soviet Central Asia. London, New York, 1998. P. 111).
- Togan I. Patterns of Legitimization of Rule in the History of Turks//K. A. Erturk. (ed.)/Rethinking Central Asia: Non-Eurocentric Studies in History, Social Structure and Identity. Reading, U. K, 1999.
- Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь. М., 1998.
- Abdullaev E. The Central Asian Nexus: Islam and Politics//B. Rumer (ed.). Central Asia: A Gathering Storm? Armonk, N. Y., London, 2002. P. 250-254
- Landau J. M. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. London, 1995. P. 219-224.
- Ball. Turkey's Relations with the West and Turkic Republics: The Rise and Fall of the Turkish Model'. Aldershot, e. a., 2000. P. 186