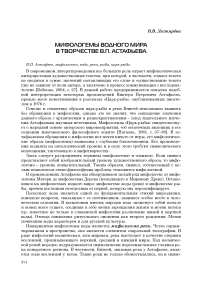Мифолегемы водного мира в творчестве В. П. Астафьева
Автор: Дегтярва Вера Владимировна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Лингвистика и литературоведение
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена мифологемам водного мира в творчестве В.П. Астафьева: мифологеме воды / реки / океана (моря) и мифологеме рыбы. Особое внимание уделяется мотиву смерти и воскрешения. Выстраивается цепочка взаимодействующих смыслов рыба - река - природа - Бог.
Астафьев в. п., мифологема, вода, река, рыба, царь-рыба
Короткий адрес: https://sciup.org/144153057
IDR: 144153057
Текст научной статьи Мифолегемы водного мира в творчестве В. П. Астафьева
В современном литературоведении все большую роль играет мифопоэтическая интерпретация художественных текстов, при которой, в частности, «смысл текста не сводится к сумме значений составляющих его слов» и «существование текста уже не зависит от воли автора, а включено в процесс коммуникации с исследователем» [Бобкова, 2004, с. 27]. В данной работе предпринимается попытка подобной интерпретации некоторых произведений Виктора Петровича Астафьева, прежде всего повествования в рассказах «Царь-рыба», опубликованных писателем в 1976 г.
Генезис и семантику образов царь-рыбы и реки Енисей невозможно выявить без обращения к мифологии, однако это не значит, что совпадение значения данного образа с архаическим и раннехристианским – плод тщательного изучения Астафьевым научных источников. Мифологизм «Царь-рыбы» свидетельствует о народной основе авторского мировосприятия, «об остаточных явлениях в его сознании многовекового философского опыта» [Нагаева, 1981, с. 37–38]. В астафьевском обращении к мифологии нет почти ничего от игры, его мифологические образы (мифологемы) выписаны с глубоким благоговением. Его произведения подняты на онтологический уровень и в силу этого требуют символического воплощения, тяготеющего к мифотворчеству.
Здесь следует разграничить термины «мифологема» и «символ». Если символ представляет собой изобразительный уровень художественного образа, то мифологема – уровень концептуальный. Таким образом, символ, соотнесенный с целым комплексом этико-философских проблем, становится мифологемой.
В произведениях Астафьева мы обнаруживаем целый ряд мифологем: от мифологемы Матери до мифологемы Дерева (восходящего к Мировому Древу). Остановимся на мифологемах водного мира: мифологеме воды (реки) и мифологеме рыбы, причем последняя неотделима от первой, которую она персонифицирует.
Поскольку вода является одной из фундаментальных стихий мироздания, комплекс вопросов, связанных с ее постижением, занимает особое место в человеческом сознании. В космогонии многих народов вода знаменует собой начало и конец всего сущего, соединяя в себе мотив зарождения жизни и мотив потопа (сp. известное не только в славянской мифологии различение живой и мертвой воды). Отсюда символика ритуального омовения как второго рождения. Мотив почитания воды характерен и для русской культуры.
Инвариантом мифологемы воды является мифологема реки. Четко сориентированная в пространстве, она является элементом сакральной топографии. В ряде мифологий космическая, или мировая, река выступает в качестве стержня вселенной, пронизывающего верхний, средний и нижний миры. Под космической рекой нередко подразумевается символически переосмысленная главная река конкретного региона. В частности, Енисей, знаковая река у Астафьева, является осью вселенной у кетов. Такие реки не только обожествлялись, но и симво- лизировали собой высший суд. Отсюда распространенные обычаи испытания предполагаемых преступников водой и клятвы на воде. Мотив вступления в реку обычно подразумевает начало важного дела, первый шаг к подвигу, а переправа через нее – его завершение и обретение новых качеств и нового статуса в жизни. Мифологему океана (моря) отличает хаотичность, аморфность, однако ее нельзя категорически противопоставить мифологеме реки, так как фактически именно от нее она ведет свое происхождение. В греческой мифологии Океан и является величайшей из рек, омывая собой землю и небо и давая начало всем водам. Очевидно, обе мифологемы являются лишь различными ипостасями космических вод и могут нести сходную с ними смысловую нагрузку.
В творчестве Астафьева мифологема реки является одной из наиболее концептуальных. Енисей становится не только географическим, но и мифопоэтическим и даже нравственным стержнем его художественного мира. Не случайно юному Акиму кажется, что «там, за Енисеем, совсем другая планета, и люди там другие, и ходят они по-другому, и едят другую пищу, и говорят на другом языке» («Царь-рыба») [Астафьев, 1997–1998, т. 6, с. 262]1. При этом ни одна из рек не существует в его творчестве изолированно, занимая свое место в единой натурфилософской картине мира. Так возникает образ реки как «синенькой жилки, трепещущей на виске земли» («Царь-рыба», [Т. 6, с. 65]).
У Астафьева мифологема реки может олицетворять как женское, так и мужское начало, в зависимости от того, о какой из рек идет речь в каждом конкретном случае: «Впервые видел я слияние двух больших рек – Маны и Енисея. < …> Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются» («Последний поклон» [Т. 4, с. 92]). Однако чаще всего она олицетворяет собой женское начало, неразрывно связанное с хтоническим. Ю.Г. Бобкова полагает, что «вода в своем разрушительном проявлении ассоциативно связана у В.П. Астафьева с двумя наиболее сильными потрясениями – потерей матери и военными событиями» [Бобкова, 2004, с. 29]. По мнению исследователя, у писателя «река беспощадна к женщине. Река ревностно (как воплощение женского начала) отнимает жизнь у той, кто может соперничать в способности давать жизнь, и убив, не оставляет в своем лоне» [Бобкова, 2004, с. 28]. Мотив гибели в воде возникает в целом ряде произведений писателя, таких как, например, «Последний поклон», «Стародуб», «Перевал», «Царь-рыба».
По выражению П.А. Гончарова, Енисей у Астафьева «наделен правом казнить и миловать», и в этом проявляется его мифологическая функция в произведении, «функция почти божественная» [Гончаров, 2003, с. 206]. Следует, однако, уточнить, что в художественном мире писателя правом на суд и отмщение наделены практически все реки. Один из ярчайших тому примеров – река Серебрянка из повести «Стародуб», «лесная колдунья» [Т. 2, с. 166], на первый взгляд коварно, а по сути справедливо заманивающая безжалостного к природе Амоса на погибель. И не забудем, что именно на берегу реки Энде находит свою смерть и главный «антигерой» «Царь-рыбы» Гога Герцев.
Заметим, что подобные персонажи не без основания испытывают суеверный страх перед рекой: «Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх. Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть» («Царь-рыба» [Т. 6, с. 190]). Для других же героев писателя река — это «диво-дивное, < .„> имя которой, точно капля меда, прилипает к языку, на всю жизнь оставляя в душе чистую сладость и яркую, детскую радость воспоминаний о зеленом чуде» [Астафьев, 2003, с. 493]. Вода в их восприятии — доброе и заботливое существо, не случайно она «живая и теплая» («Песнопевица» [Т. 7, с. 84—85]). Они не испытывают чувства отчужденности от реки, отторжения ею, ее равнодушия к человеку. Именно река помогает маленькому Акиму и его братьям и сестрам пробудиться от зимнего оцепенения, вернуться к жизни: «[дети] ковыляли на ослабелых ногах к высокому еще, первой, вольной водой вздутому Енисею и не умывались, а щупали его ладошками, и от живой, целительной воды начинало трепыхаться в них сердчишко, они, повизгивая, брызгались и пробовали смеяться» [Т. 6, с. 220—221]. Река перерастает образ «кормилицы-поилицы» («Последний поклон» [Т. 4, с. 92]) и становится местом, «дающим не только приют, но и смысл существования, и любовь, из которой затем прорастает тоска по земле, по такому вот, пусть дикому, но родному ее уголку» [Т. 6, с. 395].
Однако в художественном мире русского писателя находится место и для мифологемы океана (моря) , хотя, конечно же, она не играет в нем столь заметной роли. Если образ реки у Астафьева соединяет в себе все наиболее родное и близкое автору и его читателям, то океан (или море), с одной стороны, олицетворяет собой мечту, экзотику, таинственную запредельность («Одинокий парус»), с другой же – замыкает собой непостижимый круговорот жизни, разъединяя и в то же время соединяя континенты и разнообразные культуры и народы, на них проживающие («Голос из-за моря»). Иначе говоря, океан у Астафьева не отделен от описываемой им сибирской природы, он принимает в себя великое множество рек и озер, сливая бесчисленные малые родины в общую родину человечества – планету Земля. Так, в «Царь-рыбе» Аким часто проводит ночи на берегу, «глядя в те голубые пространства, куда уходила великая река Енисей. Дальше было много рек, речек и озер, а еще дальше - холодный океан, и на пути к нему каждую весну восходили и освещали холодную полуночную землю цветки с зеркальной ледышкой в венце» («Царь-рыба» [Т. 6, с. 263]). Более того, океан неразрывно связан и со всей вселенной: «Сколько их, этих звезд, упало и скатилось на дно океана. Недаром океан, когда тих и задумчив, переливается, искрится, светится, и кажется тогда, будто дно темно-голубого океана состоит из звезд» («Одинокий парус» [Т. 7, с. 91–92]). Не случайно писатель сравнивает с океаном столь любимую им тайгу: «А лес все шумел, накатывал волнами, как бескрайнее море-океан , всесильный, неумолчный и вечно живой» (выделено нами. — В.Д. ) («Стародуб» [Т. 2, с. 169].
У Астафьева мы обнаруживаем и мотив гибели космоса в водах мирового океана. В повести «Пастух и пастушка» Борис Костяев видит во сне эсхатологическую картину всемирного потопа: «земля, залитая водою, без волн, без трещин и даже без ряби. < .„> По воде идет паровоз, тянет вагоны, целый состав, след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды. Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов ссыплются туда же вместе с людьми, с печами, с нарами и с солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, будет вода, небо, солнце и ничего больше!» [Т. 3, с. 79—80].
Являясь эквивалентом первобытного хаоса, водная бездна обычно выступает олицетворением смертельной опасности и даже метафоры смерти. Ту же роль выполняет и персонифицирующее её чудовище. Сходную семантическую нагрузку несет у Астафьева образ царь-рыбы , являющейся олицетворением природы в целом и реки Енисей в частности и воплотившей в себе одну из древнейших мифологем — мифологему рыбы .
В первобытную эпоху культ рыбы был распространен во всем мире. В ряде мифов рыба выполняет функцию демиурга-творца, принося со дна первозданного океана ил, из которого возникает земля. Демиургическая функция рыбы имеет и пассивный вариант – в тех мифах, где рыба (кит или три кита, дельфин и т. д.) является опорой земли. При шевелении (волнении) рыбы-опоры происходят землетрясения и наводнения. С рыбой связана также тема смерти и воскрешения , что отражено в библейском предании об Ионе, проглоченном гигантской рыбой (в славянском переводе Библии – китом) и через три дня и три ночи извергнутом ею на сушу. Во всех перечисленных случаях рыба выступает в роли эквивалента нижнего мира, т. е. царства мертвых, где необходимо побывать, чтобы воскреснуть к новой жизни. «Рыбная» метафорика Иисуса Христа отчетливо прослеживается в библейских текстах и прочей раннехристианской литературе. Рыба в ней служила символом веры, чистоты, а также крещения и причастия. Греческое слово ίχθύς («рыба») обычно расшифровывалось как аббревиатура греческой формулы «Иисус Христос, Божий сын, спаситель». Иногда Христос прямо назывался в раннехристианской литературе «Рыбой», а сами христиане «рыбаками». Последняя традиция берет свое начало в образах апостолов-рыбаков Петра и Андрея, сделавшихся «ловцами человеков». Рыбаком изображается также и Будда.
Мифологема рыбы может иметь и другие значения, символизируя как плодовитость, изобилие, мудрость, так и прямо противоположные черты: скупость, равнодушие, глупость. Поэтому рыба является частым персонажем сказочного фольклора. Исторические же корни восприятия осетра в качестве царь-рыбы (наряду с тайменем), возможно, лежат в старорусской традиции доставлять его как главное блюдо к княжескому, а позже царскому пиршественному столу.
В образе царь-рыбы у Астафьева находит воплощение архетип материнского начала, или высшего женского существа, олицетворяющего собой бессмертие, связь поколений, преодоление власти времени. Материнское начало абсолютизируется как в мировоззрении, так и в творчестве писателя. Образы природы-матери и женщины-матери, оскверненные, но неистребимые и готовые покарать обидчика за свое унижение, сливаются воедино в мифологеме царь-рыбы.
Ее внешний облик дается читателю в восприятии лишь одного действующего лица – браконьера Игнатьича. Поэтому описание царь-рыбы является отражением тех чувств и мыслей, которые испытывает человек по отношению к ней. «Богоданная», «сказочная» царь-рыба принимает в глазах героя нечистые, дьявольские черты. «Да уж не оборотень ли это?! < ...> Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человечье есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной» [Т. 6, с. 190]. Оказывавшись с рыбой «на одной ловушке», Игнатьич испытывает невольный ужас: «в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе» [Т. 6, с. 184]. Столь неожиданное восприятие царь-рыбы – олицетворения природы (!) – пытается объяснить сам Игнатьич: «Ни Бога, ни черта не боюся, одну темну силу почитаю... Так, может, в силе-то и дело?» [Т. 6, с. 183—184]. Так искаженный внутренний мир героя искажает в его глазах и окружающий миp.
Причина непостижимости и некоторой отстраненности, «надмирности» царь-рыбы лежит в традиционном представлении о рыбе как создании «холодном», лишенном страстей, а потому беспристрастном в своей оценке. Как отмечает Е.Н. Викторук, рыба – «существо, лишенное слова, что позволяет ей безмолвно вопрошать “молчаливым голосом совести”» [Викторук, 2006, с. 94]. Не давая каких-либо ответов или рецептов нравственного поведения, царь-рыба лишь заставляет человека вспомнить и осознать свои грехи, ибо в восприятии героев Астафьева царь-рыбу в принципе возможно одолеть, она недоступна только для грешников. Здесь мы видим воплощение традиционной литературной коллизии – противостояния человека и значительно превосходящих его природных сил. И результатом этого столкновения становится очищение души героя.
Фамилия Игнатьича (Утробин) говорит о приземленности его натуры и полном отсутствии духовной жизни. Внутреннее развитие и поступки героя соответствуют семантике его имени. Игнатьич чужд всему, что не имеет отношения к погоне за рыбой, точнее, за достатком, который приносит ему его богатый улов, его даже нельзя назвать рыбаком в исконном, библейском смысле этого слова. Он поднимает руку не на рыбу – на саму природу, даровавшую ему жизнь. И только финал рассказа дает нам надежду на его духовное перерождение, ибо оказавшись в экстремальной ситуации, между жизнью и смертью, он вспоминает о Боге. Искренне, всей душой покаявшись в своем тяжком грехе (расправой над любимой девушкой), Игнатьич освобождается от царь-рыбы, заслужив раскаянием свое право на жизнь. Таким образом, царь-рыба не только играет роль природной / божественной карающей силы, но и в то же время воплощает в себе царство смерти, кратковременное пребывание в котором может помочь человеку возродиться к новой жизни, подобно пророку Ионе.
Образ царь-рыбы не стоит особняком в творчестве Астафьева, ему родственен образ тайменя – «атамана сибирских вод» в рассказе «Тень рыбы». Таймень предстает здесь как могучее создание с непокорным, «сатанинским» характером: «Красива, дивна была рыбина с покатой головой, с телом стремительным и нарядным. < ...> все в нем цвело, все роскошествовало, пятнистый плавник наборной гармошкой, открытый во все меха, украшал крейсерски стройную спину» [Астафьев, 2001, с. 244]. В данном образе воплощено не только величие природы, но и ее непознаваемость, неразгаданность: «.каким-то таинством пугающе дохнула на меня живая глубь» [Там же, с. 245]. Чудесное существо, «фантазия природы» позволило лишь разглядеть, но не поймать себя, однако и такая мимолетная встреча воспринимается автором как щедрый дар судьбы: «Он проплыл близко от моих ног и ящика, на котором я сидел, вроде бы меня и не заметив, величественный и надменный. Его как бы втягивала в себя подледная живая темень, он погружался в нее, оставляя под собою тень, и когда его не стало, тень еще какие-то мгновения оставалась на виду. Уползла, утя-нулась под лед белая леска, следом и тень уплыла, погасла. < .> Остановись, мгновенье, остановись! Ты прекрасно!» [Там же].
Поединок с рыбой в повествовании Астафьева также не единственный. В главе «Туруханская лилия» данная коллизия возникает снова, однако ее воплощение являет собой полную противоположность главе «Царь-рыба»: единоборство героя-повествователя с прекрасным темноспинным сигом завершается победой человека, который, налюбовавшись пойманной рыбой, целует ее и вновь выпускает в реку. Именно такое благодарно-благоговейное отношение к своей добыче ( « Взял вот, попался и надолго, если не на всю оставшуюся жизнь, подарил мне такую радость» [Т. 6, с. 302]) и делает возможным счастливый для человека исход поединка, поскольку, как справедливо указывает Е.М. Букаты, «подобные священные дары не должны съедаться, в координатах мифологического мира – это не пища, а знак причастности, посвящения» [Букаты,2002, с. 109].
Так в произведениях Астафьева выстраивается цепочка взаимодействующих смыслов рыба - река - природа - Бог . Занимая центральное место в образной системе писателя, мифологемы водного мира становятся ярким воплощением его этической и художественной концепции.