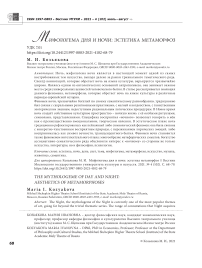Мифологема дня и ночи: эстетика метаморфоз
Автор: Козьякова Мария Ивановна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 4 (102), 2021 года.
Бесплатный доступ
Ночь, мифологема ночи является в настоящий момент одной из самых востребованных тем искусства, выходя далеко за рамки тривиального тематического ряда. Спектр коннотаций, которые обретает ночь на языке культуры, варьируется чрезвычайно широко. Являясь одним из онтологических оснований антропогенеза, она занимает важное место среди универсальных ценностей человеческого бытия. В статье рассматривается эволюция данного феномена, метаморфозы, которые обретает ночь на языке культуры в различные периоды европейской истории. Феномен ночи, чрезвычайно богатый по своему семантическому разнообразию, традиционно был связан с сакральными религиозными практиками, с магией и колдовством, с таинственным эзотерическим знанием, недоступным рациональным логическим процедурам. В Новое время ночь создаёт собственное культурное пространство - ночную жизнь с её особыми ритуалами, символами, представлениями. Специфика восприятия «ночного» позволяет говорить о нём как о преимущественно эмоциональном, творческом явлении. В эстетическом плане ночь традиционно рефлектировалась как пейзажный либо символический феномен: она была связана с конкретно-чувственным восприятием природы, с переживанием лирических эмоций, либо воспринималась как символ вечности, трансцендентного бытия. Феномен ночи становится также феноменом интеллектуального плана: многообразие метафорических смыслов, богатство ассоциативно-семантического ряда обусловили интерес к «ночному» со стороны не только искусства, литературы, но и философии, психологии.
Эстетика, ночь, день, свет, тьма, мифологема, метаморфозы, искусство, музыка, живопись, семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/144162219
IDR: 144162219 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Мифологема дня и ночи: эстетика метаморфоз
Постановка проблемы
Ночь, культура ночи – явление сложное и многоплановое, богатое по своему семантическому разнообразию, одно из самых ёмких по смысловому наполнению. В качестве физического феномена ночь представляет собой определённый временной период, часть суток, и в этом физическом «естестве» принадлежит природному универсуму. Этот феномен, однако, не находится в тривиальном временном ряду, а выходит далеко за его пределы: являясь одним из онтологических оснований антропогенеза, он занимает важное место среди универсальных ценностей человеческого бытия. Культура ночи сохраняет актуальность проблематики и в современном, быстро меняющем свои фундаментальные характеристики мире. Более того, ночь является одной из самых значимых и самых востребованных тем искусства, поскольку она активизируется в «рубежные», переходные эпохи человеческой истории, на крутых цивилизационных поворотах. Всё это позволяет говорить об особом интересе к ней, о необходимости исследования этого явления, в том числе в эстетическом аспекте.
Метафизика ночи
Феномен ночи представляет собой многоаспектный, лабильный компонент социокультурного комплекса, семантика которого варьируется в зависимости от ракурса рассмотрения. Данный феномен может рассматриваться в разнообразных контекстах – таким образом он ускользает от попыток однозначной интерпретации: феномен ночи может выступать как философская концепция, как физическая данность, как нормативный правовой законодательный акт. В таком случае он будет сух, формализован, объективирован. С другой стороны, он может рефлектироваться не как метафизический концепт, а как интенция, грёза, некая одухотворённая, возвышенная мечта. Спектр коннотаций, которые обретает ночь на языке культуры, таким образом, варьируется в достаточно широких преде- лах, обретая при этом различные, зачастую прямо противоположные смыслы и значения. «Дано ли нам постичь глубину ночи при свете дня?» – риторически вопрошает Ф. Ницше, подразумевая и тем самым провоцируя однозначно отрицательный ответ. Этот вопрос, как никакой другой, характеризует глубину, неоднозначность исследуемого в данной статье объекта. Исторически, традиционно ночное время было связано не только с примитивной магией и колдов- ством, но также с сакральными религиозными практиками, с хранимым в тайне эзотерическим знанием, недоступным любым логическим, рациональным процедурам.
Время в культуре метафизически связано с пространством: первоначально эмотив-но нейтральный феномен природы в культурной аксиоматике, как известно, приобретает разнообразные религиозные, социальные, этические и эстетические коннотации, тем самым изменяет свою семантику. Ночь всегда включается в картину мира на бытовом, повседневном плане, также традиционно она онтологизирована в ней на аксиологически выделенном уровне, будь то мифологизированная или ритуализованная сфера. В качестве одного из значимых, существенных факторов общественного бытия ночь отражает характер цивилизационных процессов, их динамику, эволюционные изменения. Архаические ритуалы, связанные с ночной тематикой, генерировали формирование исходных образов культуры, заложив тем самым основания для юнгианских архетипов, входивших в древние символические системы.
В природе естественным образом происходит последовательная смена светлого и тёмного времени суток, то есть наличествует циклический ритм, в котором оба временных состояния плавно перетекают друг в дру- га – это цикл, который невозможно остановить. В культуре день и ночь разделяются, рефлектируются как определённые статичные начала – временные константы, полярные по своим характеристикам. Они образуют, во всяком случае на первый взгляд, некие полюса, прямо противоположные субстанции, которые максимально удалены друг от друга. Естественно, что эти полярности по-разному взаимодействуют с природой человека – комплиментарно или же антагони- стически; последнее следует отнести к ночной специфике, поскольку по своей физиологии человек не приспособлен к ночной жизни. Дневной образ жизни человека, его онтогенез теснейшим образом связан со зрением – при этом, однако, нам требуется много солнечного света: в отличие от животных, ведущих ночной образ жизни, мы плохо видим в темноте. У человека отсутствует специально адаптированный к темноте аппарат бинокулярного зрения, его периферическая анатомо-физиологическая система, способная получать и обрабатывать информацию из окружающего мира, также не предназначена для ночного существования.
Человек – создание дневное, его жизнь – дневная жизнь, его пространство должно быть залито светом, а ночь предназначена для сна. Семантика, аксиоматика, эстетика этой идеологемы прекрасно отражены в Библии, в Божественном Шесто-дневе. Согласно христианским представлениям, сам человек, точно так же как и Свет, является творением Божьим, а процесс творения, его исходный пункт, начало, был связан с отделением света от тьмы, с обособлением дня и ночи. Глубины ночи неведомы и необозримы для человека, как необозримы глубины и хаос космического пространства, и именно из темноты творился Божественной волей свет и день. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Дальше Он именует их и, поскольку именование имело особый мистический смысл, рассматривает имена в аксиологически маркированном пространстве: «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы… И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» [4, Бытие 1; 1-6].
Эстетика метаморфоз: истоки
Применительно к бессобытийной, «долгой» или «спящей» ранней истории человеческого общества вряд ли можно говорить о каких-либо эстетических аспектах ночной культуры. О дальнейшем её развитии можно судить по мифам разных народов: среди первых закономерностей, отмеченных человеком, были годовые и суточные ритмы природы. Как и смена времён года, смена дня и ночи воспринималась как порядок, установленный высшими силами, – последний был стабильным и неизменным, так как являлся необходимым условием существования мира. Что же касается ночной тьмы, то она делала человека беспомощным перед опасностями окружающего мира: она сама представляла главную опасность и зачастую могла вызывать чувство безумного, всепоглощающего страха. Таким образом, следует отметить, что эмоциональный комплекс страха, боязнь темноты, появился ещё в глубокой древности. Унаследованный генетически как один из архетипов страх, коренящийся глубоко в подсознании, мог в определённых ситуациях выплёскиваться волной первобытного ужаса, панического и не поддающегося контролю.
Сложность и многоаспектность, глубину исторических корней, привлекающую к теме ночи внимание аудитории, безусловно, необходимо анализировать, начиная с Античности. Многообразие эстетических интерпретаций, характеристик «ночной» тематики было заложено именно тогда. Ещё у греков смысловой контент ночи был представлен как сложная, генетически неоднородная картина мира. В греческой космогонии Ночь, связанная с космическим «началом», занимала одно из важнейших, доминантных мест. «Начало» визуализировалось как Хаос, как изначально пустая и бесформенная бездна, подобная библейской, и этот образ был принят практически как аксиома: он присутствует и в мифологии, и в авторских произведениях – в «Теогонии» Гесиода, философии Платона и Анаксагора. Тёмный, бесформенный, необозримый Хаос рождает беспросветный мрак подземного мира – Эреб, и «ночную» богиню Никту, Никс.
Согласно Гесиоду, она была могущественной богиней, породившей целый сонм богов, карающих и преследующих людей, в том числе Убийства, Скорби и другие. Её традиционно изображали как женщину, одетую в чёрные одежды, обычно она держала на руках рождённых ею детей – Смерть и Сон. Символами и атрибутами Ночи, естественно, являлись звёзды и Луна, чёрные крылья, а также мак и сова. Таким образ ночь выступает в художественной традиции, таким он был неоднократно воспроизведён в изобразительном искусстве, в поэзии. Эти же атрибуты перечислены в стихотворении А. Ахматовой «Nox»1.
«Ноченька!
В звёздном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой…» [2, с. 200].
Ночь, как божество космического порядка, занимала особое место в греческом пантеоне: она обитала в бездне Тартара и была отделена от когорты светлых олимпийских богов. Все боялись и почитали грозную богиню, и потому не только смертные люди, но и бессмертные боги не осмеливались приближаться к ней. Среди её ужасных порождений были, однако, и светлый День, и сияющий Свет, Эфир:
-
[122] Чёрная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
-
[123] Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру:
-
[124] Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись [6].
Ночь по своему генезису важнее дня: она изначально светоносна, свет рождается из тьмы. Ночь дарит не только сон или смерть, но и новое рождение, а её образ как звёздной колыбели человечества занял прочное место в качестве одного из важнейших архетипов европейской культуры. Наиболее приближен этот сложный эстетический, метафизический образ к концепции орфиков, которые воспринимали Ночь как наставницу богов, благую и мудрую богиню. Мифологема животворящей тьмы, её метаморфоза, превращающая тьму в источник света, способный «осветить и возродить мир», оказалась чрезвычайно жизнеспособной. «Свет рождается из тьмы» – античная по своему происхождению идея переживёт эпоху Античности, будет воспринята христианством, продолжится далее в эпоху Ренессанса и Нового времени, разовьётся и принесёт прекрасные плоды в искусстве и литературе, поэзии и философии. «Таинство возрождения человека и мира всегда совершается ночью», – этот момент акцентируют современные исследователи [1, с. 66]. О художественном вопло- щении этой идеи говорят раннехристианские мозаики в церквах Равенны, изображающие звёздное небо, «Ночь» Микеланджело в Капелле Медичи, «Звёздная ночь» В. Ван-Гога и многие, многие другие. Богатый семантический потенциал ночи, сделавший её одной из любимейших тем в искусстве, был сформирован, таким образом, уже в Античности.
Эстетика метаморфоз: эволюция
Средние века восприняли идеи Античности и развили их, интерпретировав в религиозном, мистическом плане. Средневековая христианская мистика акцентирует противостояние Света и Тьмы, которые однозначно ассоциировались в церковном учении с добром и злом. Дуализм мифологического мышления универсален, это касается в первую очередь оперирования оппозициями, традиционными для мифоло- гии разных народов мира: верхом и низом, мужским и женским, правым и левым, светом и тьмой. В религиозной традиции, служившей основанием средневековой культуры в христианской Европе, мифологема дня и ночи не просто актуализируется, но и выходит на первый план.
Роли света и тьмы, дня и ночи были жёстко закреплены: добро и радость принадлежали светлому времени суток, были олицетворением света. Ночь являла собой опасность, была страшна, поскольку, как и раньше, несла всевозможные угрозы. Естественно, что именно это время должно было принадлежать нечистой силе – всевозможным ведьмам, вурдалакам, демонам: тьма обеспечивала их полное и абсолютное господство, особенно страшна была Вальпургиева ночь, как символ и знамение их торжества. Всевозможная нечисть инфернальна, она принадлежит к потусторонне-
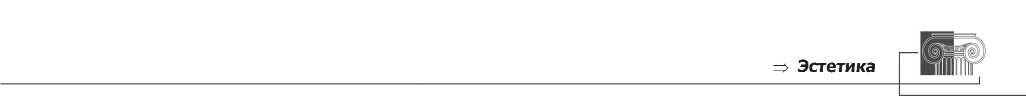
му, «нездешнему» миру и потому злокозненна, страшна и опасна для человека. Противопоставление дня и ночи переходит в оппозицию жизни и смерти: «Бог даровал день живым, а ночь отдал мёртвым», – подчёркивал немецкий хронист Титмар Мерзебург-ский. Ночь – время мёртвых, когда мертвецы покидают свои могилы [7]. Для живых был предназначен день, поскольку только свет мог даровать жившим в средневековом мире людям наивысшую ценность – ощущение безопасности.
Дневной свет, всё светлое несли в себе положительные характеристики, однозначно предполагая превосходную степень как этических, так и эстетических качеств, поскольку прекрасное в христианской метафизике должно было ассоциироваться с Божественным творением: «горний Свет», «Светлое Воскресенье», «прекрасен как день». Тем самым Средневековье рождает новую христианскую метафизику света как Божественной любви, несущей спасение. В XII веке приходит откровение – «Бог – это свет!». Рождается искусство готики, эстетика готического собора: кружева камня, устремлённого ввысь, феерии витражей, пластики и выразительности статуй.
Эпоха Возрождения коренным образом трансформировала культурную парадигму – уже не Бог, но ренессансный герой, названный «прометеевским человеком» (В. Шубарт), становится хозяином собственной судьбы, её демиургом и творцом. Прометеевский человек «… стремится больше не к спасению души, а к владению миром» [12, с. 13]. Исторически именно он получает приоритет в освоении пространства ночи – этого наиболее удалённого от человека, не подходящего для человеческой деятельности периода времени. Ночной вре- менной континуум по своим характеристикам принадлежит космическому универсуму, чуждому и опасному для человека пространству: космос не подвластен человеческому произволу. Однако «колонизация», освоение ночного времени совершается вместе с развитием технического потенциала Запада. Искусственный свет получает всё большее распространение как неизменный атрибут роскошного декора княжеских палаццо, как украшение всевозможных праздников и торжественных церемоний – ночь постепенно начинает отступать под натиском искусственного освещения. Придворная жизнь превращается в «бесконечный праздник бытия» (Й. Хейзинга), который был особенно характерен для бургундского двора, для ренессансных дворов Италии. Для их правителей – Медичи, д’Эсте, Гонзаго, Сфорца – ночное освещение позволяло создавать блистательную атмосферу праздника, в котором чередовались удовольствия балов, пиров и маскарадов.
Ночное время, глубина ночи создаёт трудное для интериоризации, но магически привлекательное для искусства пространство. В период Ренессанса и Нового времени ночные мотивы были одинаково значимы для музыки и живописи, поэзии и прозы. Разнообразные варианты прочтения данной темы раскрывались в произведениях, принадлежащих к разным национальным школам, – тема ночи оказалась востребованной в живописи итальянского, а также Северного Возрождения. Ночь позволяет создать особую атмосферу таинства, мистических иррациональных форм, в которых отражалось трагическое мироощущение эпохи макабра. Возникает традиция ночных сцен на библейские сюжеты: к ней обращаются А. Альтдорфер (алтарные композиции), А. Корреджо («Ночь»), Тициан
(«Коронование терновым венцом»), Я. Тинторетто («Поклонение волхвов», «Тайная вечеря») и другие.
Для XVII, XVIII веков характерно продолжение этих тенденций: архитектура и скульптура, живопись и музыка, как и прежде, служат возвеличиванию католической церкви. В эпоху абсолютизма, однако, на первый план выходит королевская власть, придворное общество с его демонстративным, театрализовано-этикетным ритуалом. Важнейшая роль принадлежит здесь световой феерии, поскольку она призвана была освещать великолепие королевского двора, служить его репрезентации как центра власти и одновременно – центра художественной жизни. С этой целью был использован весь арсенал художественных средств господствовавшего в XVII века художественного стиля барокко. В эстетике барокко динамизм, эмоциональное напряжение, экспрессия барочных форм достигались, кроме прочего, за счёт использования эффекта всевозможных контрастов. Это эстетические контрапункты – контрасты цвета, движения, образов, в том числе контраст света и тьмы.
Собственный культурный код, созданный абсолютизмом, уделял особое внимание ночному времени – ослепительно сияя в ночи, искусственное освещение ярко и эффектно демонстрировало великолепие королевских резиденций. Так, проходившие в Версале праздники современники неизменно описывали в восхищённых выражениях. В знаменитой Большой зеркальной галерее, служившей образцом и объектом подражания для многих королевских дворов того времени, зажигались, как писали очевидцы, тысячи огней. Они «отражались в зеркалах, покрывавших стены, в бриллиантах кавалеров и дам. Было светлее, чем днём. Было точно во сне, точно в заколдованном царстве» [10].
В так называемой культуре салонов, характерной для XVIII века, публика, принадлежавшая к светскому обществу, подобным же образом отдавала предпочтение ночному времяпрепровождению. Культ наслаждения, безделья, любовные похождения – на всех ночных практиках, занятиях и развлечениях стояла печать элитарной специфики. Ночь, её эстетическая репрезентация являлись символом аристократической праздности, обретая особую аксиологическую ценность для данных кругов. Для низов же с их «профанной» дневной жизнедеятельностью, ночные развлечения знаменовали собой достаточно редкую, не всегда доступную им возможность «праздничной роскоши» (М. Бахтин). К ней относились непритязательные пирушки в кабачках и тавернах, разнообразные зрелища, гулянья, карнавальное веселье – для простого люда это была недолгая приостановка напряжённого труда. Тем не менее она была чрезвычайно важна, поскольку давала возможность насладиться моментом отдыха, который был необходим физиологически и одновременно в социальном плане, знаменовал собой краткий миг утопической свободы, был выходом из жалкого и угнетённого состояния дискриминации, насилия, всевозможных запретов.
Эстетика метаморфоз: кульминация
В XIX веке ночь превращается в одну из самых актуализированных, востребованных тем, имеющих широкий диапазон смысловых интерпретаций. Интерес к «ночной» тематике проявлялся со стороны художников, писателей, поэтов различных направлений, течений искусства. Ночь у многих народов являлась временем любви, удовольствия и наслаждения: этика, эстетика этого аспекта отражены в метафорах «ночь нежна», «ночь соловьиная».
Но здесь же присутствует и её тень, оборотная сторона любви в виде греха и порока продажной любви, блудодейства. Об этом также пишут картины и стихи – например, А. Тулуз-Лотрек («Танец в Мулен-Руж»), В. Брюсов («Ночь») и другие. «Идёт и торжествует мгла», – пишет Брюсов в этом стихотворении:
«Но пробуждается разврат.
В его блестящие приюты
Сквозь тьму, по улицам спешат Скитальцы покупать минуты» [5].
В эпоху романтизма эстетика ночи вновь претерпевает трансформацию – теперь она снова соединяется со смертью, как некогда в Античности: «Всех ожидает одна и та же ночь» (К. Г. Флакк). В произведениях романтиков ночь не только трактуется как окончание жизненного пути, но и эстетизируется – картины П. Пюви де Шаванна («Мечта», «Сновидение»), Э. Моргана («Ночь и Сон»). Отождествляя ночь, сон и смерть, романтики открывают время «прекрасных» смертей: она даёт утешение как «небесный избавитель» (А. Ламартин), как «единственная надежда» (Ш. Бодлер), оказывается желанной, сладостной, милосердной. Ощущение бренности всего земного пронизывает английскую сентиментальную, так называемую кладбищенскую поэзию Э. Юнга, Т. Грея, Т. Парнелла. В «Гимнах к ночи» Новалиса романтическое отрицание профан-ности бытия достигает своего апогея – ночь светлее дня, утверждает автор. Эстетика мёртвой, трупной красоты «чёрного», готического романа знаменует собой особую главу в истории художественных метаморфоз ночи, примером чего может служить роман Ч. Мэтьюрина («Мельмот-скиталец»).
Эстетику «ночного» питает не только ночная лирика и ночная фантастика, готический роман и «кладбищенская» поэзия, но и ноктюрн в музыке, ночной пейзаж, ночные образы в живописи: от итальянского и Северного Возрождения до живописи А. Маньяско и Ф. Гойи, У. Тернера и Д. Уистлера [7]. И далее, в декадансе и символизме будет продолжена эстетическая разработка ночного дискурса – вплоть до эстетики fin de siècle конца ХIХ века. Печаль, меланхолия, утончённая красота сумеречных грёз, как ни что иное, характеризуют эти направления. Ночь трактуется в них как покой и Эрос, царство гармонии и «священного сна». Она предстаёт как символ таинственной двери, открывающей вход в мир фантазий и мистики, в ней культивируются лиричность и таинственность: «… от сумерек до сумерек, по чёрной бархатной дороге, усыпанной серебряными звёздами, мы идём и входим в великий храм безмолвия, в глубину созерцания, в сознание единого хора, всеединого Лада» [3, с. 5].
Из этих таинственных ночных областей, окрашенных мистическим колоритом, «вырастает» поэзия П. Верлена и С. Малларме, ранняя драматургия М. Метерлинка, «лунная поэтика» О. Редона и Э. Мунка, русских символистов. О магическом влиянии луны, внушающей странное беспокойство, слагал стихи Бодлер («Дары луны»), им вдохновлялся Верлен («Лунный свет»), оно присутствует в ночных пейзажах Мунка («Лунный свет», «Звёздная ночь»), в «ночных видениях» А. Рембо («Бдения», «Вульгарный ноктюрн»). К ним относятся и чёрные «ноктюрны» Редона, выполненные в том же мистическом ключе, ещё более загадочные и пугающие, стоящие «на грани между реальностью и фантазией», – «Улыбающийся паук», «Глаз с цветком мака» и дру- гие. Излюбленные мотивы Редона – глаза, открытые или закрытые, образ грезящего человека («Закрытые глаза») – всё это будет позднее воспринято сюрреалистами.
«Ночное» как пространственно-временное явление актуализируется и в музыке, имплицируется на уровне звуковой идеи, как эстетическое воплощение природного начала. Диапазон ночной импрессии чрезвычайно широк: от пейзажного, лирического, романтического, сказочно-фантастического до конкретной, чувственно определённой музыкальной изобразительности. Ноктюрн онтологизировался как специфический жанр, как лирическая миниатюра (ноктюрны Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига, М. Балакирева, П. Чайковского). Он также мог представлять собой ночные картины в операх, отдельные образы, сюжетные линии, тем самым включаясь в развитие драматического действия, что позволяло по-новому использовать его смысловой потенциал. Ночная тематика эволюционировала от распространённых преимущественно в музыке XIX века звукоподражаний природе, примеры которых дают ночные пейзажи в операх Дж. Верди, Н. Римского-Корсакова и других, до возникновения сонорной техники в первой половине XX века и её дальнейшего распространения в оркестровой музыке (Г. Малер, Б. Барток, С. Прокофьев).
С техническим прогрессом, с «новой природой» рукотворного мира, в котором существует человек, связано успешное «укрощение» разнообразных стихий, в том числе «освоение» и «присвоение» ночного времени. Ночь отступает физически, но её семантика привлекает всеобщее внимание многообразием метафорических смыслов, богатством ассоциативно-семантического плана. Интерес к «ночному», как феномену интеллектуального плана, проявляли тео- ретики литературы и искусства, философы и психологи. В своём творчестве к этой теме обращались Ф. Шеллинг и Новалис, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, З. Фрейд и К.-Г. Юнг, Н. Бердяев и О. Шпенглер.
XX век актуализировал самые глубокие пласты «ночного», новые смысловые аспекты этого понятия, обозначив всё возрастающий интерес к особым, пограничным состояниям человеческой психики. Они получат развитие в психологии Фрейда и Юнга, в разработанной Фрейдом концепции бессознательного, изложенной в его трудах «Толкование сновидений» и «О психоанализе». В дальнейшем Юнг создаст теорию архетипов, где «ночное» приобретёт архетипический образ Тени. Таким образом были концептуализированы понятия ночного сознания, ночной психики, которые привлекли внимание художников к «тёмным», «ночным» областям человеческого сознания, вдохновили их на попытки воплотить идеи Фрейда, касающиеся искусства, связать тех-
нику психоанализа с творческим процессом. Сюрреализм активно занимался разработкой этой популярной тогда проблематики, создавая образы и сюжеты на грани реальности, фантасмагорию ирреальности, подобной сну, в котором пытались услышать «шёпот подсознания».
Теория творческого метода сюрреализма была описана А. Бретоном как «чистый психический автоматизм», а название «сверхреализм» дал Г. Аполлинер. Д. Джойс и М. Пруст, Р. Магритт и С. Дали, X. Борхес и X. Кортасар делают эту область объектом своего пристального внимания. Мейнстримом литературы становится особый приём «потока сознания», который имитирует непрерывное течение мыслей, чувств в подсознании спящего человека. Художники, создавая на холсте некую парадоксальную реальность, изображали свои фантазии, тайные мысли, желания и страхи, воспоминания и сны – ту образность, которую, как они считали, подсказывало им подсознание. Полотна, поражающие своей фантастичной парадоксальностью, абсурдные и немыслимые комбинации привычных предметов являют собой аналог фрейдовского «долгого связного сна», в котором образ закрытого глаза становится метафорой иного, высшего зрения. Фантасмагории сновидений отпечатывались на полотне, и даже само название картин нередко говорило об этом, как, например, название картины Дали – «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения».
Ночь, темнота играют важную роль в философской концепции О. Шпенглера – они были использованы в его цивилизационной парадигме в качестве генерализующей проекции развития западной культуры: «Уже вокруг германских богов и героев … сумерки и ночь … На Валгалле нет света» [11, с. 240]. Семантика ночи оформляет созданные Шпенглером смысловые концепты «фаустовской души», «фаустовского пространства»: «Уже в “Эдде” чувствуется та глубокая полночь, которая окружает рабочий кабинет Фауста, кладёт тени на офорты Рембрандта, в которой теряются звуки бетховенской музыки». «Ночным – пусть это будет только внутренняя, душевная ночь – является также чувство покинутости». «Одиночество – свойство западной души» [10, с. 239, 240–241].
Подведение итогов: современность
В эстетическом плане «ночное» традиционно рефлектируется как пейзажный либо символический феномен, который связан с конкретно-чувственным восприятием природы, с переживанием лирических эмоций, либо как символ Вечности, трансцендентного бытия. Для XX века, однако, актуальным оказывается поиск новых путей во взаимоотношениях человека и природы, новая философия природы. Преодолевая традиционный пейзажный, эмоциональный, картинно-описательный подход к интерпретации «ночного», необходимо обозначить в нём новый, актуализированный сегодня экологический аспект. Рассмотренный в ключе диалога «человека и природы», он включает в себя как биологические, так и нравственно-духовные проблемы. В этом диалоге природа воспринимается не только как пейзаж, как источник впечатлений и ассоциаций, но и как объект эмоциональной рефлексии. И стержневым здесь является осознание общности с живым универсумом природы, где человек отнюдь не господин, но всего лишь одна из форм жизни.
Новые экологические тренды получили свою концептуализацию в идеях коэво- люции – гармоничной совместной эволюции природы и культуры. Их различные варианты изложены в работах И. Пригожина и И. Стенгерс («Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой»), С. Московичи («Человек против природы»), Т. Ярошев-ского («Размышления о человеке»). Один из самых известных концептов коэволюции был предложен Н. Моисеевым, которому удалось переосмыслить теорию ноосферы Вернадского, обозначив её как новый виток развития человеческой цивилизации («Быть или не быть … человечеству?») [8].
Современные «экологические» концепции ночи связаны с поиском путей и возможностей сохранения человека и его среды обитания. гармонического развития человека и природы, их единства, духовного взаимодействия. Ночь в этом плане играет важную роль, позволяя более глубоко почувствовать природу, порождая особые, более тонкие эмоции и чувства, сближая со стихийной жизнью мира. Этот специ- фический тип восприятия «ночного» даёт возможность интерпретировать его как преимущественно эмоциональное, творческое явление. «Ночь освобождает от тела» (О. Шпенглер) – в этом контексте творчество воспринимается как интенция, присущая тёмному времени суток, поскольку именно ночь будит воображение, фантазию, побуждает прислушаться к природной гармонии. Таким образом, чрезвычайно древняя мифологема дня и ночи, её эстетика и в наши дни не утрачивает своего семантического разнообразия, богатства смыслового содержания, эстетической значимости. Более того, тема «ночного» служит в XXI веке одним из поводов для обоснования актуальных экофилософских концепций. Подобные культурологические теории затрагивают базисные представления человека о мире: соединяя этику и эстетику, они генерируют важнейшие экзистенциальные ценности, служат делу сохранения человека и его природной среды.
Список литературы Мифологема дня и ночи: эстетика метаморфоз
- Акимова Л. И. К проблеме «геометрического» мифа: шахматный орнамент // Жизнь мифа в античности. Материалы научной конференции «Випперовские чтения - 1985» (выпуск XVIII). Часть I. Москва : Советский художник, 1988.
- Ахматова А. А. Сочинения : в 2 томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. Москва : Художественная литература, 1987. 510 с.
- Бальмонт К. Д. Поэзия как волшебство. Москва : Книгоиздательство «Скорпион», 1915.
- Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Москва : Московская Патриархия, 1988. 1371, [5] с. : ил.
- Брюсов В. Я. Сочинения : в 2 томах. Том 1. Стихотворения и поэмы. Москва : Художественная литература, 1987. 576 с.
- Гесиод. Теогония. Труды и дни / перевод В. Вересаева // Эллинские поэты VII-III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / отв. ред. М. Л. Гаспаров. Москва : Ладомир, 1999.
- Козьякова М. И. Город и ночь - хронотоп конфликта (начало) [Электронный ресурс] // Культура культуры : научное рецензируемое периодическое электронное издание. 2017. № 1-2. URL: http:// www.cult-cult.ru/gorod-i-nochi-hronotop-konflikta/
- Моисеев Н. Н. Быть или не быть ... человечеству? Москва, 1999. 288 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения : в 2 томах. Москва : Мысль, 1996. Том 2. С. 5-237.
- Савин А. Н. Век Людовика XIV. Москва : Госиздат, 1930. 247 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Москва : Искусство, 1993. 303 с.
- Шубарт В. Европа и душа Востока. Москва : Русская идея, 2000. 446 с.