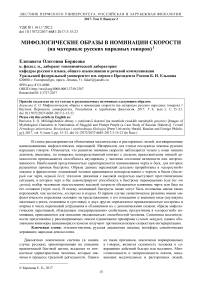Мифологические образы в номинации скорости (на материале русских народных говоров)
Автор: Борисова Елизавета Олеговна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются обозначения медлительных и расторопных людей, мотивированные наименованиями мифологических персонажей. Материалом для статьи послужила лексика русских народных говоров. Отмечается, что развитие значения скорости наблюдается только у имен низших демонов, имеющих, по поверьям, непосредственный контакт с людьми; представителям низшей демонологии приписывается способность каузировать у человека состояние активности или заторможенности. Наибольшей продуктивностью характеризуются наименования черта и беса, для которых релевантен признак быстроты. Образы данных персонажей детально проработаны в «скоростной» лексике и фразеологии: подвижный человек сравнивается непосредственно с чертом и бесом (быстрый как чёрт, первый бес); эталоном движения с высокой скоростью выступают прототипические ситуации, в которых черт и бес демонстрируют способность к быстрому перемещению (как бес от грома); выбор человеком неестественно высокой скорости объясняется влиянием черта или беса на его сознание (чёрт гнал). В основу номинаций быстроты также могут быть положены имена таких персонажей, как шуликуны, кострома и ягарма. В первом случае семантическое развитие имени мифологического персонажа основано на представлениях о его поведении и внешнем виде (шуликуны маленького роста, подвижны и суетливы), в двух других определяется принадлежностью костромы и ягармы к числу персонажей устрашения и сближением их с демоническими силами: образы мифологических персонажей, обладающих «надприродными» свойствами, продуктивны в «скоростной» номинации, привлекаются для описания «выдающихся» способностей человека. Семантика медлительности представлена у рассматриваемых лексем единичными примерами (слепая макура), однако обозначения кикиморы (шишиморы) и кумохи получают противоположную скоростную интерпретацию.
Этнолингвистика, русская диалектная лексика, метафора, семантическая деривация, народная демонология
Короткий адрес: https://sciup.org/14729520
IDR: 14729520 | УДК: 811.161.1''282.2 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-3-15-23
Текст научной статьи Мифологические образы в номинации скорости (на материале русских народных говоров)
определяет разнообразие источников номинации – привлечение лексики различных тематических групп. В данной статье мы рассмотрим «скоростные» обозначения человека, мотивированные именами мифологических персонажей.
Наибольшей продуктивностью в развитии значения быстроты характеризуются наименования черта и беса , что объясняется релевантностью признака скорости для этих персонажей. «Представления о подвижности, “вертлявости” чертей или бесов, их способности к исключительно быстрому передвижению» [Березович, Родионова 2002: 24] широко распространены в народной культуре, и эти качества входят в число «мотивов-коннотаций» в смысловой структуре макрообразов черта и беса, ср., например, ряз. верт-ячий черт ‘бранное выражение’, без указ. мест. бесова нога ‘вертлявый, бойкий, проворный’ [там же]. Таким образом, чертом ( бесом ) называется быстрый, подвижный человек, передвигающийся с высокой скоростью: брян. быстрый как чёрт ‘об очень подвижной, быстрой птице’ [БСРНС: 741], литер. чёртом ‘очень быстро, проворно, ловко’ [ССРЛЯ 17: 948], брян. бегать / побежать (бежать) как черти ‘об очень быстро бегущих людях’ [БСРНС: 745], литер. как бес ‘о проворном, ловком, быстром в движениях человеке и животном’ [ССРЛЯ 1: 400], литер. вертеться, суетиться, метаться и т. п. как бес, бесы [там же: 499], прикам. первый бес ‘непоседа и весельчак’ [ФСПГ: 22], новг. поверткóй ‘быстрый, ловкий’ – Поверткóй, как бес [НОС 8: 9].
Номинативно отмечены также ситуации, в которых черт и бес проявляют свою способность к быстрому перемещению. Во-первых, выделены «чертовы» средства и способы передвижения: орл. носиться как чёрт на колесе ‘о быстро бегущем человеке’ [БСРНС: 743], новг. носиться, как чёрт на ходулях ‘быстро бегать, идти’ [НОС 12: 54], дон. как черт на воздухе, воздухах (летать, носиться и пр.) ‘о ком-то, быстро передвигающемся’ [СРДГ 3: 192]. Во-вторых, в фразеологизмах со значением скорости отражены представления о том, что черт и бес боятся грозы, грома, удары которого для них смертельны: перм. носиться как бес от грозы ‘о быстро и в испуге убегающем человеке’ [БСРНС: 46], перм. как бес от громá ‘сломя голову’ [ФСПГ: 22]. Вообще, поскольку черт и бес преследуют людей, вредят им, пугают, сбивают с пути и пр., т. е. контактов с ними желательно избегать, существуют преставления об оберегах – предметах, при виде которых черт и бес испытывают страх и стремятся скрыться: перм. носиться как бес от ладана ‘о быстро и в испуге убегающем человеке’ [БСРНС: 46] (ср. литер. как черт от ладана ‘всеми силами, любыми средствами стремясь избавиться’ – Ну, что ж это такое, Ирина?<...> Ты от меня убегаешь, как черт от ладана [ФСРЯ: 519]); ср. также дон. как черт с полоху (переполоху) ‘от испуга очень быстро’ [СРДГ 3: 37]. Наконец, моделируются ситуации, в которых черт находится в несвойственной для него роли: волог. носиться как чёрт с репой ‘быстро бегать’ [КСГРС].
Бес также обладает способностью вселяться в тело человека, вследствие чего человек становится «бесноватым», лишается разума (модель «сумасшедший» → «быстро перемещающийся» является одной из высокочастотных, ср. пск. бегать как сумасшё́лый ‘об очень быстро, стремительно и безрассудно бегающих людях или животных’ [СППП: 118]); курск. забесóванный ‘отважный, проворный’ [СРНГ 9: 253]; «А то ишшо гъварять: што ты носишси, как избясился» (орл.) [СОГ 4: 138]. Бес и черт могут также овладевать волей человека (ср. представления о сговорах человека с чертом и бесом). Действия, совершаемые быстро, видятся как инициируемые чертом и бесом (при этом наблюдается амбивалентная оценка таковых действий: чаще они описываются как «необдуманные», «не вовремя совершенные» и т. д., но в некоторых случаях отрицательная оценка нивелируется): печор. как (будто) бéси носят ‘кто-либо быстро бегает, играет, резвится (обычно говорится о детях)’, ‘говорится о людях, которые быстро и ловко что-либо делают’ [ФСРГНП 1: 298], пск. бес несёт (понёс) ‘о быстрой ходьбе, беге, передвижении кого-л., чего-л.’ [СППП: 17], пск. чёрт гнал ‘о быстром, необдуманном, опрометчивом поступке’ [там же: 80], пск. что беси опахали ‘о быстро ушедшем откуда-л. человеке’ [там же: 87], пск. как беси пригнали ‘о человеке, неожиданно, быстро и не вовремя появившемся где-л.’ [там же].
Помимо конкретных ситуаций, предполагающих проявление способностей черта и беса к быстрому перемещению, в фактах «чертовой» лексики и фразеологии представлена также идея интенсивности, высокой степени выраженности признака [Березович, Родионова 2002: 33]. Например, в контексте: ворон. отмотать ‘сделать что-л. быстро’ – Если молодой дьякон был бы чертом, я обедню отмотал [СРНГ 24: 244] – скоростная семантика передается глаголом (ср. значения дериватов от мотать : костр. мотáшиться ‘излишне медленно делать что-либо, слишком много тратить времени на что-либо’ [СРНГ 18: 297], смотóрить курск., южн., зап. ‘сделать что-либо быстро, скоро’, южн., зап. ‘сделать что-либо быстро, втайне от других’ [там же: 39, 48]) – а также других глаголов кругового перемещения), а роль чёрта сводится к повышению экспрессивности высказывания.
Выше мы говорили о том, что образы черта и беса привлекаются, как правило, для описания перемещения с высокой скоростью. Отдельно стоит отметить лексические единицы, номинирующие энергичную деятельность: башк. чер-толóмить ‘работать много, сверх сил, упорно, быстро; выполнять тяжелую работу’ [СРГБаш: чертоломить], башк. чертомéлить ‘то же’ [там же: чертомелить], ср. также перм., свердл. чер-томéлить ‘работать много, с большим усердием и напряжением’ [СРГСУ 7: 27], сверд., волог. чертолóмить ‘выполнять тяжелую физическую работу’ [там же; КСГРС], волог. чёрта лóмúть ‘много работать, изнуряя себя’ [СРГК 3: 143] и др. Они объясняются мотивом связи черта с работой, в котором «отразилось представление о работе, повседневном физическом труде как явлении “небожественном” по своей сути и происхождению – представлении, восходящем к библейскому сюжету о грехопадении и изгнании из рая и поддерживаемом на уровне обрядового кода и в нормах бытового поведения (запрет на работу в праздничные и выходные дни вследствие восприятия их как дней, посвященных Богу)» [Березович, Родионова 2002: 32–33]. М. А. Еремина отмечает, что «на синхронном уровне образ черта оказывается стертым, видоизменяясь в эталон количественной оценки. Сочетаясь с глаголом ломить , он формирует чистый экспрессив, в котором впечатление об интенсивности действия соединяется с отрицательной эмоцией» [Еремина 2003: 111]. В случае с чертомелить , а также с фиксируемым на этой же территории башк. чер-нолóмить ‘работать много, сверх сил, упорно, быстро; выполнять тяжелую работу’ [СРГБаш: чертоломить] мы предполагаем контаминации первого глагола с другими корнями, возникающие из-за фонетической близости слов и поддерживающиеся их коннотациями: так, чёрный появляется в номинациях тяжелого физического труда (ср. литер. черный ‘физически тяжелый, грязный и вместе с подсобный, не требующий особого умения, знаний’ [ССРЛЯ 17: 923]) и в данном сочетании усиливает значение глагола (ср. волог., яросл., костр., иван., вят. ломúть ‘быстро, энергично работать; делать трудную работу’ [СРНГ 17: 120]).
Возможны номинации быстрых людей с использованием уменьшительных форм от наименований нечистой силы – таким образом обозначаются обладающие соответствующими характеристиками дети: разг. как бесёнок ‘о проворном, юрком, непоседливом, проказливом, шаловливом ребёнке (реже взрослом)’ [БСРНС: 47]; литер. чертёнок ‘о бойком, озорном мальчишке (или девчонке)’ [ССРЛЯ 17: 955]; кубан. побежáть как сатанята ‘о быстро и внезапно помчавших- ся куда-л. детях (особенно мальчишках)’ [БСРНС: 594]. Показательно, на наш взгляд, что образ сатаны как представителя высшей демонологии встречается всего один раз и только в уменьшительной форме.
Непосредственно признаком скорости или признаками, ассоциирующимися со способностью к быстрому или медленному передвижению, обладают и другие, помимо черта и беса, персонажи народных верований. В первую очередь отметим номинации, связанные с образом шуликунов – сезонных духов, активизирующихся в период от Рождества (Нового года) до Крещения: печор. как шелúкон (шулю́ кун) ‘быстрый, резвый ребенок’ – Вот ребята малы, дак они как шеликоны скацют, проворны таки ; Ну как шулюкуны робяты-ти [ФСРГНП 1: 338]. Несмотря на единственное число в дефиниции, контексты указывают на то, что ассоциации с шуликунами вызывает компания играющих вместе детей. Источником ассоциаций являются представления о типичном поведении и внешнем виде данных мифических персонажей: «Согласно большинству поверий, шуликуны выглядят как маленькие человечки, с кулачок или чуть больше; редко появляются поодиночке, обычно их видят “ватагами”, “артелями”, “толпами”, “скопищами”» [Березович, Виноградова 2012б: 583]. Шуликуны «очень подвижны (бегают по улицам, суетятся, толкаются, мельтешат, скатываются с горок, толпятся возле проруби и на перекрестках дорог); им присущи особые способы передвижения (ездят на конях, “на маленьких лошадках”; в санях или на одном полозе от саней; скачут или летают в железных ступах; скользят по снегу на воловьей шкуре; ездят на горящей печи, на ухвате, сковородке или кочерге)» [там же: 584]. Сравнение с ними детей, таким образом, базируется на ряде признаков шу-ликунов: подвижность, маленький размер, большое количество.
В представлениях о кикиморе характеристика скорости не является строго закрепленной, и варианты ее имени (кикимора, шишимора) развивают противоположные скоростные значения. Постоянным признаком этого персонажа «является связь с прядением: может допрясть за хозяйку, но чаще путает, рвет, мусолит, иногда жжет кудель, оставленную на ночь без благословения» [Черепанова 1983: 125]. Женские домашние обязанности, требующие сосредоточенности, повторения однообразных мелких движений, к которым относится также прядение, являются эталоном деятельности с низкой скоростью2, этот факт объясняет появление соответствующего значения у волог., ленинг. шишúмора ‘медлительный в работе человек’ [КСГРС; СРГК 6: 880]. Перехо- ду способствуют фонетические причины, к которым можно отнести, во-первых, фоносемантику (семантика медлительности часто закрепляется у тех слов с затемненной внутренней формой, звуковая оболочка которых включает глухие шипящие, ср. костр. шушлё́па ‘о нерасторопной, неумелой женщине’ [ЛКТЭ], яросл. шушýнка ‘неповоротливый, медлительный человек’ [ЯОС 10: 82], твер. шошéлиться ‘мешкать, медлить, меледить, возиться, копаться’ [Даль 4: 662] и мн. др.), а во-вторых, вероятную фонетическую аттракцию по созвучию корня: на территории преимущественного распространения слова шиши-мора и в родственных говорах фиксируются многочисленные глаголы, включающие звуко-комплекс шиш-, которые называют деятельность и передвижение с низкой скоростью: пск. шишáть ‘работать в одиночестве, потихоньку’, перм. шúшля́ть ‘делать потихоньку’, волог. шишлéть ‘тихо делать что-либо, медлить’, вят. шúшлеть ‘тихо, вяло копаться, возиться’, яросл. шúшлиться ‘копошиться, возиться с чем-л.’ и др. [см.: Черепанова 1983: 133; КСГРС]3.
Время появления персонажа – обычно ночь. Способность кикиморы вести активную деятельность незаметно для людей получает различную скоростную интерпретацию. С одной стороны, поскольку хозяева дома, в котором появляется кикимора, ночью спят, кикиморе необходимо действовать тихо, чтобы не разбудить, а как следствие – медленно, что поддерживает развитие приведенного значения. С другой стороны, число дел кикиморы велико, а сферы приложения усилий разнообразны: она «ощипывает кур, бросает и бьет горшки, портит хлебы и пироги, кидается луковицами из подполья или из-под печки, мешает спать детям, стучит вьюшкой, крышками коробов и под.» [Черепанова 1983: 125]. Факт выполнения всего этого за короткое время позволяет сравнить с кикиморой торопливого, проворного человека: олон., тобол. кикимора ‘о непоседе, юрком, проворном человеке’ [СРНГ 13: 205] (ср. формулировку данного значения см.: [Черепанова 1983: 127]: олон. ‘о непоседливом, юрком, вертлявом, везде сующемся, все обшаривающем человеке’).
Противоположные «скоростные» значения развиваются у имени мифологического существа, представляющего собой народную персонификацию лихорадки в образе женщины, – кумохи. Известно, что «в народной медицине к лихорадке относят разные болезни (сухотку, тиф, малярию), объединяемые общими симптомами (жар, озноб, дрожь, бред и т. д.)» [Усачева 2004: 117]. В Вологодской области (входящей в ареал лексемы) название кумоха получает также, кроме самого мифологического персонажа, непосред- ственно лихорадка, т. е. вызываемая этим персонажем болезнь (волог. кумохá ‘болезнь, которую насылает мифическое существо’ [КСГРС]), и нездоровый сон (волог. кумохá ‘тяжелый лихорадочный сон, дрема’ [там же]) – как основной симптом, сопутствующий всем болезням, которые могут обозначаться словом лихорадка. Медлительный человек уподобляется, таким образом, тому, кто погружен в подобную лихорадочную полудрему: волог. кумóха ‘о сонливом, малоподвижном, нерасторопном человеке’ [СРНГ 16: 86].
На этой же территории возникает второе «скоростное» значение: волог. кумохá ‘о торопливом и неаккуратном человеке’ [КСГРС], волог. кумохá ‘о непоседе, егозе, шалуне, шалунье, баловне’ [СРНГ 16: 86], – объясняющееся представлениями о том, что у заболевшего лихорадкой меняется поведение, он теряет способность вести себя адекватно, а кроме того, становится по таким признакам, как, например, необычный блеск глаз, «румянец», похож на человека, находящегося в сильном возбуждении (ср. литер. лихорадочный ‘болезненно возбужденный, сильно взволнованный’, ‘торопливый, поспешный’ [ССРЛЯ 6: 281]). Отметим также, что контекст демонстрирует негативную оценку поспешности и сочетание ее с рядом других отрицательных характеристик, за которые человек может получить обозначение кумоха : «Кумоха така какая-то, что-то сделает быстро, даром, плохонько, маленько недоразвитая» [там же]. Слово кумоха активно развивает вторичные значения – различных негативных качеств человека: ‘брюзга, человек, которому все не по нраву (чаще о женщине)’, ‘ругательство (в знач. черт)’ и т. д. [см.: КСГРС; СВГ 4: 19]. Кроме того, в вологодской области фиксируются глаголы, для которых мы может предполагать производность от наименования данного мифологического персонажа, содержащие семантику медлительности и «отрицательной оценки»: волог. кумошúть ‘делать что-либо пустое, бесполезное, копаться с чем-либо без успеха’, ‘делать что-либо (с примеч. «в бранном смысле»’), волог. кумошúться ‘возиться с чем-либо, копошиться’ [СРНГ 16: 86]. На появление скоростных значений, таким образом, могут влиять отрицательное отношение к медлительности и, напротив, излишней торопливости, с одной стороны, и тенденции развития семантики данной лексемы в направлении универсальной негативной характеристики человека – с другой.
Как можно заметить, мифологическим персонажам нередко приписывается способность совершать действия с высокой скоростью. Тем не менее некоторые мифические существа наделя- ются такими специфическими чертами, которые дают основания для развития значения медлительности у имен их обладателей. Среди таких черт, к примеру, слепота макуры: орл. слепая макура ‘о неловком, нерасторопном, близоруком человеке’ [СРНГ 38: 267] (ср. перм., забайк. ма-кура ‘мифическое существо (слепое или подслеповатое)’ [СРНГ 17: 315])4.
Таким образом, приведенные выше номинации проворных и медлительных людей с привлечением образов нечистой силы основывались на специфических признаках мифологических персонажей (пользуясь классификацией мотивов, предложенной Е. Л. Березович и И. В. Родионовой [Березович, Родионова 2002], можно сказать, что у названных персонажей высокая или низкая скорость является коннотативным мотивом). На наш взгляд, могут быть выделены еще некоторые факторы, способствующие развитию скоростных значений у слов данной тематической группы.
Мифологический персонаж – нематериальная «сущность», обладающая недоступными человеку и не объяснимыми с точки зрения «законов природы» способностями. Эта особенность позволяет привлекать «метафизические» образы для выражения «сквозных» для лексики высокой скорости идей «настолько быстро, что момент совершения действия был ненаблюдаем для окружающих» и «так быстро, как не может обычный человек». Отметим, что, кроме «нечистой силы» (как, например, арх. только леший видел ‘очень быстро, мигом’ [КСГРС]), в ряду подобных номинаций единственный раз появляется «святой» образ: волг., курск. святым духом ‘очень быстро’ [БСРП: 210] (ср. литер. святым духом ‘как бы само собой, неизвестно как’ [ФСРЯ: 149]).
Итак, именно мифологическая природа персонажа может становиться тем признаком, который позволяет отождествить с ним быстро передвигающегося человека. Например, широко распространены верования о костроме – персонаже календарного обряда и хороводной игры. В них инсценируется смерть и похороны костромы, в роли которой выступает обычно молодая девушка или «кукла наподобие женщины» [Зеленин 1995: 268]. На севернорусской территории происходит мифологизация персонажа: костроме «приписываются демонические черты, ср. <…> сев.-рус. проклятье “Кострома тебя утащит”, сев.-рус. костромы ‘ряженые на святках’)» [Агапкина 1999: 635], ее имя употребляется для запугивания детей [Черепанова 1983: 47], ср. контексты: «А еще Костромой пугали, это наподобие Бабы-яги» (мурман.); «У, смотри, не ходи на улицу, там Кострома» (арх.) [СРГК 2: 443].
О. А. Черепанова отмечает, что «функция запугивания поддержана, вероятно, ролью костромы в игре того же названия. <…> женщина, названная костромой, среди ребятишек притворяется мертвой, а потом неожиданно вскакивает и распугивает ребят» [Черепанова 1983: 47]. Осмысление костромы как персонажа, смыкающегося с демоническими силами, и приписывание ей способности «утащить» (поймать, унести ребенка незаметно для взрослых и пр.) способствует тому, что именно на Русском Севере этот образ используется в качестве эталона высокой скорости движения: карел. как костромá ‘очень быстро’ [СРГК 2: 443].
Приведем еще некоторые примеры, в которых, вероятно, появление скоростного значения у имен персонажей объясняется именно их принадлежностью к миру нечистой силы: новг. как лы́ско ‘как ошалелый, как угорелый, как черт’ [СРГК 3: 164], волог. как лы́ско ‘невзирая ни на какие обстоятельства’ – Разбегался, как лыско [СВГ 4: 58] (ср. волог., ленинг. лы́ско ‘по суеверным представлениям: нечистая сила, живущая в доме’ [СРГК 3: 164]), печор. шишкó носит ‘о быстром передвижении кого-н.’ [СРГНП 2: 448] (ср. печор. шишкó ‘нечистый дух, черт, дьявол’, ‘леший’ [там же: 447]), тул. труболё́тка ‘ведьма, колдунья’ → ‘о ловкой, проворной женщине’ [СРНГ 45: 152].
Нечистая сила, кроме надприродной сущности, обладает еще одним общим признаком: находясь, по поверьям, в непосредственной близости с человеком, она, за редким исключением, различными способами усложняет ему жизнь: запутывает тропинки в лесу, совершает мелкие пакости в доме, крадет детей, уводит скотину и мн. др. Однозначно резко отрицательное отношение к нечистой силе создает экспрессивный потенциал имен мифических персонажей для развития вторичных значений. При этом наблюдается диффузность семантики слов, используемых в качестве «ругательств». Быстрота или медлительность могут, таким образом, оказываться в ряду других негативных поведенческих особенностей человека, за которые он может получить «мифологическое» обозначение.
В Костромской области большим количеством семантических дериватов обладает слово ягарма (один из вариантов имени Бабы-Яги [Петрухин 2012: 614], на обсуждаемой территории ягарма функционирует как персонаж устрашения, ср.: «Где-то в лесу живёт, да и пугали ягармой ребятишек, что заберёт с собой» [ЛКТЭ]). Им обозначаются люди и животные по различным признакам, которые вызывают у говорящего отрицательные эмоции (ср. контекст: «Которого невзлю- бят, того ягарма называют» [ЛКТЭ]): ‘вредный человек’, ‘лохматая растрепанная женщина’, ‘большой, неуклюжий человек’, ‘сварливая женщина’, ‘нелепо одетая женщина’, ‘непослушная скотина’ и др. [там же]. Среди приведенных разнородных негативных характеристик выделяется группа таких, которые рисуют сходный образ женщины-ягармы, включающий признак высокой скорости: ягáрма ‘склочная, сварливая женщина’, ‘бойкая, скандальная женщина’, ‘склочная, бойкая женщина’, ‘бойкая пожилая женщина’, ‘о бойкой смелой женщине’, ‘бодрая, резвая женщина’ и, наконец, ягáрма ‘шустрый человек’ и бежать как ягáрма ‘быстро бежать’ [там же]. Диффузность значения слова ягарма (включающего признаки склочности, вредности, бойкости, резвости и т. д.), при которой скорость может присутствовать в концептуальном ядре значения или на коннотативном уровне, подтверждается контекстами, ср.: «Ягармы шустрые, вредные такие – “У, ягарма, забегала опять!” – сварливые женщины» [там же].
Образы мифологических персонажей могут, наконец, включаться в качестве составного элемента в смоделированные «эталонные ситуации». В таком случае персонаж не обязательно обладает непосредственно признаком скорости и выбирается на основании некоторой актуальной для «эталонной ситуации» особенности. Так, широко распространено в качестве образной характеристики работы с низкой скоростью, длительного бездействия и т. п. переносное значение глагола тянуть и синонимичных ему слов. При этом для повышения экспрессивности высказывания возможны вариации объекта (литер. тянуть кота за хвост , смол. как старца за бараду тягнить и др.). Из числа мифологических персонажей в роли объекта выступает леший, одним из основных признаков которого является наличие длинной шерсти, волос (ср., например, номинацию волог., сев.-двин. волоса́тик ‘леший’ [СРНГ 5: 58]): печор. как шишкá (лешакá) зá волосы волочить (тянуть) ‘медленно, с усилием что-нибудь делать’ [ФСРГНП 1: 338] (← печор. шишкó ‘леший’ [СРГНП 2: 448]).
***
Круг мифологических образов, привлекаемых в номинации расторопных и (реже) медлительных людей, достаточно широк, в их числе: черт, бес, сатана, кумоха, кострома, макура и другие персонажи, связанные с народными верованиями. При этом в качестве источников скоростной лексики выступают, как правило, обозначения персонажей низшей демонологии, «нечистой силы», имеющей, по поверьям, непосредственный контакт с человеком. Именно низшим демонам приписывается способность заниматься физическим трудом, каузировать активную деятельность или, напротив, состояние медлительности у человека. Таким образом, номинативно отмечены образы черта и беса (новг. носиться, как чёрт на ходулях ‘быстро бегать, идти’, литер. как бес ‘о проворном, ловком, быстром в движениях человеке и животном’), шуликунов (печор. как шелúкон (шулю́ кун) ‘быстрый, резвый ребенок’), костромы (карел. как костромá ‘очень быстро’) и некоторых других персонажей (костр. бежать как ягáрма ‘быстро бежать’, новг. как лы́ ско ‘как ошалелый, как угорелый, как черт’). Семантика медлительности развивается у рассматриваемых лексем значительно реже, однако фиксируются случаи биполярной скоростной интерпретации образов: олон., тобол. кикимора ‘о непоседе, юрком, проворном человеке’ и волог., ленинг. шишúмо-ра ‘медлительный в работе человек’; волог. ку-мохá ‘о торопливом и неаккуратном человеке’ и волог. кумóха ‘о сонливом, малоподвижном, нерасторопном человеке’. «Нерасторопным» персонажем считается макура.
Отметим также, что номинативная активность образов мифологических персонажей определяется представлениями о них как о нематериальных сущностях, обладающих недоступными человеку и не объяснимыми с точки зрения законов природы способностями, что позволяет использовать наименования нечистой силы для реализации мотива «так быстро, как не может обычный человек».
Примечания
-
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Контактные и генетические связи севернорусской лексики и ономастики» (проект 17-18-01351).
-
2 Ср. карел. кропанá , кропанúда ‘та, которая медленно выполняет какую-нибудь работу’ ← кропáть ‘шить, вышивать’, ‘чинить, штопать’ [СРГК 3: 24] или литер. тянуть канитель ‘о медленном, нудном, затяжном деле или разговоре, о досадной потере времени’ [Мокиенко 2005: 285], демонстрирующее восприятие процесса изготовления тонкой проволоки – канители : при ее производстве металл раскаляли и вытягивали клещами.
-
3 О. А. Черепанова предполагает родство первой части слова шиши - мара со словами этого ряда [Черепанова 1983: 133], если это так, то совпадает мотивационный признак «справа» и «слева», что свидетельствует о его устойчивости в качестве коннотативного для кикиморы.
-
4 В семантике слова слепой есть коннотация затрудненности действий (потенциально медли-
- тельности), о чем говорит, к примеру, перм. фразеологизм как слепой на огороде ‘с трудом, неуверенно’ – Не умею делать-то, дак и копаюсь как слепой на огороде [ФСПГ: слепой].
IMAGES OF MYTHOLOGICAL CHARACTERS
IN NOMINATION OF SLUGGISH AND PROMPT PEOPLE
(a Case Study of Russian Dialects)
Elizaveta O. Borisova
Lab Assistant in the Toponymic Laboratory of the Department of Russian Language, General Linguistics and Verbal Communication
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin
Список литературы Мифологические образы в номинации скорости (на материале русских народных говоров)
- Агапкина Т. А. Кострома//Славянские древности: этнолингв. словарь: в 5 т./под ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 1999. Т. 2. С. 633-635.
- Березович Е. Л., Виноградова Л. Н. Черт//Славянские древности: этнолингв. словарь: в 5 т./под ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2012. Т. 5. С. 519-527.
- Березович Е. Л., Виноградова Л. Н. Шуликуны//Славянские древности: этнолингв. словарь: в 5 т./под ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2012. Т. 5. С. 583-585.
- Березович Е. Л., Родионова И. В. «Текст чёрта» в русском языке и традиционной культуре: к проблеме сквозных мотивов//Между двумя мирами: Представления о демоническом и потустороннем в славянской и еврейской культурной традиции/отв. ред. О. В. Белова. М.: Пробел-2000, 2002. С. 7-44.
- Варбот Ж. Ж. Славянские представления о скорости в свете этимологии (к реконструкции славянской картины мира)//Славянское языкознание: XII Междунар. съезд славистов (Краков, 1998 г.): докл. рос. делегации/отв. ред. О. Н. Трубачев. М.: Наука, 1998. С. 115-129.
- Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: Индрик, 2000. 432 с.
- Еремина М. А. Лексико-семантическое поле «Отношение человека к труду» в русских народных говорах: этнолингвистический аспект: дис.. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. 253 с.
- Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М.: Индрик, 1995. 432 с.
- Меркулова В. А. Народные названия болезней//Этимология. 1970/отв. ред. О. Н. Трубачев. М.: Наука, 1972. С. 143-206.
- Мокиенко В. М. Почему так говорят? Историко-этимологический справочник по русской фразеологии. СПб.: Норинт, 2004. 512 с.
- Петрухин В. Я. Яга//Славянские древности: этнолингв. словарь: в 5 т./под ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2012. Т. 5. С. 614.
- Синица Н. А. Лексика народной демонологии Павинского района//Живая старина. 2010. № 3(67). С. 43-46.
- Усачева В. В. Лихорадка//Славянские древности: этнолингв. словарь: в 5 т./под ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2004. Т. 3. С. 117-123.
- Чайкина Ю. И. Семантика экспрессивов со значением личностной характеристики в лексико-семантической системе говора//Севернорусские говоры/ред. А. С. Герд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995. Вып. 6. С. 43-49.
- Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского севера. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 169 с.