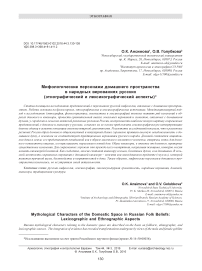Мифологические персонажи домашнего пространства в народных верованиях русских (этнографический и лексикографический аспекты)
Автор: Ансимова О.К., Голубкова О.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию представлений о персонажах русской мифологии, связанных с домашним пространством. Работа основана на фольклорных, этнографических и лексикографических источниках. Междисциплинарный подход к исследованию (этнография, фольклористика, лингвистика и лексикография) позволил выявить ряд изменений в образах домового и кикиморы, провести сравнительный анализ локальных верований и сюжетов, связанных с домашними духами, у городских и сельских жителей различных регионов России, воспроизвести наиболее полную картину современных представлений о домовом и кикиморе у русских, а также на ее основе предложить лексикографическую интерпретацию данных единиц в аспекте концепции лингвокультурной грамотности. Результаты исследований показали, что в различных регионах России образ домового общеизвестный и популярный (даже горожане проявили высокую осведомленность о домашнем духе), в основном он соответствует традиционным верованиям русского народа. Домовой считается защитником дома и семьи; его представляют невидимкой или в образе маленького лохматого человечка, старичка, кота; для домового оставляют угощение, его приглашают, переезжая в новый дом. Образ кикиморы, в отличие от домового, претерпел существенные изменения. Для современных горожан это прежде всего неопрятная, некрасивая женщина, которую могут назвать кикиморой болотной. Как следствие, многие считают кикимору лесным, болотным духом, а не домашним. В сельской местности сохранились верования о домашней кикиморе - нежити или заколдованном предмете («кукле»), который является причиной шума, беспокойства и неприятностей в доме. Таким образом, мифические персонажи домашнего пространства изменились, но не утратили своей актуальности.
Русская мифология, лексикография, лингвокультурная грамотность, народные верования, традиционная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/145145766
IDR: 145145766 | УДК: 398.3+398.4+81.411.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.130-138
Текст научной статьи Мифологические персонажи домашнего пространства в народных верованиях русских (этнографический и лексикографический аспекты)
В миропонимании русских дом представлялся не только жилищем людей, но и местом пребывания мифологических персонажей. По этнографическим и фольклорным источникам XIX – первой половины XX в. известны персонажи, связанные с домашним и дворовым пространством. Они различались по месту локализации, функциям, отношению к людям: домовой , кикимора , дворовой , овинник , гуменник , банник ; существовали также половые модификации домашних духов: домовиха , суседка , овинница , банница ( обдериха ) и др. Некоторые из них ( домовой , кикимора , банник ) остались популярными в сюжетах устной несказочной прозы и этнографических материалах конца XX – начала XXI в., другие ( овинник , гуменник ) утратили актуальность в связи с исчезновением «мест обитания».
В статье пойдет речь о двух мифологических персонажах домашнего пространства – домовом и кикиморе. Выбор обоснован, во-первых, достаточно широкой известностью у городских жителей и в рассказах устной несказочной прозы; во-вторых, функциональной и оценочной противоположностью этих духов. Исследование построено на следующих источниках: полевых материалах (далее ПМА)*, результатах анкетирования**, толковых словарях, а также словарях лингвокультуры. Обращаясь к лексикографическому описанию домового и кикиморы, целесообразно рассмотреть: а) определение как мифологического персонажа, б) описание образа (внешность, типичные действия, отношение к человеку), в) употребление данной единицы в качестве характеристики человека. Такая последовательность позволяет сформировать достаточно полное представление о домовом и кикиморе как о мифологических персонажах и проследить развитие образов в диахроническом аспекте.
Концепция лингвокультурной грамотности основана на идее Э.Д. Хирша об исчисляемости и доступности культурных знаний [Hirsch, 1988] и может быть сформулирована следующим образом: суще ствует некий объем лингвокультурных знаний, известных носителям определенной лингвокультуры и необходимых для коммуникации, а следовательно, для изучения представителям иной и в отдельных случаях собственной лингвокультуры.
Междисциплинарный подход к исследованию позволяет выявить наиболее полную картину современных представлений о домашних духах у жителей России, а также предложить эффективную, с точки зрения коммуникации, лексикографическую интерпретацию данных единиц.
Домовой
По материалам этнографии и фольклора, домовой – домашний дух, родовой предок, оберегающий дом, людей и скотину от возможных несчастий, воров, колдовства и нечистой силы. Считалось, что без домового в хате житья не будет ; дом – не дом, а пустое помещение, если в нем нет домового ; без хозяина в доме и людям худо, и скотина не живет (ПМА, Новгородская, Новосибирская, Омская обл.). Домашнего духа было принято задабривать угощением, чтобы он был добр к домочадцам, способствовал умножению богатства и приплоду скота (подробнее о домовом в традиционных русских верованиях см.: [Даль, 2008, с. 166–197; Максимов, 1903, с. 31–50; Померанцева, 1975, с. 93–117; Власова, 1998, с. 139–159; Виноградова, 2000, с. 271–288; Левкиевская, 2000, с. 276–317; Криничная, 2004, с. 26–245]).
В русской народной традиции существовало множество наименований домашнего духа: домовой , хозяин , дедушка , суседко , кормилец , большак , домовик , доможил , доможир , доброжил , домоседушко , жи-харь , житель , избной , лизун , гнеток , сысой , батануш-ко и др. [Даль, 2008, с. 166; Черепанова, 1983, с. 25,
58; Власова, 1998, с. 134, 139, 306]. По нашим данным, городские жители чаще всего называли его домовым или домашним хозяином. На Урале, в Тюменской обл., на Алтае и в Восточной Сибири у русских было распространено наименование суседко , в других регионах Западной Сибири (Новосибирская, Омская обл.) и Европейской России (Ленинградская, Новгородская, Псковская обл.) его обычно называли хозяином или домовым. В сельской местности люди старшего поколения нередко старались избегать слова «домовой», называя духа иносказательно: он , сам , хозяин , дедушка . Сам-то у нас за печкой живет, оттуда выскакивал. Маленький, лохматый, толком не разглядели, выскочил и сразу назад убёг (ПМА, Омская обл.).
Домовой представлялся в антропоморфном (маленький человечек, низенький лохматый мужичок, седой старичок, двойник хозяина) или зооморфном (кошка, мышь, змея, петух, собака, ласка, медведь) облике. Он мог иметь рудиментарные фитоморфные (завуалированный образ дерева: чурка, веник, хвойная ветка «матка»/«матошник» осмыслялись как эманация домового) и огневые (красная рубаха или шапка, «огненные глаза», локализация за печью, в трубе, синий огонь – атрибут домового) признаки [Криничная, 2004, с. 119–139]. Однако чаще домашний дух оставался невидимкой и его присутствие в доме определяли по звукам. Если без видимых причин хлопали двери, звенела посуда, завывал ветер в трубе или терялись, а потом неожиданно находились вещи, говорили, что это домовой шалит. Волосатость, шерстисто сть и бородатость являлись его постоянными признаками. Поскольку шерсть и волосы в народных верованиях осмыслялись как сосредоточение жизненной и магической силы, волосатость домашнего духа-хозяина считалась залогом благополучия и богатства. Семантика волосатости домового наглядно раскрывалась в святочных гаданиях, имевших широкое распространение в различных регионах России.
В сельской местности (как в Сибири, так и в Европейской России) домовой считался покровителем дома и двора вместе с людьми и домашними животными. У него могло быть несколько мест обитания: за печкой, в трубе, на печурке (небольшая ниша в печной стенке), под голбцом (невысокий ящик у русской печи, имеющий вход в подполье), под полом, на чердаке, в пригоне со скотиной, дровяном сарае. При этом информанты говорили всегда только об одном персонаже – домашнем хозяине, следы которого они могли обнаружить в различных местах дома и двора. Разделение домашних духов на домового и дворового в наших полевых исследованиях не зафиксировано. В отдельную категорию были выделены банные духи (банник, обдериха), которые характеризовались как наиболее опасные и зловредные. Поскольку лока- лизация этих персонажей связана с деревенскими банями, они не актуальны для городских жителей.
Домашний хозяин повсеместно характеризовался как добрый дух, защитник и покровитель, что соответствовало представлениям о домовом как о родовом предке. Если кого суседко полюбит, он тому косички заплетает. Волосы запутает, что не расчесать, а состригать нельзя, он тогда может обидеться (ПМА, Алтайский край).
Особая роль домового была связана с его способностью предсказывать человеческую судьбу, а возможно, и как-то влиять на нее. Считалось, что домовой появлялся (позволял себя увидеть или осязать) накануне значимого события в жизни человека. Он мог проявить свое присутствие перед свадьбой: Навалился на меня ночью медведь лохматый, душит. Это домовой из дома выживал. Я скоро замуж вышла (ПМА, Новосибирская обл.); перед переездом в новый дом, напоминая, чтобы не забыли позвать: Домового обязательно нужно позвать в новый дом, а то не пойдет, останется. Без приглашения только кикимора заезжает (ПМА, Новгородская обл.). Люди верили, что он плачет, предвещая смерть кого-то из домочадцев, стучит в окно или звенит посудой накануне кончины родственников. Таким образом, предрекая события и влияя на судьбу членов семьи, домовой проявлял себя как неуспокоенная душа умершего родственника, предка (подробнее см.: [Голубкова, 2009, с. 21–260]). В общерусской традиции углы в доме, печь, подполье, порог так или иначе были связаны с погребением: будь то строительная жертва либо предок, восходящие к тотемным персонажам; домовой являлся воплощением души предка, ставшей душой дома и семьи [Криничная, 2004, с. 150-155, 175]. Когда умер дед, до сорока дней домовой беспокоил. На кухне гремело, кастрюли падали, погреб обвалился (ПМА, Новосибирская обл.). Домовой самый главный в доме. Его нужно как родителей своих почитать. Когда покойным родителям поминку делаю, домовому тоже угощение ставлю (ПМА, Псковская обл.).
Согласно полевым материалам и результатам анкетирования, наиболее распространенным зооморфным обликом домового является образ кота: Хозяин превращается в кота и ночью по дому ходит, я уже не раз видела (ПМА, Омская обл.). В традиционной русской культуре кошка – одно из наиболее сакрализован-ных животных домашнего пространства. Ее, как икону, не покупали, а выменивали [Балов, 1891, с. 218], убивать кошку считалось грехом [Афанасьев, 1865, с. 647–651]. Отождествление домашнего духа с котом, очевидно, связано с тем, что это животное, как и домовой, представлялось одним из образов перевоплотившейся души, своеобразной эманацией предка (подробнее см.: [Голубкова, 2009, с. 189–196]).
Домового было принято приглашать, переезжая в новый дом. «Транспортом» для него обычно служили веник, мешок, старый валенок или тапок (эквивалентная замена лаптя). В день переезда нужно взять новый веник и мести по всем углам, приговаривая: «Хозяин наш, батюшка, поехали с нами в новый дом жить». В новом доме веник нужно поставить за печку помелом вверх, этим веником уже не подметают (ПМА, Новосибирская обл.). Обряд с веником, очевидно, является отголоском жертвоприношения, одним из назначений которого было изгнание «лихого» (пришлого, чужого) домового, когда резали петуха, его кровь выпускали на голик и обметали все углы избы и двора. Голик, обмоченный кровью жертвы, осмысливался как усиленная и обновленная эманация домового, благодаря чему он был в состоянии изгнать приблудного «лихого» собрата [Криничная, 2004, с. 124]. Нередко в новый дом первой запускали кошку (иногда петуха), после этого входил хозяин с иконой, следом хозяйка вносила атрибуты, символизировавшие домового или выполнявшие роль его «транспорта» (веник, мешок, тапок). Бытовало также мнение, что домовой мог въехать в новый дом верхом на кошке (ПМА, Вологодская, Омская обл.). Кошке или петуху отводилась та же роль жертвы, но в бескровном исполнении, поскольку считалось, что вошедший первым в новый дом вскоре умрет (ПМА, Кировская обл., Алтайский край), соответственно, станет воплощением души дома, его мифическим хозяином – домовым.
Как известно, культура не способна к самоорганизации, поэтому фиксация ее единиц возможна только посредством языка, выступающего в этом случае, как принято говорить, в качестве «зеркала культуры». Обратимся к толковым словарям, а также словарям лингвокультуры, формирующим единое культурное пространство и способным выступать в роли такого «зеркала», с целью рассмотреть лексикографическое описание единицы домовой .
В словаре В.И. Даля информация о домовом является культурным комментарием словарной статьи «Дом» и содержит достаточно большой список его имен и типичных действий: «домовик, дедушка, постен, постень, лизун, доможил, хозяин, жировик, нежить… суседко, батанушка; дух-хранитель и обидчик дома; стучит и возится по ночам, проказит, душит, ради шутки, сонного; гладит мохнатою рукою к добру и пр. Он особенно хозяйничает на конюшне, заплетает любимой лошади гриву в колтун…» [1880, с. 466–467]. Отмечено амбивалентное отношение домового к человеку. Предложена некая «классификация» домовых по ме сту обитания. Отмечено их родство с другими домашними и лесными духами. Указано, что «домового можно увидать в ночи на Светлое Воскресенье в хлеву; он космат, но более этой приметы нельзя упомнить ничего, он отшибает память» [Там же, с. 466].
В других рассматриваемых толковых словарях статьи «Домовой» минимальны по объему и информации: «по народному поверью – сверхъестественное существо, живущее в каждом доме» [Толковый словарь…, 1935, с. 762]; «в славянской мифологии: сказочное существо, обитающее в доме, злой или добрый дух дома» [Ожегов, Шведова, 1994, с. 177]; «добрый или злой дух, живущий – по суеверным представлениям – в доме» [Ефремова, 2000, с. 217]; «по суеверным представлениям славянских и некоторых других народов: добрый или злой дух, живущий в доме» [Словарь…, 1985, т. 1, с. 427]. В этих словарях нет описания внешности домового, его типичных действий и отношения к человеку, что вызывает некоторое недоумение: как домашний дух, он наиболее близок и известен человеку, в т.ч. городскому жителю. Не описаны ситуации, когда люди начинают вспоминать домового, например, когда хозяин дома не может найти какую-нибудь вещь.
В лингвокультурологическом словаре «Русское культурное пространство» единицы домовой и кикимора входят в раздел «прецедентные имена» [Брилева и др., 2004, с. 187–188, 207–208]), что кажется несколько странным, поскольку они не обладают основным признаком прецедентного имени («существование общенационального инварианта восприятия того феномена, на который это имя указывает», он включает: 1) дифференциальные признаки соответствующего феномена; 2) атрибуты, т.е. все то, что в сознании связывается с данным феноменом, но не является необходимым для его сигнификации, хотя бывает достаточным; 3) оценку, т.е. одну из точек на оси «хорошо–плохо» [Там же, с. 26]). Кроме того, данный раздел словаря содержит преимущественно имена сказочных персонажей и названия сказочных атрибутов (например, волшебная палочка, золотой ключик, снежная королева и др.), соседство которых затрудняет восприятие домового и кикиморы как мифологических, а не сказочных персонажей.
В лингвострановедческом словаре «Россия» нет статей «Домовой» и «Кикимора», хотя основанием для включения языковой единицы в словник, как пишут авторы, является наличие у нее национально-культурного фона («некоторого набора дополнительных сведений и ассоциаций, связанных с национальной историей и культурой и известных всем русским» [Россия…, 2007, с. IV]), т.е. данные статьи, по нашему мнению, должны быть в этом словаре.
Представления о домовом актуальны и сегодня. Они не утратили своей значимости как у сельских жителей, так и у горожан. Мы неоднократно наблюдали проявления веры в существование домового, которые выражались в том, что жители городов в своих квар- тирах обустраивали «уголки домового»: в укромном месте оставляли для домашнего духа угощение (хлеб, молоко, сладости) и игрушки (банка с пуговицами, бусинами и прочими мелкими блестящими предметами), ставили в угол веник (ПМА, Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Киров). Необычные звуки в доме, неожиданную пропажу вещей горожане также приписывали проделкам домового (ПМА). Опрос выявил хорошую осведомленность городских жителей о домовом, в основном она соответствовала традиционным представлениям русских о домашнем духе.
Кикимора
По материалам этнографии и фольклора, кикимора – мифологический персонаж в женском облике, обитавший или появлявшийся в доме, во дворе, иногда в бане, хлеву, пустых строениях, кабаке [Зеленин, 1995, с. 60; Максимов, 1903, с. 62–69; Черепанова, 1983, с. 125]. Наименование кикимора могло относиться к персонажам или предметам, которые мы разделили на четыре группы: 1) домашняя/дворовая; 2) лесная/болотная; 3) кукла, сделанная из тряпок, щепок (иногда с использованием крови или предметов, бывших в соприкосновении с мертвецом) в магических целях (чтобы в доме «чудилось», для «наведения порчи» на человека); 4) предмет (бутылочное горлышко, трещотка из щепок и т.п.), который печники, плотники, недовольные оплатой их труда, могли замуровать в печной трубе или в стене дома, чтобы отомстить хозяевам (ветер посредством этого предмета создавал в доме неприятный шум, «завывания», пугавшие жильцов дома). Последняя группа в отличие от остальных не связана с мифологическими представлениями и магией. В данном исследовании нас интересуют персонажи (первая и вторая группы) – до-машняя/дворовая и лесная/болотная кикиморы.
Домашняя кикимора иногда считалась женой домового [Даль, 2008, с. 406; Максимов, 1903, с. 62–63; Власова, 1998, с. 221], однако преобладали верования, согласно которым они являлись антиподами, враждующими между собой духами. Кикимора представлялась маленькой, уродливой, скрюченной, неряшливой женщиной, безобразным карликом; танцующей куклой; девочкой; девушкой в белой или черной одежде, в красной рубахе; иногда ее видели голой; могла превращаться в кошку, собаку, утку, зайца, поросенка, но чаще оставалась невидимой [Даль, 2008, с. 404–421; Зиновьев, 1987, с. 85–96]. В отличие от домового, домашнюю кикимору наделяли вредоносными качествами: она пугала, гремела, стучала, била посуду, портила хлеб, рвала и путала рукоделие, ощипывала кур, гоняла лошадей. Некоторые харак- теристики этих духов совпадали: оба издавали шум, топали, гремели посудой, завывали, плакали; могли предсказывать судьбу, появляясь накануне значимых перемен в жизни домочадцев; превращались в кота или кошку; гоняли лошадей, мучали нелюбимую скотину; жили в одних и тех же местах (за печкой, около трубы, в подполье, на чердаке, в хлеву, курятнике). Постоянным признаком кикиморы являлась связь с прядением: она могла допрясть за хозяйку, но чаще путала, рвала, мусолила, жгла кудель, оставленную на ночь без благословения [Черепанова, 1983, с. 124]. Этот признак нашел отражение во фразеологическом корпусе русского языка – в пословично-поговорочных выражениях, например: «Спи девушка, кикимора за тебя спрядет», «От кикиморы не дождешься рубахи» [Даль, 1881, с. 107]. Представления о прядущей кикиморе, распространенные по большей части на Русском Севере, были известны в Сибири. Они зафиксированы в наших полевых исследованиях: Заглянула я в баню, а там кикимора сидит, коноплю тюпа-ет (ПМА, Новосибирская обл.). Опрос, проведенный среди городских жителей, подобных представлений не выявил.
Согласно народным верованиям русских, кикимора и домовой имели различную природу. Первая считалась нечистой силой, а второго к ней не относили. Происхождение кикимор нередко связывали с умершими некрещеными младенцами (мертворожденные, выкидыши) [Афанасьев, 1868, с. 113; Зиновьев, 1987, с. 85]. То есть, в отличие от домового (духа-предка), кикимора отно силась к категории «заложных покойников» [Зеленин, 1995, с. 51, 60], среди которых умершие некрещеные дети считались одними из самых беспокойных и вредоносных духов. Младенцы, которые не успели пожить на свете, особенно некрещеные, становятся нечистой силой. Их души на том свете не принимают. Они вредят, людей пугают. Если в доме кикимора заведется, то от нее только одно беспокойство, добра не жди, потому что это нечистая сила, некрещеная душа (ПМА, Алтайский край).
Время появления кикимор – обычно ночно е, но также считалось, что они появляются только на Святках [Черепанова, 1983, с. 124]. На Русском Севере один из элементов святочного ряженья был представлен образом кикиморы: «Старухи на святках являлись на беседу наряженными шишиморами – одевались в шоболки (рваную одежду. – О. Ч.) и с длинной заостренной палкой садились на полати, свесив ноги с бруса, и в такой позе пряли… Девушки смеялись над шишиморой, хватали ее за ноги, а она била их палкой» [Там же, с. 124–125]. По нашим полевым материалам (воспоминания информантов, относящиеся к 1950-м гг.), в ряде мест Западной Сибири кикиморами рядились во время святочных маскарадов и на Масленицу. Женщины надевали старую одежду («лохмотья»), мазали лица сажей, растрепывали волосы, создавая неряшливый образ. Ряженые «кикиморы» ходили колядовать вместе с другими карнавальными персонажами. Они несли шерсть или лен, веретено, чесалку; войдя в дом, изображали, что прядут кудель. Под старый Новый год старухи в лохмотьях ходили, косматые, лица сажей перемазанные. Шли всей гурьбой по селу, песни похабные пели, а то и сматерятся. За это их кикиморами называли. На Масленицу наряжались чертями, кикиморами. «Кикиморы» несли в руках лен и трепали его, нитки крутили. Старые люди говорили, что так надо, от этого лен хороший уродится (ПМА, Новосибирская обл.). Таким образом, в некоторых сибирских селах как минимум до середины XX в. сохранялись представления о кикиморе как о домашнем духе, связанном с рукоделием и способном влиять на урожай льна.
Обратимся к словарному описанию единицы кикимора . В толковом словаре В.И. Даля она определяется как «род домового, который по ночам прядет; он днем сидит невидимкою за печью, а проказит по ночам, с веретеном, прялкою, воробами и вьюшкою», однако с оговоркой, что «в Сибири есть и лесная кикимора». В словарной статье приводится пример употребления данной единицы в речи: «укорительное: домосед, нелюдим, невидимка, кто вечно сидит дома за работою, особенно кто очень прилежно прядет. От кикиморы не дождешься рубахи , хотя он и прядет». Также есть практические сведения: « Чтобы кикимора кур не воровал, вешают над насестью, на лыке, отшибен-ное горло кувшина либо камень с природною сквозною дырою» [Даль, 1881, с. 107] . Обратим внимание на то, что кикимора имеет форму как женского, так и мужского рода.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова кикимора семантизируется несколько иначе: «1. нечистая сила в женском образе. 2. человек нелепого или смешного вида; смешно одетый и 3. сумрачный, нелюдимый, неприятный человек (простореч. неодобрит.). Надулся, как кикимора, слова не скажет » [1935, с. 1354]. Мифологическое значение минимизируется, а возможное употребление по отношению к человеку расширяется. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой соответствующая словарная статья содержит перечень возможных мест обитания кикиморы: «маленькая невидимка, живущая за печкой, в лесу, в болоте. Кикимора болотная, лесная». Заметим, что в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова зафиксировано употребление слова кикимора как бранного, неодобрительного по отношению к человеку, тогда как в этом оно приобретает шутливый оттенок, конечно, не теряя отрицательную коннотацию: « перен., м. и ж. О человеке, имеющем смешной, нелепый вид (разг. шутл.)»
[Ожегов, Шведова, 1994, с. 274]. В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой статья «Кикимора» [2000, с. 504] повторяет статью словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой с той разницей, что кикиморой могут назвать только «женщину, имеющую смешной, нелепый вид» (ср. у С.И. Ожегова: « м. и ж. »). В Малом академическом словаре под редакцией А.П. Евгеньевой кикимора – «по суеверным представлениям: нечистая сила в женском образе»; просторечное употребление этой единицы маркируется как бранное: «Об уродливой или некрасиво одетой женщине» [Словарь…, 1985, т. 2, с. 48].
Большинство опрошенных считали, что кикимора – бранное, пренебрежительное наименование неопрятной, неряшливой, неприятной (как внешне, так и в поведении, моральных качествах) женщины. При этом многие называли признаки кикиморы, типичные для ее традиционного образа (мелкие черты лица, писклявый голос, ощипывает кур). Итак, наименование и характеристики этого мифологического персонажа, отчасти утратившего свою актуальность, сохранились в русском языке и культуре.
Полевые материалы рубежа XX–XXI вв. отражают тенденцию «превращения» кикиморы из персонажа домашнего пространства в болотного духа. Согласно нашим исследованиям, о домашней кикиморе помнили наиболее пожилые информанты, представители уходящего поколения. Люди моложе (1940–1950-х и последующих годов рождения) считали кикимору лесным или болотным духом, иногда – женой лешего или болотного черта, но чаще говорили как о самостоятельном персонаже – зловредном духе женского пола, обитающем на болоте или в лесу. Городские жители также связывали кикимору с болотом и лесом (только двое респондентов называли ее домашней вредительницей и женой домового). Отметим, что представления о лесной, болотной кикиморе были известны и в XIX в. [Даль, 1881, с. 107]; избавляясь от домашней кикиморы, ее прогоняли в лес [Даль, 2008, с. 414; Максимов, 1903, с. 67–68]. Таким образом, локализация кикиморы вне домашнего пространства может быть связана с архетипическим восприятием этого полисемантического персонажа: нечистая сила выдворяется за пределы культурной среды.
Возможная лексикографическая интерпретация единиц домовой и кикимора
Рассмотренные статьи толковых словарей дают представление об образах кикиморы и домового (внешность, типичные действия, отношение к человеку), а также об употреблении единицы кикимора для характеристики человека. Но они в соответствии с ти- пом словаря являются своего рода «сверткой» статей специализированных мифологических словарей и не отражают современное представление носителей языка об этих персонажах. Словари лингвокультуры в данном аспекте также не в полной мере реализуют актуальную для современной лексикографии задачу: не только способствовать изучению языка и культуры, но и ориентировать пользователя словаря на коммуникацию.
Считаем возможным предложить лексикографическую интерпретацию, используемую в конструируемом словаре лингвокультурной грамотности, как новый метод лексикографической фиксации этнографической информации. Словарная статья отражает обыденные значения, наиболее актуальные для носителей языка, а также некий комплекс представлений, связанных с данными языковыми единицами (подробнее об этой концепции, а также о разработке макро- и микроструктуры словаря см.: [Ансимова, 2014]). Она состоит из следующих зон: 1. Заголовочная единица; 2. Обыденное значение, наиболее актуальное для русских ( ★ ); 3. Реализация в речи (©); 4. Распространенные ассоциации (Ф); 5. Минимальная справочная информация (&); 6. Дополнительная информация ( ✓ ); 7. Иллюстрация (о лингвострановедческой зрительной наглядности см.: [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 169-185]). Из них первые пять -основные.
Обратимся к опытному лексикографированию и продемонстрируем, как могут быть семантизированы единицы домовой и кикимора в словаре лингвокультурной грамотности. Мы провели анкетирование, чтобы определить: а) наиболее актуальные обыденные значения предложенных единиц, б) самые распространенные ассоциации носителей русской линг-вокультуры, связанные с данными единицами, в) те компоненты значения этих единиц, которые обычно реализуются в речи, г) ситуативную характеристику их употребления. Заявленная цель обусловила определенную структуру анкеты и принципы анкетирования. При характеристике респондентов необходимо обозначить границы распространения анкетирования: 1) лица, для которых язык анкеты является родным; 2) городские жители (чтобы минимизировать влияние диалектов); 3) широкий территориальный охват испытуемых; 4) основной контингент респондентов - студенты всех специальностей из вузов России в возрасте 17-25 лет [Караулов, 2010, с. 53].
В опросе участвовало 317 чел. из разных городов России: Новосибирска (37 %), Москвы (22 %), Санкт-Петербурга (17 %), Томска (11 %), Омска (6 %), Барнаула (5 %), Тюмени (1 %), Салехарда (1 %). Информантами стали студенты разных факультетов вузов (21 %), представители разных специальностей, имеющие высшее образование (53 %), и разных сфер де- ятельности, имеющие среднее специальное образование (19 %), пенсионеры (7 %). В анкете предлагалось ответить на вопросы относительно возможных ассоциаций, понимания и использования единиц домовой и кикимора. Исходя из ответов, мы выявили, какую информацию о данных единицах необходимо знать носителям языка и, следовательно, включать в словарь. На основе этнографических материалов и результатов анкетирования были сформированы словарные статьи, отражающие современное представление русских об исследуемых персонажах.
Домовой
★ Домашний добрый дух, хозяин дома. Живет за печкой или в темном углу. Появляется в образе маленького человечка, старичка или кота, может быть невидимкой, издает звуки: топает, стучит, завывает. Дружит с котом, домового видят кошки. «Хозяина» угощают хлебом, молоком, сахаром, конфетами; при переезде приглашают в новый дом. Домовой любит, чтобы в доме был порядок и помогает чистоплотным трудолюбивым хозяевам. Если в доме не убрано, грязно, домочадцы ругаются, домовой сердится, стучит, бьет посуду. Домовой «из озорства» может спрятать какую-нибудь вещь, а когда наиграется, возвращает. Расшалившегося домашнего духа можно занять игрушками, «подарив» ему несколько пуговиц или бусин - он любит перебирать мелкие блестящие предметы.
Ф Дом, печка, темный угол, веник, добрый, помощник, лохматый маленький человечек, бородатый старичок, мягкий, пушистый, в золе, кот, домовенок Кузя (из мультфильма).
fe В русской мифологии - хозяин дома. Родовой предок, покровитель семьи и домашних животных. Оберегает дом, людей и скотину от возможных несчастий, воров, колдовства и нечистой силы. Может появляться в различных образах: маленького лохматого человечка, седого старичка, кота, змеи, медведя, мыши, ласки. Но чаще остается невидимым, присутствие домового определяется по звукам: топает, хлопает дверями, гремит посудой, воет в трубу, смеется или плачет. Наваливается на спящих людей, душит. Появление домового предвещает значимое событие в жизни семьи - рождение, свадьбу, смерть, пожар или переезд. Живет за печкой, на чердаке, в подполье, во дворе, в хлеву. Домового принято угощать, чтобы был благосклонен к жильцам дома, охранял жилище, приглядывал за скотиной. При переезде его приглашают с собой, чтобы новый дом не оставался «пустым», незащищенным от нечистой силы. «Хозяин» дома знает судьбу каждого члена семьи и может ее предсказывать, к нему обращаются во время гаданий. Домового обычно не относят к нечистой силе.
Когда домовой показывается человеку или наваливается на спящего, он пытается сообщить о значимом событии в жизни семьи, грядущем в скором будущем. Домового можно спро сить: «К худу или к добру?», и дух обязательно ответит.
V Переезжая в новый дом, приглашают домового. Заметают углы веником, приговаривая: «Хозяин, пойдем с нами в новый дом жить». Домовой переезжает в мешке, вместе с веником или старым башмаком (тапком). Считалось также, что его «транспортом» могла быть кошка, которую запускали в новый дом первой.
На святках девушки гадали о женихах. Загадывали: если домовой погладит мохнатой рукой, то она выйдет замуж за богатого человека, если голой – за бедного, если ущипнет – муж будет драчливым, злым.
Кикимора
Зловредный дух, живущий в лесу или на болоте. Сказочный персонаж. Жена домового или лешего. Некрасивая, неопрятно одетая женщина. Грязная, нечесаная неряха. Пожилая невысокая женщина с мелкими чертами лица и писклявым голосом. Страшная, злая, пакостливая. Кикиморой пугали детей, чтобы они не ходили в лес.
Болото, трясина, лес, домашняя вредительница, пугает, пищит, пакостит, страшная, ехидная, неопрятная, некрасивая, женщина с нечесаными волосами, с зелеными волосами, страшно накрашенная девушка.
В русской мифологии – домашний персонаж, представлявшийся в образе маленькой юркой уродливой женщины, девочки или девушки, преимущественно зловредной. Живет за печкой, около трубы, на чердаке, в подполье, курятнике. Может превращаться в кошку, собаку, поросенка, утку и других животных. По ночам шумит, шуршит, стучит, пугая жильцов дома. Любит прясть, вязать, плести кружево, но при этом портит рукоделие, рвет нитки, оставленные на ночь без благословения. Ощипывает кур, гоняет лошадей, остригает овец. Кикимору могли «напустить» в дом колдуны или обиженные строители, замуровав в укромном месте куклу, сделанную с использованием магических приемов. Появившись в доме, кикимора доставляла беспокойство жильцам (в доме становилось страшно, все ломалось и портилось, люди болели, даже умирали), от нее старались избавиться. Происхождение кикиморы также связывали с неуспокоенными душами умерших некрещеными (или беззубыми) младенцев, которых было принято хоронить под порогом дома или во дворе.
Кикимора также могла быть лесной или болотной. Избавляясь от домашней кикиморы, ее прогоняли в лес.
Помимо мифологического персонажа и сделанной колдуном куклы, кикиморой назвали предмет (бутылочное горлышко, берестяную трещотку), который плотники или печники, обиженные на хозяев, могли замуровать в стене дома или в печной трубе. Этот предмет (кикимора) усиливал звуки ветра, и в доме казалось, что кто-то шуршит, завывает, стонет.
Против кикиморы использовались обереги: можжевельник, папоротник, «куриный бог» – камень с естественно образовавшимся в нем отверстием, который также называли «кикимора одноглазый».
На Русском Севере на святках старухи изображали кикимор. Они одевались в лохмотья, забирались на печь и пряли, громко стуча прялками, веретенами. Девушки хватали «кикимору» за ноги, а она била их палкой. В некоторых сибирских селах в канун старого Нового года и на Масленицу ходили маскарадные процессии, в составе которых были ряженые кикиморами женщины. Они изображали, что теребят и прядут шерсть или лен. Могли исполнять похабные песни.
Заключение
Анализируя фольклорные, этнографические и лексикографические источники, мы выявили ряд различий в представлениях о мифологических персонажах домашнего пространства у городских и сельских жителей, обнаружили некоторые специфические региональные черты, а также проследили динамику развития данных мифологических образов. На примере словарных статей «Домовой» и «Кикимора» нами предложена лексикографическая интерпретация, используемая в конструируемом словаре лингвокультурной грамотности, как новый метод лексикографической фиксации этнографической информации.
Результаты эмпирических исследований (ПМА 1999–2015 гг. и опрос 2015 г.) показали, что в различных регионах России образ домового являлся общеизвестным, популярным у разных возрастных и социальных групп респондентов. Современные представления о нем в основном соответствовали традиционным верованиям русского народа. Отметим, что горожане проявили достаточно высокую осведомленность о домашнем духе. Домового считали добрым помощником, защитником дома и семьи; его представляли невидимкой или в образе маленького лохматого (волосатого) человечка, старичка, кота; большинству респондентов известны обычаи оставлять для домового угощение, «игрушки» и приглашать его в новый дом, многие практиковали это сами. Появление домашнего духа часто расценивалось как предзнаменование важного события в жизни семьи. Согласно полевым материалам, в ряде мест еще сохранились представления о домовом как о душе умершего предка; опрос, проведенный среди городских жителей, подобных воззрений не выявил.
Образ кикиморы, в отличие от домового, претерпел существенные изменения. Для опрошенных горожан это прежде всего неопрятная некрасивая женщина, которую могут назвать кикиморой болотной. Как следствие, кикимора чаще всего воспринималась как лесной, болотный дух, а не домашний. В сельской местности сохранились представления о домашней кикиморе – прядущем духе, а также персонаже, который является причиной шума, беспокойства и неприятно стей в доме; в кикимору рядились женщины во время святочных и масленичных маскарадов.
Таким образом, мифические персонажи домашнего пространства не утратили своей актуальности. Представления о них известны городским и сельским жителям различных областей России и являются одним из элементов традиционной культуры русских. Следовательно, они должны быть описаны в словаре с позиции обыденных значений, наиболее актуальных для носителей языка, а также комплекса представлений, связанных с этими языковыми единицами.
Список литературы Мифологические персонажи домашнего пространства в народных верованиях русских (этнографический и лексикографический аспекты)
- Ансимова О.К. Лингвокультура и ее отражение в словарях. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. техн. ун-та, 2014. - 216 с.
- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. - М.: Изд-во К. Солдатенкова, 1865. -Т. I. - 800 с.; 1868. - Т. II. - 784 с.
- Балов А. Следы древних верований в народном иконопочитании // Живая старина. - 1891. - Вып. III. - С. 218-222.
- Брилева И.С., Вольская Н.П., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Красных В.В. Русское культурное пространство: лингвокультурол. словарь. - М.: Гнозис, 2004. - 318 с.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. - М.: Рус. яз., 1990. - 246 с.