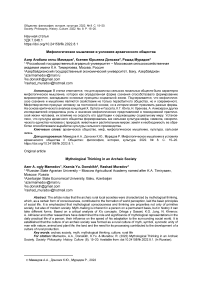Мифологическое мышление в условиях архаического общества
Автор: Мамедов Азер Агабала Оглы, Донских Ксения Юрьевна, Мурадов Рашад
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается, что для архаичных сельских локальных обществ было характерно мифологическое мышление, которое как определенная форма сознания способствовало формированию мировосприятия, закладывало основные принципы социальной жизни. Подчеркивается, что мифологическое сознание и мышление являются свойствами не только первобытного общества, но и современного. Мифотворчество присуще человеку на постоянной основе, но в истории может принимать разные формы. На основе критического анализа концепций Х. Ортега-и-Гассета, К.Г. Юнга, Н. Хренова, А. Ахиезера и других исследователей определены роль и значение мифологических представлений в повседневной практической жизни человека, их влияние на скорость его адаптации к окружающему социальному миру. Установлено, что культура архаичного общества формировалась как сельская культура мифа, символа, синкретического единства человека с природой, животным и растительным миром; земля и необходимость ее обработки способствовали выработке культуры сельского производства.
Архаическое общество, миф, мифологическое мышление, культура, сельская жизнь
Короткий адрес: https://sciup.org/149140722
IDR: 149140722 | УДК: 7.046.1 | DOI: 10.24158/fik.2022.8.1
Текст научной статьи Мифологическое мышление в условиях архаического общества
Архаичным называют общество, состоящее из слабо связанных между собой групп населения, именуемых обычно племенами. Последние в свою очередь объединяют многочисленные кланы и роды, которые образовывали те экономические единицы, которые занимались обработкой земли.
Таким «естественным» формам организации, как племя и род, существовавшим у множества архаичных народов по всему миру, противостояла военная дружина, которая в основном включала представителей аристократических и «властьимущих» слоев общества.
Большое значение в структуре архаичного социума имели также жрецы и другие служители культа, выполнявшие самые различные социальные функции.
Необходимо сказать и о том, что в рассматриваемом типе общества существовала особая социальная прослойка, состоящая из рабов, в которых превращались пленные, взятые в результате военных походов дружины (Тодд, 2005).
Наиболее тесными связями в обществе рассматриваемого типа были родственные. Так, сплоченные воины дружины состояли, как правило, в кровном родстве.
Многие архаичные общества имели традицию кровной мести, то есть преступление отдельного человека экстраполировалось на весь его род. Личностное, индивидуалистическое начало еще было достаточно слабо выделено из коллективистского.
Архаичное общество – это догосударственная форма социальной жизни, множество низкоинтегрированных локальных миров. Основной формой мышления в них было мифологическое. Это определенная форма сознания, которая дает основы для постижения человеком мира и закладывает главные принципы социальной жизни. Миф призван объяснить все тайны бытия, свести все непознанное к уже известному и понятному, обеспечить восприятие человеком природы и окружающего мира через ощущения и образы. В мифе процессы и явления, происходящие на земле, расцениваются как результат действия высших сил, ответственных за те или иные сферы человеческого бытия.
-
Х. Ортега-и-Гассет писал, что «миф – это фантастическое отображение, являющиеся внутренней функцией, без которой психическая жизнь парализуется. Конечно, у нас неадекватное восприятие реальности. Миф не встречает во внешней среде адекватного объекта» (Ortega y Gasset, 1961: 417).
Как отмечал К. Юнг, между объективной реальностью мира и ее восприятием лежит пропасть, заполненная бессознательным (Юнг, 1991). Согласно ученому мифы – это прежде всего психические явления, выражающие глубинные духовные процессы. Они позволяют приспосабливать внешний человеческий опыт к душевным событиям, восполнять в воображении индивида те сферы, которые не были и не могут быть эмпирически им познаны (Юнг, 1991).
Миф помогает человеку объяснять окружающий мир и выстраивать социальные отношения. Природа, другие люди и социальные общности являются источником мифотворчества. Интересно, что этот процесс не является исключительным для первобытного общества, он характерен и для современного социума. Мифотворчество присуще человеку всегда, однако формы его варьируются в истории. «Принципиально важно учесть, – писал С. Телегин, – что элементы и структуры мифосознания являются общими для всех, врожденными и наследуемыми, не связанными с личным опытом» (Телегин, 1994: 7).
Н.А. Хренов подчеркивал, что в различные исторические периоды происходят процессы вытеснения или реабилитации мифа. Он писал: «Эпоха Просвещения с ее грандиозным проектом модерна стала тем периодом в истории, прежде всего – европейской культуры, когда представляемая наукой система рациональности заняла высокий статус и начала активно вытеснять из культуры другие системы рациональности и истолкования мира. Культ науки в Новое время породил иллюзию, что с этого времени культура связывает себя исключительно с наукой, а следовательно, она разделяет субъект и объект, соединенные в мифе, исходя исключительно из объекта или объектных отношений» (Хренов, 2006: 87).
-
А. Ахиезер отмечал: «Миф является не только этапом развития культуры, но и ее уровнем, который не исчезает в современном обществе, но служит основой для наслоения новых форм культуры иного типа» (Ахиезер, 1998: 279).
Исследовать миф с точки зрения современной рациональной субъект-объектной науки достаточно сложно. Очевидно, что для первобытного человека он был чем-то другим, нежели для современного индивида. А. Лосев писал: «Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух - трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии. Это не выдумка, но - наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это - совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Миф - необходимейшая - прямо нужно сказать, трансцендентальнонеобходимая - категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это - подлинная и максимально конкретная реальность» (Лосев, 2001: 15).
Нужно принять тот факт, что миф необходимо рассматривать не только как форму мышления древнего человека, но и как определенный этап в развитии культуры, характеризующийся «движением от осмысления мира через восприятие, фонемы и даже семантемы к осмыслению его через язык, предложения, повествования. В мифе фиксируются те ритмы мира, к которым адаптируется человек» (Ахиезер, 1998: 278).
Миф представляет собой «повествование» о возникновении порядка из хаоса, в нем преобладает инверсия, то есть абсолютизация полярностей: добро - зло, черное - белое, правда - кривда, красивый - уродливый. По инверсивной логике мифов каждое явление может стать «оборотнем», то есть, прикоснувшись к другому полюсу, мгновенно оказаться своей противоположностью: добро может обернуться злом, человек - животным или вампиром и т.д. Миф существует как отражение эмоциональной жизни личности и как воплощение синкретического тотемического идеала.
В древности человек был подчинен силам природы, поэтому мифотворчество было направлено на ее осмысление и освоение. В архаическом сознании создание или открытие культурных ценностей (узнавание способов добычи огня, производство орудий сельского хозяйства или охоты) происходило по воле бога или духа-покровителя. Одухотворенная природа проецировалась на конкретные образы духов окружающего мира и первопредков.
Важнейшими элементами мифологического мышления являются синкретизм, тотемизм и антропоморфизм. Человек не только не выделял себя из животного и природного мира, но и стремился к преодолению границ между ними. В мифах не существует различия между человеком и животным, они равны во всех отношениях. Тотемизм представляет собой полное единство человеческого и животно-растительного мира, он основан на представлении о наличии кровнородственных связей между людьми и объектами природы (животными, растениями, камнями). Каждый человек (или племя) имел тотемного первопредка, которым могли выступать птицы, насекомые, растения, камни.
Антропоморфизм - это перенесение человеческих свойств на природные объекты. Человек, познавая Вселенную, не только проецировал ее на себя, но и переносил на нее свой опыт, то есть очеловечивал природу, животных, растения. Они наделялись им способностью говорить, мыслить. Происхождение любых культурных объектов (огонь, очаг, жилище, орудия труда, одежда) тесно связывалось с природой, в их создании человек ориентировался на ее законы. «Культура мифологического человека была природоподобна», - пишет С. Телегин (Телегин, 1994: 18).
Для синкретического мышления, таким образом, характерна нерасчлененность полюсов дуальных оппозиций, жестко понимаемая абсолютная картина мира, истолкование явлений по принципу «все во всем». «Этот кажущийся абсурд, - замечает А. Ахиезер, - возможен при одном условии: если любое явление мира в этой логике - оборотень, т. е. не то, что оно есть, то, что способно предательски превратиться в нечто отличное от своей кажимости. Это возможно, если человек мыслит по логике инверсии. Попугай (в племени Бороро) - это человек. В разных культурах соседка может оказаться ведьмой, живой волк - убитым человеком, медведь - братом, камень - тотемом, работник - вредителем и т. д. до бесконечности» (Ахиезер, 1998: 445). В этом смысле, по мнению А. Ахиезера, синкретизм присутствует в сознании и мышлении современного человека в виде псевдосинкретизма, который выступал идеологической основой развития российского общества в советском периоде его истории. Псевдосинкретизм - это распространение синкретических форм мышления из локальных миров на большое общество, то есть на государственные формы социальности. Синкретизм тесно связан с инверсионным сознанием и мышлением и с попыткой преодолеть социальные расколы, сохранить интеграцию общества инверсионно, без решения медиационных задач. Псевдосинкретизм в широком смысле понимается как стремление вернуться к прошлому, возвратиться к тотему, к вождю, к «прочному» социальному порядку (Ахиезер, 1998). О сакральном характере синкретического мифологического комплекса говорит и В.В. Ильин (Ильин, 2013: 126).
Очевидно, мифологическое сознание выражается не в суждениях, оно выступает как не-расчлененный поток образов. Миф тесно связан с символом; по мнению исследователей, он даже предшествует последнему (Телегин, 1994). Миф не символичен, но подготавливает почву для символа, причем символизм усиливается по мере утраты веры в достоверность мифа (Телегин, 1994).
Несомненно, мифологические представления играли важную роль в повседневной практической жизни человека – способствовали быстрой его адаптации к окружающему социальному миру. Хотя миф как первоначальная универсальная попытка познания мира способствовал возникновению других видов познания, дальнейшее их развитие не приводило к вытеснению мифологии из познавательной практики. На языческие же «пережитки» в различных религиях указывает Д. Франкфуртер (Frankfurter, 2021: 128).
Таким образом, культура архаичного общества формировалась как культура мифа, символа, синкретического единства с природой, животным и растительным миром.
Земля и необходимость ее обработки определяли культуру производства. Само слово «культура» переводится как «возделывание земли». Сегодня известно множество форм древней аграрной культуры. Одно из них (характерное, например, для европейской лесистой части континента) – подсечно-огневое земледелие, то есть расчистка земли от леса путем вырубки и сжигания деревьев. Оно не только позволяло освободить пространство для посевов, но и на какое-то время обеспечивало обогащение почвы минеральными солями. После того как в течение нескольких лет на этой земле собирали урожай, запасов минеральных удобрений становилось недостаточно для подкормки посевов. Тогда поле оставляли под паром на десять и более лет. После появления железных орудий труда люди стали активно использовать их для расчистки лесов и обработки полей.
Сельская жизнь на основе возделывания земли в архаичном обществе была практически единственно возможной формой социального бытия. В священной книге древних иранцев «Авеста» отсутствуют всякие упоминания о наличии городов (Мамедов, 2011). Только великие древние цивилизации, такие как Месопотамия, Египетская цивилизация, Древняя Греция и Древний Рим, демонстрируют нам развитие полисов. Однако по типу экономических отношений древние общества были все же аграрными, так как именно продукция сельского хозяйства служила главным источником человеческого существования и развития.
В традиционном обществе можно говорить о более выраженном развитии городских форм социальной жизни. Оно характеризуется развитой системой государственности, основу которого составляет следование социальным нормам и обычаям. Традиционное общество – это доинду-стриальное, докапиталистическое общество, экономика которого зиждется на сельском хозяйстве. И человек в таком социуме находился в неразрывном единстве с окружающим его природным миром, который воспринимался им как нечто сакральное, величественное и вечное. Социальный статус индивида, его место в иерархической структуре общества целиком определялись традицией, причем эта характеристика была наследственной, то есть место человека в обществе зависело от социального статуса его предков.
В традиционном обществе преобладали коллективистские установки, социальная дифференциация была еще достаточно слаба, наблюдалось синкретическое единство власти, слабая дифференциация политической, правовой и экономической систем. Безусловно, в таком обществе коллективистские представления доминировали над индивидуальными; главным достоинством считалось не личное умение человека, его способности, а место в иерархической (сословной) структуре общества. В таких древних, очевидно, сельских типах обществ, были сильны только внутриродственные связи.
Необходимо отметить, что типологическое выделение архаичного, традиционного общества и общества модерна достаточно условно. Оно связано с теорией социальной модернизации, которая объясняет основные принципы социально-исторического развития тенденцией к рационализации социального действия и ко все большей мере социального усложнения или дифференциации. Теория модернизации фактически приобрела в ХХ веке характер социологической парадигмы, то есть господствующей аналитической концепции, объясняющей причины и вектор исторического развития западных обществ. Были попытки экстраполировать теорию модернизации и на другие (незападные) социумы. В рамках указанной концепции объясняются причины и основания того, что традиционные общества подвергаются преобразованиям. Модернизация условно подразделяется на политическую, экономическую и социокультурную и предполагает развитие определенных институтов: в политической сфере – институтов демократии, выборов, политических партий, гражданского общества; в экономической сфере – институтов предпринимательства, конкуренции, частной собственности, свободного обмена, индустриализации, менеджмента. В качестве изменений, характеризующих сферу культуры, следует назвать секуляризацию, примат индивидуализма, рост ценности личности, активность, инновационность. Модернизация предполагает также рост городов и урбанизацию, но при этом сельская жизнь остается очагом традиционализма, так как индустриализация и процессы социально-культурных преобразований охватывают ее в последнюю очередь.
Глубокую укорененность крестьянского менталитета во всех культурно-нравственных паттернах российского общества конца ХIХ – начала ХХ веков отмечает А. Ахиезер: «Государственность в России возникла на основе экстраполяции синкретического вечевого идеала, сложившегося в древних локальных сообществах... Традиционализм пронизывал все общество, включая синкретическую государственность, а также и прочие формы жизни: крепостную промышленность, город и т.д.» (Ахиезер, 1998: 359). При этом в конце ХIХ столетия в стране, где крестьянами были почти 98 % населения, сельское хозяйство не было в достаточной мере изучено. В основном при его исследовании использовались методы западной политэкономии, которые не являлись адекватными для этих целей. После 1917 года подлинно научных исследований крестьянства долгие годы не проводилось. В качестве исключения можно вспомнить лишь работы А.В. Чаянова, который впервые показал принципиальное отличие крестьянского труда от труда в любом другом секторе экономики: особую мотивацию крестьянина, отсутствие к капиталистическому стремлению максимизации доходов и т.д. (Чаянов, 1989).
Таким образом, крестьянская жизнь, в отличие от городских форм, в архаичном и традиционном социумах имеет существенное сходство. Крестьянство как образ жизни и сельское хозяйство, особенно земледелие, имеют значительное количество общих черт в различных социумах, у разных народов. Подобная жизнь как в архаичном, так и в традиционном социуме основана на определенного рода ценностях, социальных обычаях и нормах, определяемых элементами мифологического мышления, которые могут быть выражены в большей или меньшей мере, – синкретизмом, холизмом, тотемизмом, патернализмом, инверсионностью мышления и социальных практик. При этом традиционно крестьянское, мифологическое мышление может принимать различные латентные формы. Так, например, синкретизм проявляется в виде псевдосинкретизма, то есть он может быть завуалирован научно-рационалистической и урбанистической риторикой. В латентных формах, как, например, в российском обществе, основные паттерны сельской архаики и традиционализма могут существовать вплоть до современности.
Список литературы Мифологическое мышление в условиях архаического общества
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта : в 2 т. Новосибирск, 1998. Т. 2. 594 с.
- Веселовский А.Н. Миф и символ // Русский фольклор: вопросы теории фольклора. Т. 19. Л., 1979. С. 186-199.
- Ильин В.В. Теория познания. Симвология. Теория символических форм. М., 2013. 384 с.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001. 559 с.
- Мамедов А.А. Гуманистический ресурс зороастризма в современном мире // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 1 (39). С. 25-29.
- Телегин С.М. Философия мифа. М., 1994. 140 с.
- Тодд М. Варвары. Древние германцы: быт, религия, культура. М., 2005. 223 с.
- Хренов Н.А. Воля к сакральному. СПб., 2006. 571 с.
- Чаянов А.В. Избранные произведения. М., 1989. 366 с.
- Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. 297 с.
- Frankfurter D. Restoring «Syncretism» in the History of Christianity // Studies in Late Antiquity. 2021. Vol. 5, iss. 1. Р. 128138. https://doi.org/10.1525/sla.2021.5.1.128
- Ortega y Gasset J. El Espectador. Madrid, 1961. 1100 р. (на испан. яз.)