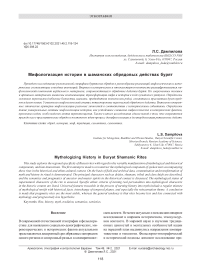Мифологизация истории в шаманских обрядовых действах бурят
Автор: Дампилова Л.С.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.
Бесплатный доступ
Проведено исследование региональной специфики бурятских обрядов в разнообразии реализаций мифологических и исторических составляющих и поздних инноваций. Впервые в историческом и этнокультурном контексте расшифровывается мифологический компонент вербального материала, сопровождающего обрядовые действа бурят. По современным полевым и архивным материалам выявлены контаминация, трансформация мифа и истории в ходе культового ритуала. Определены основные персонажи (небесные божества, шаманы, предводители племени или рода), семантика и прагматика духов предков и духов-хозяев. Установлен мифологический статус потусторонних персонажей обрядового действа. Выявлены конкретные этнические критерии мифологизации реальных личностей в соответствии с историческими событиями. Определены такие универсальные мотивы мифологизации истории, как устойчивое смешение мифологических и исторических фактов, временных кодов, особо выделен мотив перевоплощения. Также в итоге исследования сделан вывод о том, что сохраняются прежде всего прагматические обряды и постепенно идет процесс демифологизации и дегиперболизации ритуальных действ.
Обряд, история, миф, традиция, семантика, семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/145146251
IDR: 145146251 | УДК: 398.22 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.118-124
Текст научной статьи Мифологизация истории в шаманских обрядовых действах бурят
В современной отечественной этнографии и фольклористике для выявления социально-демографических, мировоззренческих и исторических фактов актуальными представляются диахронный срез обрядовых материалов одного региона и синхронный разных в компаративист- ском аспекте. Не менее актуально и междисциплинарное исследование в широком историческом, этнокультурном контексте. В мировой науке в изучении традиционных ценностей и ментальных особенностей нации на передний план выдвинулись направления компаративистики и типологии. Фольклорно-этнографический и исторический подходы дополнят исследование про-
Археология, этнография и антропология Евразии Том 49, № 2, 2021 © Дампилова Л.С., 2021
цессов объективизации научной интеграции. В данной статье компаративистский метод опирается на достижения структурно-семиотического анализа. Как отмечает С. Лангер, язык, миф, ритуал – семиотические средства культуры, и «материалом мифа является уже знакомая символика мечтаний и снов» [2000, c. 159–160].
Целью работы является выявление историко-этнографических и мифологических составляющих в шаманских обрядовых действах с привлечением сопровождающего вербального материала. Сопоставление вариантов обрядов и текстов предполагает обращение к интерпретации образов персонажей, их трансформации в ходе исторических и религиозных изменений в картине мира. При изучении локальных этнических обрядов учитываются теоретические выводы ученых относительно функционирования символов, мифов и ритуальных церемоний. Для нашего исследования особо значимо мнение известного английского этнографа, антрополога и фольклориста В. Тернера: «Исполнители разного возраста, пола, ритуальной роли, статуса, степени эзотерического знания и т.д. доставляют сведения различной полноты, объяснительной силы и внутренней логичности. Исследователь должен вывести из этой информации заключение о том, как члены данного общества думают о ритуале» [1983, c. 41]. Также мы придерживаемся точки зрения К. Клакхона, согласно которой «строгое определение “мифа” как “священной истории” еще не дает оснований предполагать, что мифы являются лишь описаниями коррелирующих с ними ритуалов. Роуз справедливо утверждает, что “среди мифов есть множество таких, связь которых с ритуалом нуждается в доказательстве, а не простом предположении”» [2003, c. 159]. Поэтому в ходе сравнительного анализа текст рассматривается во взаимосвязи с ритуальными церемониями.
Содержание шаманских текстов в основном зависит от внетекстовой мифологической структуры, где миф присутствует как обязательный фон. Он сопровождает обрядовое действо и раскрывает содержание, структуру проводимого обряда. В данном исследовании миф рассматривается как «ритуализированный текст» (Д.Д. Фрэзер). Мы придерживаемся точки зрения отечественных и зарубежных антропологов, этнографов и фольклористов, утверждающих, что религия унаследовала функции архаичного мифоритуального континуума. В работе использованы междисциплинарный, сравнительно-сопоставительный, семантико-герменевтический и структурно-семиотический методы.
Мифологизация персонажей в обрядовом действе
Духи предков. Впервые проводится анализ конкретных шаманских практик западных бурят по материалам со- временных полевых исследований в сравнении с архивными источниками более раннего периода. В бурятской и монгольской традициях генеалогия шаманов и непрерывная связь с небесными предками имеют одно из главных значений в обрядовом действе. Для проведения любого обряда обязательным условием является установление связи между мирами. По словам информантов, связующим звеном выступают духи, под которыми подразумеваются эфемерные существа, чаще всего души умерших предков, но именно тех, кто близко знаком проводящим ритуал старикам или шаманам. Как выясняется из многочисленных рассказов бурят, душа шамана на небесах следит за своими потомками и помогает им во время обряда. Духи предков относятся к локальным божествам и устанавливают связь между миром живых и высшими небожителями, которые не контактируют с людьми. Каждое бурятское племя имеет своего тотемного первопредка, у разных родов в племени могут быть еще свои первопредки. В современной практике при проведении обряда обращаются к духам недавно умерших предков, тесно связанных с исторической действительностью.
Именно ритуальное действо, во время которого устанавливается связь с иным миром, вводит все события обряда в мифологическое время и пространство. «В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства… Пространство же, напротив, “заражается” внутренне-интенсивными свойствами времени (“темпорализация” пространства), втягивается в его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т.е. в тексте)» [Топоров, 1983, c. 232]. В связи с этим во время ритуального действа вводится мифологический хронотоп с конкретными правилами поведения.
В каждой местности свои почитаемые духи, чьи имена упоминаются во всех обрядах локального значения. Ими могут быть как великие шаманы, так и предводители родов и племен. Мифологическая история родовых духов тесно связана с реальными личностями и их биографиями. Как отмечает Т.Д. Скрыннико-ва, «в процессе посмертного обожествления глав родов и племен возникает также общеплеменной и общенародный культ предков вождей и князей, чьи личности у многих народов обожествлялись при жизни» [1997, c. 182]. В преданиях и легендах о шаманах рассказывается биография героя с мифологическими вставками о его сверхъестественных способностях при жизни и после смерти. Примечательно, что исторические личности, становясь персонажами легенд и преданий, приобретают магические свойства, как и шаманы.
При проведении любого шаманского обряда каждый бурятский род в первую очередь упоминает своего родоначальника, по имени которого зачастую называется род. Он считается защитником и хранителем.
Согласно записям этнографа С.П. Балдаева, многочисленные представители готольского рода в Боханском р-не Иркутской обл. начинали обряд с призывания своего предка, называя его «почтенный отец Готол» [1970, с. 18]. Современные потомки Готола в д. Красная Буреть призывают гоёхон Готол теедэй - «прекрасную бабушку Готол» (информант Убугунов Михаил Герасимович, 1928 г.р., булагат, готол, д. Красная Буреть Боханского р-на Иркутской обл. ПМА* 2011 г.). По словам информантов, именно ее дух приходит к ним на помощь, она обладает способностью держать связь между мирами. Как могло произойти такое замещение, и была ли реально такая женщина? Образ мифологической бабушки проясняют записи С.П. Балдаева об истории готольского рода: «Готол был внебрачным сыном Алагуя от Амархан, происходившей из абзаева рода эхиритского племени, живуших тогда в долине реки Лена (Зүлхэ). Она была умна, расторопна и работяща. Готол был ограничен, неповоротлив, слабосилен…» [1970, c. 66]. Как известно, в массовом сознании закрепляются особые события, приобретая со временем мифологические черты. Думается, сильная реальная героиня, обладавшая особой харизмой, стала основой для творения легенд о родоначальнике. В мифологической версии произошло замещение имен (мать получает имя менее интересного сына).
В конкретном ритуальном действе при обращении к духам предков как защитник рода призывается герой, наделенный мифическими сверхъестественными свойствами. В шаманских легендах реальные исторические события перемежаются с вымышленными вставками о сверхъестественных деяниях шамана. Если он был авторитетным и обладал эзотерическими знаниями при жизни, то после смерти в рассказах про шамана его способности приобретали невероятные фантастические масштабы. Истории про деятельность духов шаманов отличались особыми для каждого из них характерными приметами, соотносимыми как с реальной биографией героя, так и с мифологической предысторией всего рода.
Перевоплощение в птицу. Функции героев в ритуальном действе полностью подчиняются мифологическим, символическим составляющим обряда. И в этой ситуации естественно смещаются реальные социально-исторические и пространственно-временные ориентиры. Необходимо заметить, что «миф и ритуал – это символические процедуры, и они переплетены между собой, наряду с другими, гораздо теснее именно в данном отношении. Миф – система словесных символов, тогда как ритуал – система символических объектов и действий» [Клакхон, 2003, c. 168].
Совмещение реальных и мифологических историй характерно для современных преданий и легенд о по- читаемых предках. «Шаман Семен превращался в гуся, имел такие способности, что голыми руками кипящий саламат размешивал, зубами мог стол с едой поднимать. Бабушка Ромашка тоже превращается в голубку и посещает нас. Зараз могла снопы вязать и в это же время дома хлеб стряпать» (информант Убугунов Михаил Герасимович. ПМА 2011 г.). В первом эпизоде традиционный для шаманских историй мотив, связанный с даром шаманов кузнечного рода брать голыми руками раскаленное железо, дополняется деталями с явным соединением реального и вымышленного, и ирреальное, подтвержденное авторитетом шамана, становится реальностью. Обращаем внимание, что для построения мифологического дискурса особое значение имеет организация художественного пространства и времени. Образы героев в народном сознании постепенно гиперболизируются и в данном случае приобретают мифологические черты при помощи традиционного мотива перевоплощения и совмещения времен. В обрядовых текстах наблюдается устойчивое смешение и взаимодействие мифов и историй разного временного континуума. В поздних легендах о предках фигурируют реальные имена и события, но в них прослеживается связь с ранним мифом о первопредках. В шаманских легендах и преданиях распространен мифологический мотив о происхождении определенного племени или рода от какого-то животного, птицы либо рептилии.
В вышеприведенном тексте о тарасинских шаманах характерным является мифологический мотив перевоплощения в птицу. Духи шаманов данной местности упоминаются как тарасинские старцы, которых в призываниях обозначают кодовыми именами: аха-нуты - «старшие», тарасайн ехэшYYл — «тарасинские великие», Yндэрэй Yбгэд — «старцы вершин». С.П. Бал-даев, собравший развернутый материал о системе шаманских родословных западных бурят, пришел к выводу, что «культ аханутов преобразовался с течением времени в культ предков. В древности сформировались три основных рода аханутов – ардайские ахану-ты... обусинские ахануты... и тарасинские ахануты...» [1940, № 1091, c. 3–4]. Считалось, что тарасинские великие шаманы могли при жизни перевоплощаться и путешествовать в иные миры, а после смерти возвращаться в образе птицы. Для нашего исследования важны записи этнографа М.Н. Хангалова, сделанные в конце XIX в.: «…тарасинские ахануты превращаются в волков, орлов, гусей и верблюдов. В других животных, от которых они не происходят, превращаться не могут» [1959, c. 180]. Нас интересует образ гуся.
В современных рассказах информантов фигурирует белая птица, обладающая особой имманентной силой. Птицы белого цвета в традиции монгольских народов наиболее тесно связаны с небесным миром. Интересно, что, согласно исследованиям В. Тернера, у африканских племен этот цвет олицетворяет гар- монию, чистоту предков: «Еще более чистыми считаются предки, а альбиносы пользуются особым почтением, поскольку на них смотрят как на “носителей белизны духов предков”» [1983, c. 36].
Трансформация исходной мифологемы. Сравнительный анализ наших и архивных материалов показывает сохранность в мотиве перевоплощения исходного кода птицы, но трансформацию мифологемы. По записям С.П. Балдаева, относящимся к 1960-м гг., в шаманских «поэмах» о тарасинских духах устойчиво повторяется формула о гусях. В призывании Егора, сына Федота, последнего шамана из великого тара-синского рода, при подчеркивании родовых отличий упоминается перевоплощение в гуся и орла: Аландара толгойдон / Арбан галуун боложо, / Ганганкан удхам-най, / БYдэнэеэ толгойдон / БYргэд шубуун боложо, / Эликэн удхамнай! [Балдаев, 1912, с. 3] - «На вершине Аландара / Десятью гусями обернувшись, / Гогочущий род наш, / На вершине Будэнэя / Орлом-птицей обернувшись, / Парящий род наш!»
Образ птицы как вестника верхнего мира, символа души предка характерен для всей тюрко-монгольской мифологии. Связь с земным миром предки осуществляют через птицу. В современной интерпретации, ввиду утраты исходных данных, наиболее востребованным из всех перевоплощений является образ гуся, трансформированный в белую птицу, лебедя или голубку. В данном случае мифологическая версия о происхождении тарасинских шаманов сохраняется в контексте с реальными историями, мифологизируя весь нарратив. Таким образом, наблюдается контаминация образов призываемого во время обряда избранного реального предка и тотемного первопредка.
Исключительно важными для нашей работы являются исследования Н.А. Криничной по исторической поэтике, касающиеся проблемы реконструкции мотива в фольклорных текстах. «Трансформация мотивов от архаических форм к поздним происходит в первую очередь в направлении их демифологизации, дегиперболизации и наполнения различного рода реалиями, что в конечном итоге влечет за собой вытеснение мифологического и эпического содержания конкретно историческим» [Криничная, 1987, c. 24]. В итоге можем констатировать, что наблюдается забвение, обобщение более древних вариантов мифа и на первый план выходят современные реалии, связанные с историческими изменениями в жизни бурят, такие как заимствованные у русских бытовые нововведения (вязать снопы, печь хлеб).
Совмещение истории и мифа
В шаманском вербальном материале иногда исторический факт становится основой мифа. Змей как прародитель достаточно распространен в мифологии народов мира. Миф о тотемном предке чаще всего присутствует как факт без объяснений, в редких случаях указывается причина появления определенного тотема. Согласно устойчивым формульным выражениям в стихотворных текстах призываний предков, буряты хордутского рода свой тотем возводят к змеям. По записанным М.Н. Хангаловым шаманским легендам, миф о предках этого рода более сложный: «Онго-хордуты обращаются в медведя, и изо рта, носа, ушей и пальцев у них выходят змеи» [1959, с. 180]. В реальных историях о них говорится как об охотниках на змей, но со временем объект их охоты превращается в тотем рода и образ змеи сохраняется в разных вариациях, в т.ч. с изощренными мифологическими контаминациями зооморфных тотемов.
Мифологизируется востребованная в шаманской традиции метаморфоза змеи: Нарин могой ильбим-най / Намтар баха унаамнай - «Тонкая змея - наше волшебство, / Низенькая лягушка – конь мой» [Ксенофонтов, Баторов, 1975]. В формульном выражении, представляющем родовое отличие, забывается реальная история и устойчиво сохраняется связь с развернутой мифологической семантикой образа змеи. В данном случае миф о тотемном первопредке совмещается с историческим фактом.
Мифологизация исторических личностей
В шаманской практике, если дух предка обозначен как известное историческое лицо, то под ним подразумевается образ мифологического воина, защитника, героя со сверхъестественными данными. Ярким примером контаминации реальных событий и мифологических составляющих обряда являются почитаемые духи эхи-ритского племени бурят, именуемые «черными всадниками» (Ажарай Бухэ и Харамсай Мэргэн). В архивных материалах С.П. Балдаева сохранились многочисленные варианты как реальной, так и мифологической биографии главных героев. Стоит обратить внимание на то, что мифологические версии представляются естественными в фольклорных нарративах, а варианты истории реальной жизни вызывают сомнение в их достоверности. Анализ имеющихся фольклорных и этнографических материалов доказывает, что Ажа-рай Бухэ и Харамсай Мэргэн действительно являлись предводителями эхиритских родов, участвовавшими в исторических событиях (междоусобные войны с монголами, сопротивление казакам) 1840–1870 гг. После трагической смерти оба были возведены в сонм грозных шаманских божеств (хотя они не были шаманами) и превращены в почитаемых мифологических духов. Буряты эхиритских родов поклонялись им как родовым предкам во время церемонии посвящения в шаманы, как воинам и защитникам при совершении обрядов по случаю всех событий, связанных с военными действиями. Этих духов почитали как хозяев р. Лены (место исторического проживания эхиритов), мифологизируя их богатство и мощь. Также существует легенда о «черных всадниках» как грозных стражниках, охраняющих вход в царство мертвых Эрлен-хана. По мере обрастания новыми мифологическими историями происходит перекодировка одних и тех же героев в разных ритуальных событиях. Ритуал как бы диктует новые мифы, и здесь уместно сослаться на мнение Э. Кассирера: «Миф – не система догматических верований: он состоит не только из образов и представлений, но в гораздо большей степени из действий. <...> Ритуал первичен по отношению к догме как в историческом, так и в психологическом смысле» [1998, c. 532].
Современные полевые исследования в Качуг-ском р-не Иркутской обл., где исторически проживали эхиритские роды и был наиболее развит культ «черных всадников», показывают, что обряды, посвященные грозным духам, проводятся только шаманами по необходимости. Особый интерес представляет записанный нами ритуал посвящения в шаманы (проведен заарин-шаманом Базаровым Борисом Дуг-дановичем, 1946 г.р., кузнечного рода галзут племени эхирит, г. Улан-Удэ. ПМА 2009 г.). Обязательным условием его проведения является приготовление особых деревьев и костров для связи с предками. Буряты эхиритского племени посвящают божествам четыре именных костра, из них большой предназначен для жертвенного барана. Каждый элемент обряда несет скрытую информацию. Для нашей темы показательно, что жертвенный баран накрывается черным шелком, который посвящается «черным всадникам» как родовым небожителям эхиритов. Чтобы понять смысл ритуала, необходимо расшифровать его семиотический аспект, сохранившийся в «коллективной памяти».
Итак, можно констатировать, что образ «черных всадников» с их полисемантической функцией формируется на стыке двух миров – реального (при жизни) и мифологического (после смерти). В данном случае мифы канонизируют героев, отодвигая историю реальных личностей. Последняя зачастую присутствует только фоном, а в некоторых случаях полностью сочиняется новый миф, в котором сохраняется схема образа грозного духа.
Миф и история в обрядах, посвященных сакральному пространству
В данном разделе рассматриваются обряды, связанные с конкретными топографическими реалиями. Сакральное пространство очерчивает владения духа-хозяина местности, которому посвящают сезонные обряды. Сакральные места требуют особого к ним отношения, соблюдения определенных правил. Чаще всего «хозяин» культового места – реальное историческое лицо, обычно первый из тех, кто обосновался в данной местности, а после смерти считался почитаемым духом. В монгольском мире сакрального статуса удостаиваются в основном незаурядные шаманы или шаманки. Современные полевые записи подтверждают, что сегодня периодические и окказиональные обряды проводятся систематически, легенды и предания о духе-хозяине активно бытуют и модифицируются. Для нашего исследования значимыми представляются обряды, связанные с культом гор.
В сакральном пространстве особо выделяются мифологические хозяева гор, не имеющие реальных прообразов. Возможно, они относятся к наиболее архаичным обрядам поклонения, только сильный род с древней шаманской историей может иметь покровителями высшие божества. В подобном обряде гендерный, окказиональный, временной, пространственный и цветовой коды соблюдаются в строгом соответствии с правилами действа.
В каждом поселении отдельный род имеет свою почитаемую гору или вершину. Например, род шошолок в Закаменском р-не Бурятии поклоняется горе Уран Душэ (Искусная Наковальня). По легенде, 99 или 33 кузнеца-небожителя спускаются на нее и занимаются кузнечным ремеслом, поскольку род шошолок поклоняется этим божествам. В небесном пантеоне они выделяются как наиболее мощные, связанные с железом и огнем покровители. «На обряд на горе Уран Душэ вызывались 55 западных тэнгэринов под предводительством Хан Хурмаста Тэнгэри, 44 восточные тэнгэрина под предводительством Атай Улан Тэнгэри, 13 северных хатов под предводительством Буха Нойона, 77 небесных кузнецов под предводительством Дамдин Дорлиг Сахюса-на, хранитель веры и покровитель воинов и военного дела Хиcан Улан Тэнгэри, духи и хозяева местностей. Каждый шаман-кузнец, участник обряда, вызывал своих родовых кузнечных духов – Онгон Тэнгэри» (информант Цыренов Семен Доржиевич, 1938 г.р., шошолок, пастух, с. Санага Закаменского р-на. ПМА 2012 г.). Как видно из приведенного примера, призываются не только небожители высшего звена из шаманского пантеона и, что примечательно, у кузнечных божеств предводителем является ламаизированный персонаж Дамдин Дор-лиг Сахюусан. В современных обрядах в связи с религиозными предпочтениями одновременно могут быть персонажи и собственно шаманские, и с модифицированными именами.
В полевых исследованиях по этнической Бурятии выявлено наибольшее количество хозяев гор, связанных с именами шаманов, которые проживали в данной местности и были наделены мифологическими функциями в статусе духов. Например, в Баргузинской долине почитают вершину Икатских хребтов Шинагал-жан. Буряты рода хонхо сэнгэлдэр здесь поклоняются женскому божеству, своему духу-покровителю, который, по поверьям, обитает в пещере, при необходимости выходит оттуда и общается с потомками. Происхождение духа подобно многочисленным биографиям из шаманских преданий: девушка заболела шаманской болезнью, отец отказался посвящать ее в шаманы, избил и закрыл с баранами; от голода она пила кровь барана, промучилась двадцать дней; когда мать принесла поесть, девушка вырвалась, убежала и повесилась в предгорье Шинагалжан. Буряты рода хонхо сэнгэл-дэр проводят обряд жертвоприношения ей как дочери Исгэя по имени Загалан (Исгэйн басаган Загалан гэжэ нэрэтэй), ежегодно приносят в жертву овцу. Считается, что гневного, безвинно обиженного духа необходимо умилостивлять. И если он не сердится, то как женский дух с материнской оберегающей функцией покровительствует и помогает своим потомкам. В призывание включается текст в трафаретной форме подношения и просьбы со следующим обращением:
Нарин Бургал сэлгеэтэй, Намтар Даахин гуйдэлтэй, Долоон нарhан сэргэтэй , Донгойн Маряан hуудалтай Иисгиин басаган Загалан .
С узкой [речкой] Бургал прохладой,
С местом бытия в низменном Дахин,
С семью соснами – коновязями,
С местом пребывания в Донгойн Маряан
Дочь Исги Загалан
[Шаманизм…, 2003].
Как и принято в традиции шаманских обрядов, здесь упоминаются древние места поклонения жителей Баргузинской долины – Даахин , Долоон нарhан , Донгойн Маряан . В живописной местности, окруженной горами, эвенки всей долины ежегодно проводили летний праздник болдир , во время которого исполняли круговой танец вокруг костра с припевом яhии , поэтому вся эта котловина называется Яссы (бур. Яhии ) . Примечательно, что эвенки отмечали свои места поклонения по названию деревьев: Долоон нарhан – «семь сосен», Хуhан бариса – «березовое место подношений», Шэнэhэн бариса – «лиственичное место подношений» (информант Санданов Михаил Будожа-пович, 1958 г.р., род хонхо cэнгэлдэр, с. Уржил Баргу-зинского р-на. ПМА 2009 г.).
Обряды, посвященные горам, сопровождаются мифологическими рассказами, усиливающими сакральную функцию гор и их хозяев как проводников между мирами. Возвышенность Донгойн Маряан знаменита тем, что на ее лысой вершине находится глубокая дыра в подземелье. Буряты называют это место Газарай үрхэ (досл. «дымоход земли»), т.е. место соединения двух миров, узкая пропасть для перехода в подземный мир. Дополняет мифологическую картину, связанную с особенностями горной местности, легенда о богатыре-охотнике: вслед за карликом он попал в подземный мир и увидел там маленьких людей, служащих Эрлен-хану (информант Бадмаев Шагдур Маланович, 1924 г.р., род буга шоно, художник, с. Ба-янгол Баргузинского р-на. ПМА 2009 г.).
Для сравнения рассмотрим легенды закаменских бурят о потустороннем мире Ягшад, куда могут проникать шаманы и люди с особым даром. Был большой шаман Ямпил подрода мосхоосха рода шошолок. Один раз он пропал на месяц и вернулся, привезя с собой шерсть животных пяти видов. Весь подрод разбогател, говорили, что их шаман посетил страну обетованную и вернулся облагодетельствованным. Существуют легенды, согласно которым именно между пятью великолепными горами, окружающими село, находится благословенная страна Ягшад (информант Будажа-пова Клавдия Гомбоевна, 1957 г.р., род cабар хонгоо-дор, учитель истории, с. Санага Закаменского р-на. ПМА 2012 г.). Считается, что из горной местности как страны обетованной и прообраза божественной земли Диважан можно попасть в потусторонний мир. После смерти шаманов наряду с реалистичными рассказами о их жизни появляются дополнительные мифологические, которые влияют на ход обрядовых действ. В зависимости от конкретных мифологических историй обряды проводят или старики, или шаманы. Ритуальные действа, посвященные духам-хозяевам, выполняют прагматическую функцию.
Также нами записаны обряды, в которых шаманские культовые места с изменением религиозных традиций получают буддийский статус сакральных объектов. Почитаемые духи-хозяева местности приобретают соответствующие имена, и обряды проводятся по канонам буддизма, хотя, как выясняется по ходу беседы, подспудно сохраняют свои шаманские корни. Поэтому бывают и такие случаи, когда обрядовые действа совершают и по шаманским, и по буддийским правилам.
В ходе полевых исследований выявлены факты сакрализации гор, связанные с изменением исторических реалий. Совместное проживание с русскими, их роль в жизни коренного населения обусловили возникновение культа новых духов-хозяев по требованию времени. В том же Закаменском р-не хозяином горы Баатар-хан считается русский казак, которому посвящают обряд поклонения перед службой в армии; во время войны проводили особые ритуалы почитания как хозяина-богатыря, защитника воинов. По записям, сделанным Г.-Д. Нацовым в начале XX в., «Багатур-хану преподносили тоолэй (голову) коровы, а сверху помещали рыбу. В предании говорится, что это божество имело облик человека с черным лицом и в русской одежде» [1995, c. 73]. Под черным лицом подразумевается бородатый казак, который охранял границу в этой местности. Показательно, что русский воин мифологизируется по шаманской традиции. Здесь включается прагматизм: именно такой дух-хозяин востребован для исполнения переходного обряда, связанного с проводами в армию. Стоит заметить, что в данном случае отсутствует развернутая мифологическая исто- рия покровителя, нет и определенного реального героя, есть лишь обобщенный образ.
Современные записи подчеркивают устойчивость основного кода, определяющего статус духа-хозяина. Стандартный ритуальный набор пищи дополняется рыбой: «Ему наряду с традиционными бурятскими блюдами, такими как саламат, пенки, хуруут, молоко, водку, обязательно преподносят такую местную рыбу, как ленок, полагая, что для русских лучшая пища – жареная рыба» (информант Будажапова Клавдия Гомбо-евна. ПМА 2012 г.). Примечательно, что смысл каждого подносимого определенному духу дара, приобретая «этносемиотический статус» [Байбурин, 2005, с. 31], коррелирует с предполагаемым реальным персонажем.
В обрядах, посвященных сакральному пространству, наблюдается реконструкция традиционной системы почитаемых персонажей в связи с религиозными и историческими изменениями в картине мира, хотя общая структура обрядового действа остается неизменной. Если в древних ритуалах предстает масштабная картина: 33 богатыря, сделав горн из 33 вершин гор, проводят кузнечные обряды, – то в более поздних основным персонажем выступает обыкновенный русский казак с реальными чертами лица, и ему поклоняются как военному человеку. Таким образом, приходим к выводу, что в современных обрядовых действах наблюдается явная демифологизация и дегиперболизация. В сущности, духи-хозяева местных гор как религиозно-мифологические персонажи, обладающие защитной силой, тесно связаны с историческими личностями.
Выводы
По итогам многочисленных экспедиций и архивным материалам приходим к выводу, что на композицию обрядовых действ оказывают влияние как мифологическая составляющая, так и исторические события. Меру реальности и подлинности герою задает исторический контекст, а стоящая за ним парадигма сакральных представлений определяет мифологическую составляющую. Результаты анализа композиции обрядовых действ показывают, что при смене призываемых мифологических героев схема обряда остается неизменной. Действительно, «стремление к единообразию и преемственности вырабатываемых культурой моделей нашло свое выражение в целом комплексе средств, обеспечивающих максимальную устойчивость этих моделей» [Байбурин, 2005, c. 12].
В итоге исследования определена модель мифологизации исторических фактов в наиболее устойчивых элементах обрядов. Мифологический статус персонажей обрядовых действ определяет прежде всего мотив перевоплощения в духа предка, духа-хозяина местности, а роль и функцию – исторические и мифоло- гические события. Сравнение современных полевых материалов с более ранними записями показывает как актуализацию архаической семантики некоторых устойчивых мотивов, так и смену автохтонной мифологической традиции новыми мифологизированными версиями, связанными с потоком исторической информации. В ходе исследования выявлены факты вытеснения мифологического содержания конкретноисторическим, и наоборот.
Статья подготовлена в рамках государственного задания, проект «Этнокультурная идентичность в архитектонике фольклорных и литературных текстов народов Байкальского региона».
Список литературы Мифологизация истории в шаманских обрядовых действах бурят
- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. - 2-е изд., испр. - М.: Языки славян. культуры, 2005. - 224 с.
- Клакхон К. Мифы и обряды: Общая теория // Обрядовая теория мифа. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург, гос. ун-та, 2003. - С. 157-176.
- Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. - Л.: Наука, 1987. - 227 с.
- Ксенофонтов Г.В., Баторов П.П. По шаманским верованиям бурят. 1975 г. // Якут. фил. СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 52а. Л. 105-108.
- Лангер С. Философия в новом ключе. - М.: Республика, 2000. - 286 с.
- Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. - М.: Вост. лит., 1997. - 216 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. - М.: Наука, 1983. - С. 227-284.
- Хангалов М.Н. Собр. соч.: в 3 т. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1959. - Т. 2. - 444 с.