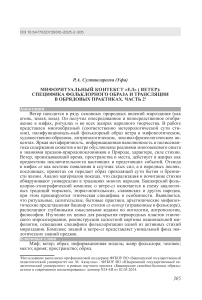Мифоритуальный контекст «Ел» (ветер): специфика фольклорного образа и трансляции в обрядовых практиках. Часть 2
Автор: Султангареева Р.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Ветер находится в ряду основных природных явлений мироздания (как огонь, земля, вода). Он получил опосредованное и непосредственное отображение в мифах, ритуалах и во всех жанрах народного творчества. В работе представлен многообразный (соответственно метеорологической сути стихии), полифункциональный фольклорный образ ветра в мифопоэтическом, художественно образном, антропологическом, лексико фразеологическом акцентах. Яркая метафоричность, информационная наполненность и полисемантика содержания сюжетов о ветре обусловлены реалиями многовекового опыта и знаниями предков природопоклонников о Природе, характере, силе стихии. Ветер, пронизывающий время, пространства и места, действует в жанрах как предвестник исключительности настоящих и предстоящих событий. Отсюда в мифах ел как вестник появления и спутник злых сил, а в народных песнях, пословицах, приметах он передает образ преходящей сути бытия и бренности жизни. Анализ материалов показал, что сакрализация и почитание стихии обнаруживают универсалии в традициях многих народов. Башкирский фольклорно этнографический комплекс о ветреел включается в схему аналогичных традиций тюркских, тюрко монгольских, славянских и других народов, при этом проецируются этническая специфика и особенности. Выявляется, что ритуальные, целительские, бытовые практики, архетипические мифопоэтические представления башкир о стихии елветер (отраженные в фольклоре), располагают глубинными смысловыми кодами по онтологии, антропологии, философии. Изучение их ценно для раскрытия первородных пластов этнического миросозерцания, реконструкции целостной картины национальной мифологии, освещения специфики фольклоризации одной из активных стихий мироздания. Комплекс знаний о ветреел представляет уникальный фонд экологических знаний предков.
Миф, ветер, образ, информационная модель, жанр фольклора, человек, место, время, пространство, обряд
Короткий адрес: https://sciup.org/149148622
IDR: 149148622 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-305
Текст научной статьи Мифоритуальный контекст «Ел» (ветер): специфика фольклорного образа и трансляции в обрядовых практиках. Часть 2
The wind holds a place among the primary natural phenomena of the universe (alongside fire, earth, and water). It has found both direct and indirect reflection in myths, rituals, and all genres of folk art. This study presents the multifaceted (in accordance with the meteorological essence of the element) and polyfunctional folkloric image of the wind, emphasizing its mythopoetic, artistic, anthropological, and lexico-phraseological aspects. The vivid metaphorical richness, informational depth, and polysemantic nature of wind-related narratives stem from the centuries-old empirical knowledge and wisdom of nature-worshipping ancestors about Nature, its character, and the power of the elements. The wind, permeating time, spaces, and places, functions in folklore genres as a harbinger of exceptional present and future events. Hence, in myths, yel (wind) appears as a messenger of supernatural forces and an attendant of malevolent entities, while in folk songs, proverbs, and omens, it conveys the transient nature of existence and the fragility of life. The analysis reveals that the sacralization and veneration of this element exhibit universal patterns across the traditions of many peoples. The Bashkir folkloric-ethnographic complex concerning yel (wind) aligns with analogous traditions among Turkic, Turko-Mongolic, Slavic, and other ethnic groups, while also projecting distinct ethnic specificities. It becomes evident that the ritualistic, healing, and everyday practices, as well as the archetypal mythopoetic representations of the Bashkirs regarding yel (wind) – as reflected in folklore – contain profound semantic codes related to ontology, anthropology, and philosophy. Studying these representations is valuable for uncovering primordial layers of ethnic worldview, reconstructing a holistic picture of national mythology, and elucidating the specifics of how one of the universe’s most dynamic elements is folklorized. The body of knowledge about yel (wind) constitutes a unique repository of ancestral ecological wisdom.
s
Myth; wind; image; information model; folklore genre; human; place; time; space; ritual.
Рождающая и хаос, и порядок природная стихия синхронизируется со всеми необычными явлениями, движениями сверхъестественных и огромных существ. Возникновение необъяснимо тревожных событий в фольклоре сопряжено с символикой сильного ветра или урагана. Могучая, напористо-неотступная стихия действует как предвестница нисхождения небесных и выхода мифических, сказочных водяных коней или появления драконов, многоголовых змей. Разбушевавшиеся стихии сопровождают небесного коня Акбузата (башкирский народный эпос «Урал-батыр»):
Мин сапҡанда ел ҡубыр Таш та ятып түҙә алмаҫ, Һыу тулҡыныр, ҡайнашыр, Һыуҙа балыҡ йөҙә алмаҫ, Күктә ҡоштар оса алмаҫ,
Когда поскачу я –
Камень не сможет лежать, Вода вскипит, взволнуется – В воде рыба не сможет плыть, Птицы на небе не смогут летать!
[Башҡорт халыҡ ижады 1998, 93]
Ветер – универсальный символ могущественности и вездесущности необычайных, чудесных коней: от поднятого конем Хаубана (главного героя башкирского эпоса «Акбузат») ветра падали вражеские воины, рушились скалы, ломались вековые деревья [Башкирский народный эпос 1977, 164–165]. Такой же силы ураганный ветер сопровождает коня вождя народного восстания 1739–1740 гг. Карасакала. Традиционное в фольклорном творчестве перенесение чудесных характеристик (в данном случае – мифических) на явления исторического времени свидетельствует об устойчивости культового почитания коня в этносознании народа.
Стремительность и невидимость, легкость, освежающий эффект ветра обусловили значение стихии как сакрально чистой сферы, что актируется в различных ритуалах. Вещи покойника в течение 40 дней сушили на ветру, не отжимая после стирки; впавших в глубокую депрессию или запятнавших себя нелицеприятными поступками людей выводили в открытое поле и оставляли там «для очищения». Смысловые и функциональные реалии башкирского обряда находим в изречениях “Далаға сыҡ – ҡайғың ел алһын, ҡара ташҡа ҡай-ғың һөйләп һыуға һал – ағын һыу алһын!” («Выйди в степь – пусть ветер горе унесет, черному камню расскажи печаль свою и в воду положи, пусть течение унесет»; записано автором в 1994 г. в с. Ибракаево Стерлибашевского района РБ). Так говорят, утешая горестного человека от тяжелой тоски и уныния. Непрерывность и поступательность движения стихии в этом случае способствует эмоциональному, психологическому обновлению индивида. Очистительный ритуал имеет параллели. В якутской сказке «Старуха Бейберикян с пятью коровами» главного героя по имени Бэргэн после сражений подвергают очищению в течение 30 дней в проточной воде. Затем говорящая лошадь велит: «Вынесите его проветривать на вершине дерева, в продолжение 30 дней пусть вольный воздух, идущий с севера и юга, проветрит насквозь сердце и печень!» [Захарова 2004, 228].
До недавнего прошлого у башкир бытовал обряд, когда по ходу ветра громко скандировали слова проклятий. Как вспоминают старожилы, обряд совершали в 1942–1943 гг. на вершине горы Сусактау (Альшеевский район РБ), обращаясь к небу и стоя лицом к западу в целях устрашения вражеских фашистских войск (записано автором в 2014 г. в дер. Старо-Сепяшево Альшеевского района РБ во время праздника летнего солнцестояния).
Архетипические реалии в мифологии ветра восходят к воззрениям о его “оплодотворяющем” значении. Непрерывные веяния, на фоне которых происходят опыление, цветение, далее медонос трав, цветов, обеспечили “оплодотворяющую” магию ветра, потому “его мужское начало” [Хисамитдинова 2011, 149]. Следы верований о силе «осеменения», «оплодотворения» запечатлелись во фразеологизмах, идиоматических присказках о ветре, до сих пор активных в народной речи “Елгә еленләп, көнгә ҡолонлап торма инде” (досл.: «Молока от ветра не набирай, от дня, солнца – не ожеребись уж...»). Выражение имеет ныне переносные значения «лить из пустого в порожнее» или осуждения кого-либо за легковерие, необдуманность действ. Рудименты мифа об “оплодотворяющей ”силе ветра проецируются в бытующих поныне предупреждениях девушек опасаться стоять долго лицом к теплому ветру.
Башкирский учёный, писатель и просветитель Абулкадир Инан (Сулейманов Фатхелкадир, 1889–1976, умер в г. Стамбуле) первым среди тюркских ученых исследовал шаманизм и опубликовал в 1954 г. книгу «Шаманизм в истории и сегодня» на турецком языке (на башкирский переведена Д.Ж. Валеевым и Р.А. Гилязетдиновым, издана в 1998 г. в г. Уфе). А. Инан приводит древнюю религиозную легенду о роли ветра в рождении первопредка тюрков. «Легенда о рождении первопредка – отца тюрков» была написана египетским историком Абубакир бей Айбек – Эд-Деуадари в книге «Великий хан-ата Битексе», которая в 211 году по хиджре переведена на персидский язык лекарем Жебриль Бахтишиу. По мифологической легенде, после сильного дождя мощные потоки красной глины и слякоти наполняются в скальные щели, напоминающие человеческую фигуру. Это изваяние находится несколько дней под палящим солнцем, испекается в пещере, подобной чреву женщины. Над этим сгустком из элементов воды, земной почвы и солнечного жара девять месяцев веет ветер, затем от единения четырех стихий – огня, земли, воды и ветра – образуется сущность наподобие человека, которому дают имя “Ау, атам” («О, Отец мой»), а через 40 лет в той пещере, когда Солнце стояло на знаке Сюмбюле (созвездие Девы) зарождается из сгустка женщина Ай-ва. У них рождается 40 детей [Инан 1998, 34–35]. В легенде прозрачен мотив веющего в течение девяти месяцев ветра в контексте его причастности к рождению человека. Верование о чадородности ветра запечатлено в английской мифологии. Кобыла становится задом к северному ветру по имени Бореас, отчего и ожеребилась [Сөләймәнов 2011, 53].
Универсальный мировоззренческий принцип очеловечивания стихий, объектов и сфер природы как стереотип моделирования мира, отражен в сказках, легендах, когда горы, воды, реки нарекаются именами Батыр («сильный, отважный человек, герой»). Например, Таубатыр (Гора-батыр), Урманбатыр (Лес-батыр) и др. В башкирской сказке «Етегэн батыр» один из друзей главного героя Елғыуар батыр – Ветергоняющий батыр был так легок как ветер и быстро бегал,что вначале сам себе на ноги привязывал тяжелые мельничные камни, чтобы умедлить скорость бега. Ветергоняющий батыр догоняет дьявола – старушку, избивает ее, помогает другу в тяжелых испытаниях и жениться на дочери царя огня [Башҡорт халыҡ ижады, 1978, 128–134]. Смысл и мораль сказки кроется в передаче преимущества силы ветра над нечистыми существами.
Наличие самостоятельных, собственных имен разных ветров, соответствующих различным фазам суток, климату, циклам года, включается в схему антропогенности мировосприятия и мифологического осознания явлений. Примечательно, что в памяти народа еще сохраняются названия, «личные» имена «хозяев ветров» и их характеристики. «У ветра есть свой ангел и зовут его Сорфори, а ангел Исрафил защищает человека от злых ветров» (записано автором в 2005 г. в деревне Истяково Янаульского района РБ от Нагимы Шабутдиновой 1931 г.р.). Информант дает еще ценные правила поведения и предписания: «Следует очень опасаться любого ветра. Стоять нужно всегда к нему боком, а не лицом –“Ҡаршы торма елгә, ҡырын тор”. Если боишься ветра, можно звать Исрафила на помощь».
Бында йөрөмә!
Тау-таш араһына кит! Ҡыу башҡа, ҡола яланға кит!
Не ходи здесь!
Уходи к горам и камням!
На череп сухой, в поле пустое уходи!
[Экспедиция материалдары 2022, I, 192].
В текстах явствует стремление пристыдить, унизить дух хозяина стихии:
Ҡара йыланды ҡамсы ит! Черную змею плетью сделай! Ҡарындашыңды бисә ит! Сестру женою сделай!
[Башҡорт халыҡ ижады 1995, 220].
Часто прибегают к магии числа, счету от множества к уменьшению («Уйди болезнь, уйди, говорю десять – от десяти уйди, говорю девять – от девяти уйди!») и т.д.
В целях ослабления вреда от приближающегося ғәрәсәт женщины старшего поколения проводили коллективные молитвословия. Простудные заболевания считали принесенными ветром, бурей и сжигая собачью шерсть, дымом окуривали недуг. Произносили заговоры, мальчика окуривали дымом шерсти сучки, а девочку – шерстью кобеля [Башкирское народное творчество 2010, 135–136]: «Если из земли – болезнь, пусть туда уйдет! Если от ветра – болезнь, пусть ветер унесет! Если от воды – болезнь пусть туда уйдет!» [Башкирское народное творчество 2010, 137]. Считается, что нечистая сила боится собаки. Более древние истоки этих действ связаны с генной памятью о тотемности животного.
Восприятие ветра и огня в паре (огонь усиливается от ветра) семантично отразилось в названии болезни елҡуҙ . Злостное одноглазое существо по имени Елҡуҙ “бродит во время вечернего заката ” ҡыҙыл эңер ” [Хадыева 2005, 81]. Имя духа болезни “ Елкуз ” этимологизируется как «быстрый, с горящими красными глазами дух болезни» (досл.: ел – ветер + ҡуҙ – красные, горящие угли).
В фольклорной памяти сохраняется народная сказка “ Ел, ел арбам!” («Неси, ветряная телега!»). Девушка ищет своих семерых родных братьев и обращается к своей телеге, ведомой по миру сильным ветром. Эти речитации устойчивы в памяти народа и традиционно исполняются напевно (записано в 2015 г. автором в Ишимбайском, в 2014 г. в Зианчуринском, в 2003 г. в Баймак-ском районах РБ).
Ел, ел арбам, ел арбам, Ете ағама ет,арбам!
Ете ағамды күрәйем, Күрә алмаһам – ни эшлэйем?
Неси, неси, ветряная телега, Семерым братьям донеси, телега моя Хочу увидеть братьев семерых, Коль не увижу – как мне быть?
Сказка, на наш взгляд, основана на космогоническом мифе о семи святых, широко распространенном в верованиях народов [Абашин, Бобровников 2003, 3–17; Almashev, Erlenbaeva 2009, 245–252; Басилов 1970]. Феномен культа семи святых имеет широкие ареалы, охватывая Среднюю Азию, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и т.д. Происхождение культа связано с преданиями об учениках пророка Мухаммада, которым было заповедано взять по верблюду и идти проповедовать ислам, основывать города. Там, где верблюд остановится, следовало основать город и остаться жить [Шевяков 1990, 133–134]. Семерым святым братьям на разных местах воздвигнуты мазары, они в киргизском культовом фольклоре называются сыновьями святого Арстан-баба и окружались глубоким почитанием [Абрамзон 1990, 304–305]. Почитание семи святых, как показали наши экспедиции, еще устойчиво в памяти гайнинских башкир, проживающих в Пермской области РФ. «У каждого из святых есть свои имена и по пятницам возносим молитвы во имя их духов. “ Ете ғәзизләр” (семь святых – Р.С. ) защищают наш мир, они все видят, у них нет могил, т.к. они ангелы» [Ғәйнә башҡорттары фольклоры 2012, 63–64].
В приведенной выше башкирской сказке “Ел, ел-арбам!” транслируется религиозный миф о ветре-помощнике, а мотив поисков семи братьев остается ядром сюжета и в других вариантах жанра. В модификации архаичного космогонического мифа о семи святых произошло слияние с бытовыми мотивами. Примечательно, что в современных сказываниях встречаются еще образы стеклянной телеги – “быяла арба” [Экспедиция материалдары 2022, I, 85].
В различных функциональных действах, ритуалах проявляется «материализация» ветра в его звуковом, действенном отображениях. Свист – особого назначения звук, сакрализованное обращение к антимиру или стихийным силам. Для вызывания благостного ветра производили громкий свист [Хисамит-динова 2012, 149], а в народном целительстве ( им, өшкөрөү ) применялся тын еле (дуновения, дыхания с легким присвистом), свист действует как форма ветра. В эпосе «Урал-батыр» сильный свист настораживает Урал-батыра, узнавшего в этом звуке змею, девятиголового Азраку [Башҡорт халыҡ ижады 1998, 57]. Свист змея был настолько сильный, что, казалось, горы упали:
Йылан шыжлап һыҙғырған, Змея так засвистела, Тау-таш ауғандай булған! Будто горы-камни упали!
[Башҡорт халыҡ ижады 1998, 59]
Поныне примечают, что сильные ветра – это предвестники тяжелых кровопролитий, смерти невинных жертв, и называют их “ҡан еле” («ветер кро- ви»). Женщины, встревоженные длительными сильными ветрами, посвящают аяты-молитвы во имя мира [Султангареева 2019, 183]. Изначально свист был функционален как принадлежность потусторонних сил и способ обращения к стихиям. В современности еще бытуют запреты “һыҙғырма – ен саҡырма” («не свисти – не зови джинна, нечистого» ) или “һыҙғырма – ел саҡырма” («не свисти – не зови ветер»). Ныне этот запрет переосмыслен и имеет потребительские оттенки: «не свисти – деньги улетят».
Визуализация ветра, а значит, создание его видимости, актируется в обрядовых действиях. Это завязывания разноцветных лоскутков на шесты, одинокие или выделяющиеся особой красотой священные ( изге, ыйыҡ ) деревья, острые скальные камни, ритуальные столбы ( баған ), традиционные в праздничной культуре почти всех народов. Яркие ленты, лоскуты на ветру воспринимались как живительные движения и принятие божествами посвятительных обрядов, пожеланий и приношений. Развевающиеся флажки, разноцветные кисти из шерсти (у башкир – суҡ ), веревки украшали кусты, деревья, высокие шесты на праздниках как башкир, так и «якут-саха, хакасов, тибетцев, монгол, индейцев и др.» [Федорова 2023, 430–435]. Традиции живы и в современных масштабных празднествах, когда «веревки, нити, столбы дыма, лестницы» представляются как порывы ветра [Федорова 2023, 362], сигналы прихода благостных вестей [Cултангареева 2019, 134–135]. Заявязывания кистей в современной обрядовой практике ныне потеряли сакральные значения, сохраняются как дань традициям. Это и модификации глубинной генной памяти о сакраль-ности ветра и его благотворном влиянии.
Ветер в мифологии сопутствует всем неординарным, чудесным явлениям и волшебству. Таков чудодейственный волшебный Таяк (Посох) в эпосе «Урал-батыр». Испуганные драконы доводят до своего царя весть о том, что «Таяк с жемчужинкой на верхушке может вызвать сильный, ураганный ветер» – (“ Ел-дауылдар ҡуптарған бер хикмәтле таяҡ бар” ) [Башҡорт халыҡ ижады 1998, 71]. Обладание посохом означало получение неизмеримо сильной власти над миром людей и природы. Брат Урал-батыра Шульген при помощи этой палки вызвал бури, ураганы и всемирный потоп. Ветер в эпосе, как отметили выше, маркер сверхъестественного и могущественного созидательного акта, который в силах вершить только демиурги. Однако проявление добрых или злостных начал ветра зависит от того, кто владеет Посохом. В эпическом замысле это – обретение прав на повелевание над всеми живыми существами и мирозданием. Вызывание ветра Посохом как способ активации новых жизнетворных сил равносильно творению нового мира.
В целом, народные знания и представления о ветре, все формы фолькло-ризаций, творческих модификаций, как мировоззренческие, культовые, так и словесно-поэтические, обрядовые, запечатлели ценную систему знаний, опыта по жизневедению, а также важную базу данных по осознанию специфики структуризации мира, жизни Природы и Космоса.
Заключение
Таким образом, могучая метеорологическая единица, яркое живое атмосферное явление ел -ветер сообразно своей сущности многогранно и многообразно отразилось в мифопоэтике, фольклоризации и ритуализации действительности, выразительно обобщив антропогенность мировосприятия, глубину символико-образного миросозерцания и культового почитания стихии у башкир – природопоклонников. Ветер в мировидении народа – активирующая
Воздух сила, он являет собой одну из главных живых энергий, составляющих мироздание, также это искони обожествленная сущность. Отсюда богатейшее многообразие онтологических, антропологических представлений, также этнопсихологического, этногенетического, этнографического и языкового плана знаний по концепту ел . Стихия в культурных текстах представлена как чадородная, очистительная, спасительная, болезнетворная, помогающая живая сила со своим хозяином-божеством, получила в народном творческом фонде раличные поэтико-образные проекции. Выделяются две главные формы культурных концептов и текстов, отражающих место, роль стихии ветра в этносознании, жизнедеятельности, генной памяти и образно-творческой трансляции. Это: 1) словесно-художественные (мифы, верования, сказки, суеверия, запреты, заговоры, песни, поговорки) и 2) прагматические (очистительные ритуалы, целительские акты).
Архетипические реалии ветра и специфика многомерного, многообразного отображения получили наиболее полную объективацию в мифологии, эпосе, легендах, также в жизненных практиках. Мифология ветра – бинарное мировосприятие, которое базируется на кодах, дающих систему понимания «свой» или «чужой», злой или добрый, полезный или вредоносный, созидающий или разрушающий. Отсюда исследование показало, что мифопоэтика ветра, художественные, символико-образные обобщения, онтологические представления являются ценностными источниками по постижению мира Природы и мира Человека, Космоса в их взаимосвязи и динамике развития. Ветер как активирующая Воздух реалия, фольклоризована и ритуализирована в многочисленных творческих решениях. В поэтико-художественном образе и акциональных проявлениях ветра фактически воплощена и представлена идея о живительном движении как дыхании не только микрокосма, а всей Вселенной.
В статье на примере образа ветра впервые сделана попытка создать систему народных взглядов, базовых понятийных концептов, представлений о мироздании и ее жизненных частях. Множество из этих представлений обнаруживают универсалии с традициями и фольклором других народов, при этом отражая развитие типологических и национально-специфических творческих откровений башкир.
Мифологизированная стихия маркирована как в масштабных понятийных образах (от первотворения человека, мифических драконов, водяных, небесных коней до праздничных предметных атрибутик), так и в реальных инструментах жизневедения (ритуалы очищения, целительские заговоры, календарные приметы, этикет и др.).
Достоверность исследовательских выводов основана на изучении опубликованных материалов и трудов отечественной и национальной науки. Однако большую часть источников для аргументирования концепций о полимерном значении образа ел-ветра составили полевые материалы, выявленные автором во время многолетних экспедиций и научных командировок. В башкироведении фольклорный образ ветра комплексно и системно, с охватом онтологии, антропологии, обрядоверия не был еще исследован. Именно на основе целенаправленного опроса, касающегося места стихии ветра в традициях, жизне-ведении и мировидении башкир, удалось выстроить наиболее полную систему экологических, мифологических, жизне-природоведческих концептов о ветре. Выявилось, что культ ветра, сакрализация стихии восходят к архаическим при-родопоклонческим реалиям и мифам. Устойчивость традиционных верований проявляется в том, что до сих пор в памяти и обрядовых практиках народа бытуют их осколочные формы. Комплексный фольклористический подход с привлечением материалов из других дисциплин предоставил наиболее объективные результаты, перспективные концепции и выводы, которые могут быть использованы в исследованиях по фольклору, лингвистике, этнографии, истории, антропологии, философии.
Исконно природопоклонческая антропогенетическая направленность мышления человека древности легла в основу его мифотворчества. Это определило глубоко содержательное, яркое и доказательное наследие художественно-поэтических образов, концепций национального мировидения, а также фонд функционально связанных обрядовых практик. В этой базе данных обобщены многовековой опыт и знания, ценностные и востребованные в современности, потому как человек XXI века еще использует народные знания как инструменты для противостояния выпадам времени и выживания в век масштабных трансформаций.