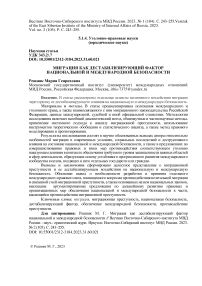Миграция как дестабилизирующий фактор национальной и международной безопасности
Автор: Решняк М.Г.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассмотрены отдельные аспекты негативного воздействия миграции через призму ее дестабилизирующего влияния на национальную и международную безопасность. Материалы и методы. В статье проанализированы положения международного и уголовного права, а также взаимосвязанного с ним миграционного законодательства Российской Федерации, данные международной, судебной и иной официальной статистики. Методология исследования включает всеобщий диалектический метод, общенаучные и частнонаучные методы, применение системного подхода к анализу миграционной преступности, использование инструментов теоретического обобщения и статистического анализа, а также метод правового моделирования и прогнозирования. Результаты исследования состоят в научно обоснованных выводах автора относительно особенностей миграции в современных условиях, социальных последствий и деструктивного влияния на состояние национальной и международной безопасности, а также в предложениях по совершенствованию правовых и иных мер противодействия соответствующим уголовно наказуемым деяниям в контексте обеспечения требуемого уровня защищенности важных областей и сфер деятельности, образующих основу устойчивого прогрессивного развития международного сообщества в целом, входящих в него отдельных государств и их граждан. Выводы и заключения сформировано целостное представление о миграционной преступности и ее дестабилизирующем воздействии на национальную и международную безопасность. Обоснован вывод о необходимости разработки и принятия отдельного международного правового акта, посвященного вопросам противодействия нелегальной миграции и связанной с ней миграционной преступности, а также основанных на нем национальных законов, высказаны аргументированные предложения по дальнейшему развитию правовых и организационных мер обеспечения национальной и международной безопасности в части, касающейся противодействии миграционной преступности.
Миграция, миграционная преступность, национальная безопасность, дестабилизирующий фактор, обеспечение международной безопасности, противодействие преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/143180721
IDR: 143180721 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.55001/2312-3184.2023.31.60.021
Текст научной статьи Миграция как дестабилизирующий фактор национальной и международной безопасности
С древнейших времен люди в большей или меньшей степени перемещались в пространстве, из одной местности в другую, из государства в государство, из одного географического региона в другой. Причины перемещения населения в разные исторические эпохи или конкретные исторические периоды были разными: в древние времена чаще всего люди заселяли новые земли и осваивали новые территории, развивая тем самым свои или создавая новые государства, или, в случаях войн, перемещения были добровольно-принудительными либо вынужденными. Но в любом случае как до нашей эры, так и в наше время, основная цель миграции, будь то региональная или международная – найти для жизни место, где человеку будет комфортно (удобно и безопасно) жить и развиваться.
В настоящее время миграционное движение продолжается, и, по мнению специалистов [1, с. 55], чью точку зрения на основе анализа текущих событий поддерживает автор, этот процесс будет лишь усиливаться. Естественное желание в период нестабильности выжить, покинуть зону военных конфликтов, «уйти» от социально-экономических проблем своего региона или своего государства, подталкивает людей переезжать с места на место, из государства в государство в поисках подходящих для них условий жизни. Однако нынешняя миграция в целом представляет собой беспрецедентное по масштабам явление, численность международных мигрантов, по данным ООН, составляет более 280 млн человек, из них 11 млн приходится на Российскую Федерацию1. При этом в России только за 2022 г. поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 16 870 094 чел. (за 2021 г. – 13 392 897)2.
В силу объективно и субъективно обусловленных причин мигранты, особенно нелегальные, не самая законопослушная часть населения. Выбирая цель своего движения, прибывая в различные государства, мигранты не особо задумываются о реальных возможностях, в первую очередь, экономических и социальных, своей потенциальной «новой родины», в связи с чем возникают конфликты между ожидаемым и действительностью, что нередко приводит к незаконопослушному поведению.
Проблемы, которые создают мигранты (как легальные, так и нелегальные) в государствах своего пребывания, в частности, существенное увеличение уровня преступности (к примеру, за 2022 г. в России иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 40,2 тыс. преступлений, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 32,9 тыс. преступлений (за 2021 год – 36,4/28,5 соответственно)3, заставляют государства задумываться о пересмотре миграционной политики в сторону ее ужесточения, чтобы хоть таким образом снизить поток прибывающих (в частности, Великобритания решила приравнять организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предложив увеличить срок наказания за данное преступление до пожизненного лишения свободы4).
Многие государства начинают осознавать, что значительное число мигрантов, в том числе незаконных, в определенной степени оказывает дестабилизирующее влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю безопасность как конкретного государства, так и мирового сообщества в целом [2, с. 250; 3, с. 85]. О реальности подобных опасений свидетельствуют события в августе 2020 г. в Республике Беларусь и в январе 2022 г. в Республике Казахстан, когда в организации и непосредственном осуществлении массовых беспорядков принимали активное участие граждане других стран. Движущим мотивом участия иностранных граждан в массовых беспорядках, внешне имеющих политическую направленность, нередко выступает корысть, удовлетворяемая посредством оплаты преступной деятельности данных лиц. Тот же интерес типичен и для участников международных террористических и экстремистских организаций, не всегда разделяющих цели и мотивы, присущие таким преступным объединениям в целом, либо не желающих рисковать своими жизнью и свободой исключительно «ради идеи». Основываясь на анализе этих и подобных событий, происходивших в разных странах, можно утверждать, что в настоящее время миграцию необходимо также рассматривать через призму угрозы национальной и международной безопасности.
Международная безопасность, понимаемая в узком смысле, представляет собой систему (совокупность) международных отношений, основанную на соблюдении всеми странами общепризнанных принципов и норм международного права, не допускающую решение споров и разногласий между ними с помощью силы либо угрозы5. Вместе с тем полагаем, что в настоящее время понятие международной безопасности целесообразно трактовать шире – рассматривать его через призму состояния защищенности наиболее важных интересов как международного сообщества в целом, так и входящих в него государств. В последнем случае речь идет о защищенности таких интересов, которые затрагивают не столько внутренние (национальные), сколько внешние дела отдельно взятых стран, связанные с их взаимодействием с другими государствами и с международным сообществом в целом. Следовательно, на международную безопасность могут посягать как деяния, совершаемые определенным государством (определенными государствами), нарушающие общепринятые нормы и принципы международного права, так и действия отдельных лиц и (или) их объединений, способные создать брешь в состоянии защищенности указанных интересов либо дестабилизировать это состояние, сформировать условия для более серьезных правонарушений в данной области. Именно к последней группе посягательств мы относим миграционную преступность, которую также можно определять исходя из узкого или широкого смысла соответствующего понятия.
В узком смысле слова миграционная преступность определяется как вся совокупность преступлений, которые связаны с территориальным перемещением лиц, осуществляющих миграцию, причем в качестве их субъекта может выступать как сам мигрант, так и лицо, способствующее его перемещению и совершающее иные действия сопряженные с таким перемещением, в том числе выполняемые во время последнего и являющиеся причиной наступления уголовно правовых последствий [4, с. 74]. Представляется, что в данном определении отсутствует важное указание на нелегальный характер миграционных действий, включая территориальное перемещение мигрантов, кроме того, в нем не учтено, что соответствующие посягательства могут заключаться в незаконном пребывании мигрантов на территории государства и в организации такового, при этом составы рассматриваемых преступлений сконструированы как формальные, не включающие какие-либо общественно опасные (уголовно-правовые) последствия.
Широкая трактовка понятия миграционной преступности основана на общем определении преступности, с учетом которого говорится об относительно массовом, исторически изменчивом, перманентном, социальном и уголовно-правовом явлении, представляющем собой целостную совокупность всех преступлений, которые совершены в течение определенного периода времени лицами, изменившими свое правовое положение вследствие или после территориального перемещения либо внесения изменений в нормативный правовой акт, регулировавший их предыдущее правовое положение [4, с. 74]. Несмотря на включение в это определение устоявшихся общих признаков преступности, тем не менее считаем, что его нельзя признать более полным (широким), поскольку в нем отражена только одна сторона исследуемого явления, заключающаяся в преступлениях, совершаемых мигрантами, тогда как общественно опасные действия, связанные с перемещением и пребыванием нелегальных мигрантов, в том числе осуществляемые иными лицами, указанные в первом определении миграционной преступности, необоснованно оставлены без внимания.
С учетом изложенного полагаем, что каждое из данных определений раскрывает понятие миграционной преступности в узком смысле, тогда как в широком смысле слова в его объем следует включать, с одной стороны, преступления, связанные с незаконным территориальным перемещением и (или) пребыванием мигрантов, а с другой, – преступления, совершенные мигрантами или в соучастии с ними.
Настоящее исследование проведено именно на основе таких, более широких определений международной безопасности и миграционной преступности с учетом ее дестабилизирующего влияния на международную безопасность.
Особенности миграционной преступности преимущественно обусловлены ее неразрывной связью с миграционными процессами и их основными участниками – мигрантами. Перемещение людей из одного государства в другое, а равно пребывание на территории последнего могут иметь различные цели, могут являться добровольными или вынужденными, осуществляться в рамках международного и национального законодательства либо с их нарушением. И если одни лица перемещаются для воссоединения с семьей, в поисках места работы или возможности получить образование, какие-либо социальные, экономические или иные блага, которые отсутствуют или недостаточны на их родине, то другие вынуждены бежать от военных конфликтов, террористических действий, несправедливого социально-экономического положения, нарушений прав и свобод человека. Причинами вынужденного перемещения людей в последние годы также выступают факторы экологического характера, в том числе стихийные бедствия, последствия изменения климата 6 . Особую категорию мигрантов составляют лица, изначально направляющиеся в другие страны и (или) находящиеся на их территории с намерением совершать преступления или иные правонарушения, в том числе в составе различного рода организованных объединений [5, с. 3–5].
Ранее уже обращено внимание на тот факт, что в настоящий исторический период миграция достигла беспрецедентной величины. По данным ООН в миграционных процессах (по состоянию на январь 2021 г.) задействованы более 280 млн. человек, тогда как в 2017 г. этот показатель был значительно меньше и составлял около 258 млн человек, а в 2000 г. – около
173 млн человек (т. е. за 20 лет число мигрантов увеличилось более, чем на 100 млн человек). Между тем доля международных мигрантов в общем количестве населения Земли в последние десятилетия меняется не столь значительно: в 1980 г. – 2,3 %, в 2000 г. – 2,8 % и в 2017 г. – 3,4 %. В общем количестве международных мигрантов наибольшую долю составляют лица, прибывшие в другие государства для осуществления трудовой деятельности (164 млн лиц – 60,29 %), при этом около 31 % всех мигрантов направлялись в страны Азии, 30% – в государства Евросоюза, 26 % – в страны Северной и Южной Америки7.
Согласно статистическим данным МВД России за 2022 год на миграционный учет поставлено иностранных граждан и лиц без гражданства 16 870 094 чел., тогда как за аналогичный период 2021 года количество поставленных на миграционный учет было существенно меньше -13 392 8978, т.е. за год прирост поставленных на миграционных учет составил 3477197 (почти четверть от АППГ). При этом наиболее интенсивные миграционные процессы, особенно в части въезда и пребывания на территории России, закономерно связаны с другими государствами-участниками СНГ.
Как мы уже отметили, миграционные процессы могут протекать не только в легальном, но и в нелегальном виде, при этом часть соответствующих незаконных действий характеризуется уголовной противоправностью. Здесь речь идет о первой группе миграционных преступлений, связанных с незаконными территориальными перемещениям и (или) пребыванием мигрантов, к которым относятся: незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322); организация незаконной миграции (ст. 322.1); фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в России (ст. 322.2); фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ (ст. 322.3).
Анализ статистических данных9 позволяет обратить внимание на отрицательную динамику числа осужденных за соответствующие миграционные преступления, наметившуюся в 2018 г. и ставшую наиболее очевидной в 2020 г. Полагаем, что одной из основных причин снижения данного показателя стала пандемия COVID-19, а именно – введенные в связи с ней ограничительные меры, включая запреты и дополнительные требования относительно международного территориального перемещения. Кроме того, на наш взгляд, свою роль в упорядочении практики применения указанных выше уголовноправовых норм и, как следствие, в уменьшении числа осужденных за миграционные преступления, сыграли разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по соответствующим вопросам 10 , особенно по квалификации продолжаемой преступной деятельности и возможности признания отдельных нарушений законодательства в исследуемой области малозначительными деяниями, не влекущими уголовную ответственность [6, с. 73–81].
Между тем несмотря на немалое число научных трудов, посвященных разностороннему рассмотрению проблем незаконной миграции [5–9; 10–13; 14; 15–18 и др.], а также исследований, рассматривающих миграцию через призму угрозы национальной безопасности [19–21; 2; 3; 16 и др.], сохраняет свою актуальность дальнейшее совершенствование уголовного и взаимосвязанного с ним законодательства, регулирующего территориальное перемещение и пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе в направлении формирования четких критериев для отграничения указанных миграционных преступлений от сходных административных правонарушений, а также уточнения объективных и субъективных признаков соответствующих уголовно наказуемых деяний, в том числе с учетом положений международного права, посвященных противодействию организации нелегальной миграции11.
Представляется, что одним из перспективных подходов к дифференциации юридической ответственности за миграционные нарушения является введение в рассматриваемые статьи гл. 32 УК РФ криминообразующего признака в виде административной преюдиции, что одновременно будет выполнять превентивную функцию и исключать излишнюю уголовно-правовую репрессию [9, с. 8–12; 11, с. 25–27; 18, с. 344–345]. Особенности данных преступлений, в частности, состоят преимущественно во второстепенной роли мигрантов в процессе их осуществления. Исключение составляет лишь незаконное пересечение Государственной границы РФ, непосредственно совершаемое иностранным гражданином или лицом без гражданства, нелегально въезжающими на территорию России, следующими через нее либо выезжающими за ее пределы. В других же преступлениях незаконные действия осуществляют иные лица, например, собственники жилых помещений, подавшие в органы внутренних дел документы для фиктивной регистрации (постановки на учет) иностранного гражданина (лица без гражданства) по месту жительства (месту пребывания).
Полагаем необходимым отметить, что преступления, предусмотренные статьями 322-322.3 УК РФ, сами по себе еще не нарушают национальную или международную безопасность, однако создают условия для такого нарушения, поскольку являются неотъемлемой частью незаконных миграционных процессов, затрагивающих территорию России и, в ряде случаев, еще и территорию сопредельных государств. В результате таких процессов в соответствующих странах могут оказаться лица, имеющие различные преступные намерения, в том числе прошедшие соответствующую криминальную подготовку, например, по организации массовых беспорядков, вооруженных мятежей и/или руководству их осуществлением.
Вторую группу преступлений, входящих в структуру миграционной преступности, образуют уголовно наказуемые деяния, непосредственно совершаемые мигрантами и не связанные с их незаконным международным территориальным перемещением и (или) нахождением на территории другого государства.
Безусловно, для подготовки и совершения многих транснациональных преступлений в настоящее время вовсе не обязательно оказываться в непосредственной близости от объекта посягательства. Сегодня полное или частичное осуществление объективной стороны множества преступлений стало возможным в удаленном доступе посредством использования сети Интернет или иных информационно-телекоммуникационных сетей. Между тем отдельные виды преступлений для своего полного осуществления требуют оказания именно прямого физического воздействия на те или иные предметы либо потерпевших, например, при совершении взрыва, поджога или иных общественно опасных действий, образующих террористический акт.
В структуре всех расследованных преступлений удельный вес уголовно наказуемых деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, не столь значителен и составляет 3,5%, а удельный вес преступлений, совершенных гражданами государств-участников СНГ, – 2,8 % 12. Однако, полагаем необходимым обратить внимание на тот факт, что даже отдельно взятое преступление данной группы может вызвать значительный общественный резонанс, послужить отправной точкой для цепной «вирусной» реакции, проявляющейся, в частности, в распространении экстремистской идеологии, в противоправных действиях, основанных на национальной, религиозной либо иной социальной ненависти или вражды.
Отметим, что применительно ко второй структурной группе миграционных преступлений в российском уголовном законодательстве отсутствуют специальные признаки их субъекта, связанные с гражданством виновных лиц. В связи с этим невозможно составить даже примерный перечень соответствующих уголовно наказуемых деяний. Практика свидетельствует о том, что это могут быть самые различные преступления – от причинения вреда здоровью и хищений чужого имущества до убийств, незаконного оборота наркотиков и появлений терроризма.
Миграционные преступления первой и второй групп неразрывно связаны с транснациональной преступностью, но не поглощаются ее понятием, поскольку в своем осуществлении не всегда затрагивают территорию двух или более государств. Вместе с тем нелегальные миграционные процессы являются типичным спутником транснациональной преступности, в том числе источником пополнения различного рода организованных транснациональных объединений, например, международных террористических организаций.
При характеристике миграционной преступности также следует учитывать, что граждане России принимают в ней участие не только в части организации или иного способствования нарушениям миграционных и иных правил со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, но и сами нарушают такие правила, в том числе при выезде из России, а также становятся участниками криминальных объединений и совершаемых ими преступлений, находящихся (осуществляемых) на территории других стран, например, в Афганистане, Сирии, Украине. Тем самым граждане России, будучи мигрантами за пределами своей страны, пополняют объем миграционной преступности, рассматриваемой в международных масштабах.
Таким образом, можно утверждать, что миграционная преступность представляет собой исторически изменчивое, сложное, комплексное негативное социально-правовое явление, включающее совокупность преступлений, связанных с нелегальным территориальным перемещением и пребыванием мигрантов, а равно с совершением последними различных преступлений во время нахождения на территории другого государства.
Глобальное значение миграционных процессов, необходимость их регулирования и предупреждения нелегальной миграции подчеркивается на международном и национальном уровнях. Так, на уровне ООН был положительно отмечен вклад миграционных процессов в устойчивое развитие, и провозглашена цель в виде содействия упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе посредством осуществления спланированной и хорошо продуманной миграционной политики13. Правда, возникает вопрос – в свете происходящих событий, связанных с СВО, проявивших определенную неустойчивость принципов международного права, провозглашенных ООН, каким образом Организация Объединенных Наций предполагает реализовать продекларированные благие намерения, учитывая зависимость своих решений от мнения определенной группы стран, имеющих иное представление об этом «преобразовании»?
Поскольку миграция имеет глобальный характер, ее упорядочение предполагает применение глобальных подходов и принятие глобальных решений. В сентябре 2016 г. Генеральная Ассамблея ООН провела заседание, на котором Генеральный секретарь ООН обратил особое внимание на необходимость решения проблем территориального перемещения больших групп мигрантов и беженцев. На этом же заседании единогласно был одобрен итоговый документ – Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах14, выражающая общую политическую волю и направленная на обеспечение безопасной, регулируемой миграции, распределение ответственности за такое обеспечение на глобальном уровне [7, с. 21–22].
Россия не отстает от ООН в части принятия нормативных правовых документов, направленных на решение проблем, связанных с миграцией. В российской Стратегии национальной безопасности 15 в число задач, которые следует решить для обеспечения защищенности жизненно важных интересов государства и общества, включены противодействие нелегальной миграции, наращивание контроля за имеющимися потоками мигрантов, их социальная и культурная адаптация и интеграция, а также развитие международного сотрудничества в данной области.
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы 16 провозгласила политическую цель, состоящую в формировании миграционной ситуации, отвечающей интересам России, в ней также отмечена важность непрерывного развития механизмов и средств предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства.
В Концепции внешней политики Российской Федерации17 проблема нелегальной миграции и необходимость повышения эффективности противодействия таковой поставлены в один ряд с проблемой предупреждения транснациональной преступности, включая терроризм, незаконный оборот различных видов оружия, наркотических средств и психотропных веществ, торговлю людьми, коррупцию, морское пиратство и киберпреступность. Одновременно подчеркивается важность консолидации усилий международного сообщества для подготовки и реализации адекватных комплексных ответных мер, координируемых ООН. При этом особое внимание уделяется наращиванию сотрудничества с государствами-участниками СНГ в области противодействия общим вызовам и угрозам, в том числе незаконной миграции.
Таким образом, в условиях глобализации миграционных процессов, которые имеют следствием, среди прочих, увеличение количества совершаемых преступлений, в целях обеспечения национальной безопасности отдельных государств и мирового сообщества в целом вопросы миграционной преступности, а также миграционной уголовно-правовой политики должны быть стратегическим направлением не только в контексте научных изысканий, но и приоритетом внутренней (на уровне отдельных государств) и внешней политики (на международном уровне).
Полагаем, что в настоящее время назрела необходимость разработки и принятия международного правового акта, непосредственно посвященного вопросам противодействия нелегальной миграции и связанной с ней миграционной преступности, а также основанных на нем национальных законов, регламентирующих правовые, организационные и иные меры предупреждения такой преступности.
Список литературы Миграция как дестабилизирующий фактор национальной и международной безопасности
- Маталаева, Ф. Э. Политологический подход к анализу международной миграции / Ф. Э. Маталаева // Обозреватель. 2017. № 5(328). С. 55–68.
- Кудратов, Н. А. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности Республики Таджикистан / Н. А. Кудратов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. 2019. № 3(28). С. 248–251.
- Мамырбаева, З. А. Внешняя миграция как угроза национальной безопасности государств / З. А. Мамырбаева // Вестник Кыргызстана. 2018. № 2. С. 84–87.
- Слотвинская, Н. Д. Миграционная преступность в системе современной преступности и правовые аспекты борьбы с ней. 2018. Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. № 11. С. 69–76.
- Хабриева, Т. Я. Миграционное право: сравнительно-правовое исследование: монография. М.: ИЗиСП, Юриспруденция. 2019. 400 с.
- Борисов, С. В. Нарушение границы и незаконная миграция: позиции Пленума ВС РФ / С. В. Борисов // Уголовный процесс. 2020. № 10(190). С. 73–81.
- Аванесова, А. А. Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах и перспективы принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции / А. А. Аванесова // Миграционное право. 2017. № 2. С. 21–22.
- Антонов-Романовский Г. В. Преступность мигрантов-иностранцев в Российской Федерации: современные тенденции / Г. В. Антонов-Романовский, П. П. Сальников, Д. К. Чирков. // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 3. С. 128–138.
- Борисов, С. В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконной миграцией: проблемы законодательства и правоприменения / С. В. Борисов, Р. Б. Осокин, Ю. В. Трунцевский // Международный журнал конституционного и государственного права. – 2021. № 2. С. 8–12.
- Иншаков, С. М. Стратегемы миграционной безопасности / С. М. Иншаков. - EDN VBICOS // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 2 (49). С. 24–27.
- Каменева, А. Н. Актуальные проблемы квалификации и направления противодействия преступлениям, совершаемым в сфере миграции // Миграционное право. 2021. № 1. С. 25–27. DOI 10.18572/2071-1182-2021-1-25-27.
- Коняхин, В. П. Международный опыт криминализации незаконной миграции и пределы (объем) его имплементации в Уголовном кодексе РФ / В. П. Коняхин, А. К. Князькина, М. Т. Гигинейшвили // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 2. С. 71–77. DOI 10.31085/2310-8681-2020-2-208-71-77.
- Краснова, К. А. Роль миграционного законодательства в укреплении государственного суверенитета и обеспечении общественной безопасности Российской Федерации / К. А. Краснова, Э. Т. Сибагатуллина // Миграционное право. 2011. № 3. С. 6–9.
- Лопашенко, Н. А. О шкале рисков криминогенности миграционных процессов / Н. А. Лопашенко // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 16–18.
- Репецкая, А. Л. Миграция и региональная преступность: характеристика и проблемы борьбы (по материалам одного криминологического исследования) // Криминалистический журнал Байкальского университета экономики и права. 2007. № 1-2. С. 48–53.
- Репецкая, А. Л. Трансграничная безопасность стран Северо-Восточной Азии и организованная преступность // Трансграничная безопасность и государство в современном мире: материалы международной научно-практической конференции, Улан-Удэ, 24–26 июня 2016 года. Том 1. Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2016. С. 122–126.
- Решняк, М. Г. Противодействие организации незаконной миграции в Российской Федерации: новый вектор развития уголовного законодательства / М. Г. Решняк, С. В. Борисов, В. И. Гладких // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 474. С. 263–271. DOI 10.17223/15617793/474/29.
- Тараненко, В. В. Современные проблемы установления и реализации уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконной миграцией / В. В. Тараненко, С. С. Харитонов, М. Г. Решняк, С.В. Борисов. // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15, № 3. С. 341–351. DOI 10.17150/2500-4255.2021.15(3).341-351.
- Герасимова, О. А. Незаконная миграция как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации // 2016. № 1(7). С. 59-62. – EDN VSDUCF.
- Гринько, С. Д. Незаконная миграция, как посягательство на суверенитет и безопасность государства // Актуальные проблемы государства и права. – 2021. – Т. 5, № 18. – С. 341-352. – DOI 10.20310/2587-9340-2021-5-18-341-352. – EDN PSIDMN.
- Жубрин, Р. В. Проблемы противодействия незаконной миграции как угрозе национальной безопасности / Р. В. Жубрин, Т. В. Ашиткова // . –2022. – № 6 (92). – С. 5-11. – EDN EAPAUF.