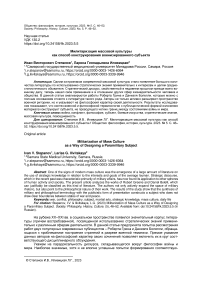Милитаризация массовой культуры как способ конструирования военизированного субъекта
Автор: Степанов Иван Викторович, Иливицкая Лариса Геннадьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Одним из признаков современной массовой культуры стало появление большого количества литературы по использованию стратегических знаний применительно к интересам и целям среднестатистического обывателя. Стратегический дискурс, свойственный в недавнем прошлом прежде всего военному делу, теперь нашел свое применение и в отношении других сфер жизнедеятельности человека и общества. В данной статье анализируются работы Роберта Грина и Даниэля Болелли, которые можно с полным основанием отнести к литературе такого рода. Авторы не только активно расширяют пространство военной риторики, но и указывают на философский характер своей деятельности. Результаты исследования показывают, что синтез военной и философской терминологии с публицистической формой изложения материала конструирует субъекта, не проводящего четких границ между состояниями войны и мира.
Война, конфликт, философия, субъект, боевые искусства, стратегические знания, массовая культура, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/149142734
IDR: 149142734 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.5.5
Текст научной статьи Милитаризация массовой культуры как способ конструирования военизированного субъекта
На рубеже XX–XXI вв. в социальном пространстве появился значительный корпус литературы (причем востребованной), посвященной использованию стратегических знаний применительно к различным сферам деятельности. В данной статье предпринята попытка рассмотрения работ двух популярных современных публицистов – Роберта Грина и Даниэля Болелли, обращающихся к проблематике построения стратегий в разрезе военной тематики. Прямое указание данных авторов на философский характер своих сочинений позволяет включить их в круг соответствующего дисциплинарного обсуждения.
Укажем на парадоксальность дискурса, складывающегося вокруг философии войны и мира. Наиболее значимые, хотя и не вполне успешные попытки формирования соответствую-
щего дисциплинарного раздела в XIX–XX вв. предпринимались не профессиональными философами, а военными теоретиками (К. фон Клаузевиц, А. Снесарев, М. ван Кревельд). В начале XXI в. распространение получила языковая игра, обращенная к массовому потребителю, воспринимающему философию войны как форму практически ориентированного и легко усваиваемого знания о разных видах конкуренции. Мы рассматриваем ее в качестве объекта исследования, а не его теоретико-методологического основания и, к сожалению, по сей день в полной мере не сформировавшегося раздела философии. Конкретизируя цель данной статьи, укажем, что творчество Грина и Боллели будет анализироваться с позиции выявления концептуальных свойств субъекта, конструируемого посредством синтеза военной и философской терминологии с публицистической формой изложения материала.
Американский журналист Роберт Грин – автор популярно-психологической литературы о механизмах функционирования власти – не является профессиональным военным теоретиком. Однако его работы «48 законов власти и обольщения» (2006а) и «33 стратегии войны» (2007) входят в число бестселлеров. Если в первой книге во главу угла ставится политика, правила которой затем распространяются на другие области общественной жизнедеятельности (в том числе военные действия и межличностные конфликты), то в центре внимания второй книги находятся проблемы, которые традиционно считаются прерогативой военных.
В своих работах Грин указывает на отсутствие принципиальных различий между конфликтами любого уровня и войной: «Война – это не отдельное ведомство, изолированное от общества, это сугубо человеческая сфера деятельности, состояние, в высшей степени знакомое каждому из нас, проявляющее как самые лучшие, так и самые худшие черты нашей натуры. К тому же война отражает умонастроения человеческого общества. Эволюция в сторону нешаблонных, скорее нетрадиционных, но вместе с тем куда более грязных стратегий – партизанской войны, терроризма, – отражает аналогичную эволюцию в обществе, где допустимо и приемлемо практически все» (Грин, 2006а: 20–21).
С точки зрения Грина, современное общество может быть охарактеризовано как находящееся в состоянии повышенной конфликтности, которая обусловлена растущей межличностной конкуренцией. Причем идеалы демократии в данном случае призваны выполнять функцию, обеспечивающую прикрытие агрессии (Грин, 2006а: 17). В сложившихся обстоятельствах любой индивид должен стремиться овладеть стратегическими навыками, позволяющими ему эффективно действовать в условиях конфликта: «В человеческом обществе всегда найдется кто-то более агрессивный, чем мы с вами, кто отыщет способ добиться своего, заполучить желаемое не мытьем, так катаньем» (Грин, 2006а: 21).
Основаниями для разработки такой стратегии, по мнению Грина, являются шесть «аксиом»:
-
1. Несмотря на то, что эмоциональный аспект превалирует в человеке над рациональным, со стратегической точки зрения необходимо рассматривать повышенную эмоциональность как болезнь.
-
2. Действие всегда важнее абстрактного теоретизирования.
-
3. Стратегия строится на умственном, а не на физическом превосходстве.
-
4. «Непрямые действия», символом которых Грин считает Афину, как правило, эффективнее «прямых», олицетворяемых Аресом. Поскольку победа всегда имеет временный характер и является прелюдией к будущему конфликту, постольку цена ее определяется в первую очередь количеством потерь.
-
5. Стратегия как умение планировать и проводить операции в целом имеет превосходство над тактикой. Логика последней ограничивается рамками непосредственного столкновения с противником, то есть боя: «Большинство из нас в обыденной жизни тактики, а не стратеги. Попадая в конфликтные ситуации, мы настолько увязаем в них, что способны думать лишь о том, как бы не проиграть в сражении» (Грин, 2006а: 25).
-
6. Любая война должна получить символическое измерение, при этом не теряя своего многофункционального характера.
Данные «аксиомы» позволяют Грину выделить тридцать три стратегии, которые условно делятся на пять групп: война с самим собой, война организованная, оборонительные действия, наступательные действия, нетрадиционная («грязная») война. Последняя представляет особый интерес с точки зрения современности. При его описании Грин ссылается на опыт ведения террористических операций. Его вывод однозначен: «Оборотная сторона терроризма – прямая, симметричная война, возвращение к самым основам военного дела, к честным и открытым сражениям по правилам, простому противопоставлению силы силе – к сожалению, следует признать, что для современного мира такие стратегии архаичны и бесполезны» (Грин, 2006а: 664). Характеризуя «непротивление», Грин не отрицает, что оно может быть весьма значимым оружием. Однако в рамках его подхода непротивление выступает как один из способов военных действий: «Для того чтобы провести в жизнь какой-либо – любой! – принцип, даже принцип мира и пацифизма, вы должны проявить готовность сразиться за него, идти в бой, чтобы достичь своей цели» (Грин, 2006а: 22).
Предложенная Грином схема функционирует на грани системности и хаоса, свидетельством чего является тот факт, что даже в рамках одной группы отдельные стратегии могут противоречить друг другу. Однако ошибочно было бы считать, что это связано с плохой проработанностью схемы. Такой подход – сознательная позиция автора. Она обусловлена убеждением Грина в том, что стратегии применяются ситуативно, а вот аксиомы при этом остаются неизменными. Сама возможность рассуждений в ситуации «системной бессистемности» достигается двумя взаимосвязанными способами.
Первый связан с достаточно эклектичным использованием иллюстративного материала. С одной стороны, Грин для обоснования своих положений прибегает к примерам из области войн, совмещая восточные (Сунь-цзы, Миямото Мусаси) и западные (Карл фон Клаузевиц, Бэзил Лид-дел Гарт) традиции их ведения. С другой – он активно использует примеры из области искусства (Альфред Хичкок), политики (Франклин Рузвельт, Маргарет Тэтчер), спорта (Мохаммед Али), философии (Фридрих Ницше).
Второй способ обусловлен организацией самого текста. Обращаясь к постмодернистскому подходу, Грин заимствует у него ряд приемов. В частности, он совмещает на одной странице несколько текстовых пластов (чаще всего два, но иногда три или четыре). Каждая глава завершается тем или иным символическим образом, в котором сфокусированы основные черты предложенной им концепции (отсылка к восточной традиции). В то же самое время Грин акцентирует внимание на оборотной стороне данной стратегии, тем самым указывая на ее ограниченность (западная традиция). Связующим звеном между этими двумя элементами текста выступает авторитетное мнение того или иного известного философа, военного теоретика, политика. Сам Грин характеризует свой текст следующим образом: «В любом случае перед вами не доктрина и не формулы для зазубривания наизусть, а нечто иное: подспорье для того, чтобы сориентироваться в бою; семена, которые, укоренившись, научат думать о себе, помогут родиться вашему внутреннему стратегу» (Грин, 2006а: 27).
Еще одним из широко распространившихся явлений новейшего времени в области применения военной терминологии к различным сферам жизнедеятельности стало появление «философии боевых искусств». Последние здесь играют роль своеобразного посредника между войной и повседневностью. В качестве примера проанализируем труд итальянца Даниэля Болелли «На пути воина. Философия и мифология боевых искусств» (Болелли, 2011).
Автор не скрывает циничного и презрительного отношения к стилю, присущему академической философии: «К сожалению, академический мир считает, что если что-то временами написано легко, а не на невнятном жаргоне, понятном только четырем пыльным ученым, разбросанным по всему миру, и имеет какое-то серьезное отношение к реальной жизни, то такая работа не является серьезной» (Болелли, 2011: 10).
Болелли подходит к основной философской проблеме с экзистенциалистских позиций. Главной целью любого культурного жеста остается победа над страхом. Страх для Болелли предстает как набор эмоционально наиболее острых, негативно воспринимаемых личностью, но все же преходящих ситуаций, а также как страх смерти вообще. Он препятствует проявлению форм «подлинного бытия», то есть возможности творческого поиска путем осуществления свободного выбора и принятия ответственности за него: «Другими словами, страх – это сила, которая превращает вас в тень того, чем вы можете быть» (Болелли, 2011: 154).
Трансцендентальную ориентацию фундаментальных частей европейской культуры Болелли воспринимает как ошибочный шаг, не только не способствующий преодолению экзистенциального страха, но и усугубляющий его. Разделение мира на «телесное» и «духовное» бросает абсурдный вызов физическому конфликту как неизбежной форме жизнедеятельности: «Как знает любой успешный продюсер, режиссер или писатель (включая таких мэтров, как Шекспир и авторы Ветхого Завета), насилие – как и секс – это самый древний и универсальный язык… Ни один обладатель физического тела не может полностью игнорировать язык насилия» (Болелли, 2011: 67).
За дискредитацию роли «тела» в европейской культуре, с точки зрения Болелли, ответственны в первую очередь религия и метафизика.
Отношение прессы к телесности остается, по его мнению, рационально-механистическим, несмотря на кажущуюся независимость от метафизико-религиозных установок. Массовая культура, представленная в том числе и прессой, учит человека воспринимать свое тело в полном смысле слова как «машину потребления», хорошо или плохо работающую: «В прессе тело демонстрируется преимущественно в негативных образах: кровь жертв террористических атак, по- дробные репортажи о последствиях смертельных заболеваний, чувства преступников, приговоренных к смерти, в момент казни, сцены разорения страны, истерзанной войной, угасание недоедающих детей… В качестве альтернативы идее “тело равно боль” пресса предлагает другие образы тела, прекрасно дополняющие первый набор – тело как дорогая машина, как искусная работа, как роскошный товар, не более чем рыночный продукт» (Болелли, 2011: 23).
Другим важным фактором, препятствующим индивидуальному проявлению творческого начала, остается чувство групповой идентичности. Оно характеризует любого человека, который, осознанно или неосознанно, стремится превратиться в посредственность. Оценивая вклад Брюса Ли в мировую культуру и философию (!), Болелли отмечает: «Он не просто критиковал основные убеждения какой-то конкретной группы. Он подверг сомнению саму идею принадлежности к какой бы то ни было группе. По его словам, присоединение к группе, построенной вокруг фиксированного набора правил и верований, создает менталитет “мы против них”, вызывая бесконечные расколы и бесполезные конфликты с теми, кто сражается под другими флагами» (Болелли, 2011: 135).
Для Болелли две наиболее распространенные культурные разновидности современного человека – это «прагматики без горизонта или мечтатели, отрезанные от реального мира» (Бо-лелли, 2011: 90). Но вместе с тем процессы, присущие постиндустриальным обществам (данную общественную форму Болелли воспринимает в ключе идей Элвина Тоффлера (Тоффлер, 2010) – как лучшую на сегодняшний день), открывают новые возможности для воссоединения «тела» и «духовности». Они отражаются и на философии: «Это атлетическая философия, которая воспринимается мышцами в той же мере, что и разумом» (Болелли, 2011: 13).
Болелли считает, что боевые искусства представляют собой оптимальный вариант подобного синтеза. Одной стороной они обращены к естественному онтологическому состоянию «мира как конфликта», с отсылкой к Гераклиту, а другой – к «мифу о воине» с отсылкой к Ницше и древнекитайской традиции.
Обращаясь к социальной стороне вопроса, Болелли пытается показать, что боевые искусства представляют собой ту самую грань между войной и повседневностью, которая помогает расширить узкие устремления здравого смысла и контролирует безудержность агрессивного порыва. Между боевыми искусствами, войной и повседневностью лежит общее поле стратегии. В главе с характерным названием «В компании самурая-кочевника и китайского поэта-воина. Стратегии боевых искусств в повседневной жизни» Болелли, используя расхожий для современного стратегического мышления прием, указывает на сходство основных положений Сунь-цзы и Миямото Мусаси, распространяя затем свои выводы на повседневную практику (Болелли, 2011: 34–43).
Чтобы быть успешной, философия боевых искусств (помимо популяризации) должна решить ряд теоретических задач. В качестве главной из них Болелли называет разделение образов «воина» и «солдата». Эти две фигуры противопоставлены друг другу: «Солдат, как и любой другой подчиненный тоталитарных сил, – это антитеза духа воина… Воин – это бунтарь, который отказывается вручать свою судьбу всякому высшему авторитету» (Болелли, 2011: 47–48). Фигура «воина» у Болелли старше фигуры «солдата». Последняя охватывается лишь социально-политической сферой, в то время как первая формирует значительную часть костяка всей человеческой культуры: «Воинский миф не относится ни к какой политической идеологии. Он предназначен для всех» (Болелли, 2011: 72).
Одной из наиболее примечательных частей работы Болелли, на наш взгляд, является классификация архетипов «воина», каковых насчитывается шесть. Каждому соответствует его антипод, возникающий при разрушении грани между идеальным и фактическим, архетипическим и социальным:
-
1. «Самурай» – воин, для которого существуют принципы чести, обладающие определенной формальной стороной, – кодекс Бусидо. «Самурай» никогда не позволит играть с ними. Одна ошибка означает смерть. Антиподом данного архитипа для Болелли является «машина смерти», превращающая следование букве кодекса чести в фанатизм (например, боец вермахта).
-
2. «Ниндзя» – воин, всегда предпочитающий «непрямые действия» и не стремящийся связывать себя формальной стороной правил, предпочитая ей следование релятивистской философской доктрине. Антиподом для него служит «наемный убийца».
-
3. «Искатель» – этот архетип навеян легендами о короле Артуре. «Искатель» следует призыву, приобретающему в его сознании сверхприродный характер. Смысл призыва – поиск своего духовного начала в процессе активной борьбы со злом, в том числе социальным. Антипод «искателя» – «крестоносец» – фанатик, противодействующий не злу, а любому способу поиска истины, отличающемуся от своего.
-
4. «Отшельник» – одинокий воин-аскет, пытающийся отыскать истину в отрыве от своей социальной роли. Путь его – медитация. Антиподом «отшельника» Болелли считает индивида, полностью разорвавшего все связи с внешним миром, постоянно пребывающего в нирване.
-
5. «Ронин» – воин-авантюрист, для которого внутренняя свобода неизменно связана с восприятием мира как хаоса. Любопытно, что об антиподе «ронина» Болелли ничего не говорит.
-
6. «Воин племени» – образ, в основе которого лежат истории об индейских войнах и сражении при Литтл-Бигхорне 25–26 июня 1876 года. Данный архетип движим долгом перед общностью, ради защиты которой он готов на все. Но чувство племенной идентификации способно перерасти в племенной расизм, что превращает «воина племени» в ксенофоба-фанатика.
В конечном счете эпистемологический анархизм Пауля Фейерабенда представляется Бо-лелли наиболее приемлемым принципом жизнедеятельности. Пытаясь сопоставить основные выводы знаменитого труда Фейерабенда «Против метода» (2007) с отдельными философскими идеями Лао-цзы, Гераклита, Сиддхартхи, Ницше, Кришнамурти, Брюса Ли, Болелли стремится показать, что любой метод – это путь к постижению истины, а не ее определение. Однако эклектика может быть успешной лишь тогда, когда эпоха взывает к индивидуальному началу. Этим для Бо-лелли определяется суть трагедии Ницше: «В конце концов, он жил в Германии в конце XIX века; в воздухе витали очень тяжелые вибрации. Ницше танцевал под музыку, настолько обогнавшую его время и обстоятельства, что никто не знал, как его понимать» (Болелли, 2011: 166).
Согласно Болелли, универсальным видом культурной деятельности, способствующей главной цели любого человека, победе над страхом, являются даже не все боевые искусства, а единоборства: «Конечно, следует осознавать реальность: единоборства – это не война. Это даже не настоящая драка, потому что хотя бы некоторые правила соблюдаются. Тем не менее это относительно безопасный – или более безопасный, чем большинство альтернатив – способ посмотреть в лицо страху» (Болелли, 2011: 156).
В чем же состоит секрет успеха творчества Грина и Болелли? На какого субъекта направлены их работы и какого субъекта они в свою очередь конструируют? Какую роль в этих трудах играет указание на их философский характер?
На первый взгляд, произведения Грина и Болелли соответствуют номадологическому проекту Жиля Делёза, а именно, его представлению о «философском времени»: «Философия – это становление, а не история, сосуществование планов, а не последовательность систем» (Делёз, Гваттари, 2011: 69). Данное требование выполнено на 100 %. На страницах книг Болелли и Грина мирно уживаются Лао-цзы, Сиддхартха, любимый обоими Ницше, а также … Брюс Ли, Шакил О’Нил, Майкл Джордан, Гераклит, Уинстон Черчилль и многие другие.
Однако подобное смешение жанров еще не делает произведение философским. В основе «философских» операций Грина и Болелли лежат избитые приемы указания на «войну» как на естественную форму развития и обращение к известным мифологическим фигурам (Афина, Арес, Воин, Дракон, Принцесса) для определения природы конфликта в качестве культурной нормы. В итоге понятие «конфликт» становится универсалией. На него накладываются различные термины из области политики, боевых искусств, военной теории и т.д.
Лингвистической базой Грина и Болелли остается обыденный язык, основным адресатом – массовый потребитель. Как отмечает известный французский лингвист Марина Ягелло, «военные метафоры заполоняют всю политическую и синдикалистскую риторику, а мы этого не осознаем, настолько они примелькались» (Ягелло, 2010: 146). При этом оба автора постоянно указывают на повседневный опыт в качестве главного поля применения своей «философии». Повседневность трактуется ими обоими как область повышенного риска, где индивид вынужден вступать в отношения с потенциально враждебными силами. На первый план здесь всегда выдвигается сфера коммуникаций. О соприкосновении с ней концептуального творчества Делёз пишет следующее: «В более близкие к нам времена философия встречала себе и много новых соперников. Сначала подменить ее желали гуманитарные науки, особенно социология… Далее настала очередь эпистемологии, лингвистики, даже психоанализа, а равно и логического анализа. Переживая новые и новые испытания, философия, казалось, обречена была встречать себе все более нахальных и все более убогих соперников, которые Платону не померещились бы даже в самом комическом расположении духа. Наконец, до полного позора дело дошло тогда, когда самим словом “концепт” завладели информатика, маркетинг, дизайн, реклама – все коммуникационные дисциплины, заявившие: это наше дело, это мы творцы, это мы концепторы!» (Делёз, Гваттари, 2011: 15–16).
Примечательно, что носителями наиболее интересного и нового в книгах Грина и Болелли являются не концепты, представленные через расхожие клише, а персонажи. Однако многочисленные описания фактической стороны жизни делают их, скорее, не концептуальными, а историческими. Из-за отсутствия у авторов представления о мифологическом и историческом времени для этих персонажей все начинается и заканчивается биографическими сведениями.
В условиях нехватки подлинных переживаний стремление свести «войну» к наиболее социально адаптированным и безопасным формам противостояния в рамках «здравого смысла» следует считать «терапией повседневности». Подчеркнем, что речь не идет об отмене физического измерения войны, в рамках которого люди, убивая, рискуют быть убитыми. Скорее, стоит говорить о концептуальной экспансии милитаристской терминологии в области боевых искусств, бизнеса, бюрократической и просто межличностной конкуренции. Любой обыватель благодаря подобным концепциям может получить шанс почувствовать себя Чингисханом, самураем или Наполеоном. Достаточно посмотреть на названия книг популярных сегодня авторов, двинувшихся путями, проторенными Грином и Болелли: Макнилли М.Р. «Сунь-цзы и искусство бизнеса. Шесть стратегических принципов менеджмента» (2003), Нишанбаев Ю. «Восточные стратагемы: библия стратега» (2009) и др. При этом субъект должен поместить себя в ситуацию мобилизационной готовности к конфликту. Ведь концепт «мир» в работах Грина и Болелли не просто оттеснен на второй план по отношению к концептам «война» и «единоборство». Смысл его в состоянии «полной боевой готовности» утрачивается. «Мир» – это то, что нереализуемо, а «война» и «единоборство» реализуются, и не просто реализуются, а, реализуясь, приносят психологическую пользу.
Указание на философский характер произведений призвано придать глубинное измерение произведениям Грина и Болелли, приобщая обывателя к традиции, о которой он имеет смутное представление, зная, однако, что философия велика, хотя и не слишком понятна. В итоге общество предстает одним сплошным полем межличностной конкуренции, на котором произрастающие в большом количестве произведения, по своей теоретической проработанности не дотягивающие, а по живости изложения далеко отстающие от трудов Грина и Болелли, претендуют и будут продолжать претендовать на роль философии.
Однако милитаризацию формируемого этими произведениями субъекта не следует оценивать исключительно с позиций готовности к непосредственному вовлечению в вооруженный конфликт. И Грин, и Болелли постоянно указывают на различия простого исполнителя приказов и «стратега-воина», принимающего решения и усматривающего в конфликте путь к личностному росту. А это в свою очередь предполагает, что конструируемый субъект не должен брать на себя роль солдата, слепо жертвующего жизнью ради реализации чужих целей. Он, скорее, выступает в качестве актора, формирующего данные цели, стремящегося сохранить собственную физическую целостность и свободный выбор при принятии решений. Иными словами, военизированный массовый субъект владеет основами «философии войны», находится в «полной боевой готовности» по отношению к возникающим в повседневной жизни конфликтам, но зачастую стремится избежать участия в физическом вооруженном противостоянии.
Список литературы Милитаризация массовой культуры как способ конструирования военизированного субъекта
- Болелли Д. На пути воина. Философия и мифология боевых искусств. СПб., 2011. 176 с.
- Грин Р. 33 стратегии войны. М., 2007. 672 с.
- Грин Р. 48 законов власти и обольщения. М., 2006а. 736 с.
- Грин Р. Искусство обольщения для достижения власти. М., 2006б. 608 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 2011. 261 с.
- Макнилли М.Р. Сунь-цзы и искусство бизнеса. Шесть стратегических принципов менеджмента. М., 2003. 294 с.
- Нишанбаев Ю. Восточные стратагемы: библия стратега. М., 2009. 464 с.
- Тоффлер Э. Третья волна. М., 2010. 784 с.
- Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М., 2007. 416 с.
- Ягелло М. Алиса в стране языка: тем, кто хочет понять лингвистику. М., 2010. 192 с.