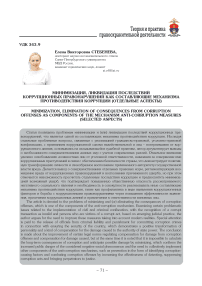Минимизация, ликвидация последствий коррупционных правонарушений как составляющие механизма противодействия коррупции (отдельные аспекты)
Автор: Стебенева Е.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (57), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, что является одной из составляющих механизма противодействия коррупции. Исследуя отдельные проблемные вопросы, связанные с реализацией гражданско-правовой, уголовно-правовой конфискации, с признанием коррупционной сделки недействительной и лиц - потерпевшими от коррупционного деяния, основываясь на складывающейся судебной практике, автор аргументирует выводы о необходимости совершенствования данных мер с учетом современных реалий. Отдельное внимание уделено освобождению должностных лиц от уголовной ответственности, наказания за совершение ими коррупционных преступлений в связи с обеспечением безопасности страны, что демонстрирует позитивную трансформацию личности и своеобразное восполнение причиненного авторитету государственной власти вреда. Делается вывод о совершенствовании отдельных правовых норм, регламентирующих возмещение вреда от коррупционных правонарушений и восполнении причиненного ущерба, но при этом отмечается невозможность просчитать отдаленные последствия коррупции и предвосхитить минимизацией возможный ущерб, что подтверждает повышенную общественную опасность рассматриваемого негативного социального явления и необходимость в совокупности реализовывать иные составляющие механизма противодействия коррупции, такие как профилактика в виде выявления коррупциогенных факторов и борьбы с коррупционными правонарушениями через повышения эффективности выявления, пресечения коррупционных деяний и привлечения к ответственности виновных лиц.
Противодействие коррупции, минимизация, ликвидация последствий коррупционных правонарушений
Короткий адрес: https://sciup.org/140308678
IDR: 140308678 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Минимизация, ликвидация последствий коррупционных правонарушений как составляющие механизма противодействия коррупции (отдельные аспекты)
О дно из направлений противодействия коррупции, закрепленное в федеральном законе1, помимо профилактики и борьбы с данным негативным явлением определено как минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений, что в правоприменительной практике достаточно затруднительно в реализации и вызывает продолжительные научные дискуссии.
Предлагаемое некоторыми учеными [2] разделение минимизации последствий через снижение масштабов коррупции и непосредственной реакции государства и общества на неизбежные последствия от совершенных коррупционных деяний необоснованно упрощает реализацию этого вида противодействия коррупции, размывает границу с иными видами противодействия, в частности профилактикой коррупции, подтверждением чему, например, служит выделение одной из задач, служащей достижению указанной цели, – выявление, устранение или нейтрализация причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям, что в первую очередь служит профилактике коррупции, в том числе на ее ранней стадии (ранняя профилактика).
Несомненно, все виды противодействия коррупции необходимо осуществлять только в совокупности в механизме противодействия коррупции, но это не исключает необходимость конкретизации и выработки отдельных механизмов каждого из составляющих его элементов. На наш взгляд, данный вид противодействия коррупции находится еще в становлении и требует совершенствования в правоприменении, чему в немалой степени способствует неурегулированность толкования содержания последствий и его составляющих, каковыми в нашем понимании являются ущерб, вред, убыток. Размышления о содержании и отличии данных понятий не являются праздными. Конституция РФ (ст. 53) гарантирует возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, что возводит данную проблему в ранг государственно значимой, так как затрагивает конституционно значимые постулаты.
Если мы говорим о последствиях коррупции, речь пойдет об уже случившихся фактах коррупционных правонарушений (реализовавших свою вредоносность [11, с. 35]) и вреде, ущербе, причиненном ими (материальном, моральном, физическом); определим их как коррупционные последствия, которые возможно подразделить на следующие виды:
– материальные последствия для физических, юридических лиц;
– последствия в виде вреда здоровью и жизни человека;
– нематериальные последствия в виде морального ущерба физическим лицам и их близким;
– последствия в виде нарушения, ограничения прав и свобод личности;
– последствия в виде репутационных потерь (ущерб деловой, общественной репутации), снижения уровня доверия и авторитета государственной власти, утрата инвестиционной привлекательности экономики страны;
– последствия в виде угроз снижения национальной и мировой безопасности (обороноспособность страны, экологическая безопасность, мировой правопорядок и пр.) и др.
Перечень широк и разнообразен, так как коррупция оказывает негативное влияние во всех сферах жизнедеятельности и посяга- ет на те объекты общественных отношений, которые реализуются через различные социальные функции, на основе чего возможно разделение коррупции на виды. В зависимости от выполняемой функции последствия в той или иной сфере будут иметь направленность, соизмеримую с ними: в политической сфере, в сфере образования, в сфере медицины и т.п., что позволяет нам согласится с межотраслевым характером института минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [7].
Механизм противодействия коррупции по направлению минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений возможно представить через реализацию отдельных направлений. Рассмотрим такой вид, как конфискация, который имеет межотраслевую природу [9].
Гражданско-правовая конфискация имущества. Статья 235 ГК РФ «Основания прекращения права собственности» предусматривает принудительное изъятие имущества у собственника по ряду оснований, одним из которых (пп. 6 п. 2) является конфискация – безвозмездное изъятие у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения либо в административном порядке (ст. 243 ГК РФ). Подпункт 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ к основаниям принудительного изъятия имущества относит обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, что, к слову, демонстрирует новеллу как результат трансформации общественных отношений в реализации антикоррупционных запретов, обязанностей и ограничений (подпункт введен в 2012 г.1), с целью изъятия незаконных доходов в пользу государства.
Достаточно много дискуссий вызывает данное положение в силу ратификации Россией Конвенции ООН против коррупции, ст. 20 которой, предусматривающая признание в качестве уголовно наказуемого деяния умышленного незаконного обогащения, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать2, не ратифицирована нашей страной в качестве безусловных обязанностей, но урегулирована изъятием незаконных доходов и имущества, приобретенного на них, в качестве специальной меры не уголовно-правового характера в рамках антикоррупционного законодательства в случаях незаконного обогащения. И конституционность данной меры подтверждена позицией Конституционного Суда РФ, которая обоснована тем, что «правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества; поэтому федеральный законодатель, создавая такие правовые механизмы, вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти»3, что соотносится с требованиями ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции, согласуется с принятыми странами СНГ рекомендациями в сфере противодействия коррупции 23 ноября 2012 г.1, где одним из приоритетных является соблюдение антикоррупционных стандартов, включающих запреты, ограничения и обязанности лиц, проходящих государственную и муниципальную службу.
Итак, одна из проблем в правоприменительной практике по гражданско-правовой конфискации – это установление законности происхождения доходов и определение той части, законность которой не доказана.
Следующий проблемный аспект минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений через применение гражданско-правовой конфискации – это применение ее взамен уголовно-правовой конфискации либо более широкое ее применение [4; 7], но здесь мы сталкиваемся с проблемой замены презумпции невиновности на бремя доказывания самим лицом законности приобретения подлежащего изъятию имущества, денежных средств от его реализации, что может способствовать приобретению данным процессом изначально обвинительной «окраски». Безусловно, не следует подменять друг другом уголовно-правовые и гражданско-правовые отношения. Более того, меры уголовно-процессуального порядка с целью обеспечения возмещения добытого преступным путем дохода достаточно широко применяются на практике. Например, арест имущества, в том числе совместного, в ходе предварительного расследования в соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества2.
Другая сторона рассматриваемого механизма кроется в признании потерпевшим от коррупционного деяния. В частности, судеб- ная практика складывается таким образом, что лицо, в отношении которого имело место быть вымогательство взятки, может быть признано потерпевшим на основании ст. 42 УПК РФ, что означает возможность в рамках предварительного расследования признания его гражданским истцом, который может претендовать на возмещение вреда как имущественного, так и морального. Так, Т.А.С., будучи подозреваемым по уголовному делу, получив предложение от должностного лица избежать уголовной ответственности в обмен за взятку, сообщил об этом в правоохранительные органы и впоследствии добровольно принял участие в проведении изобличающего оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Доводы Конституционного Суда РФ3 основаны на том, что лица, вовлекаемые в процесс дачи взятки, выступают в качестве непосредственного адресата (субъекта незаконного воздействия) предложения или требования передачи взятки и тем самым подвергаются злоупотреблению властью со стороны противоправно действующего должностного лица, а потому могут выступать потерпевшими от преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, при условии, что их действие не образует состава коррупционного преступления, хотя объектом преступного посягательства и является государственная власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Определение в качестве потерпевшего в таком случае конкретного физического лица предполагает, соответственно, возможность признания потерпевшим и представителя юридического лица, которому также причиняется вред, в том числе связанный с репутационными потерями.
С учетом того обстоятельства, что видовым объектом составов преступлений, объединенных главой 30 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие достижение интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, преобладающее большинство данных преступлений совершаются субъектом, обладающим специальным статусом, – должностным лицом. Таким образом при совершении, в частности, преступлений, предусмотренных ст. 285, 290, 291.2, 292 УК РФ и др., причиняется вред интересам государства. Однако в правоприменительной практике имеются факты прекращения уголовных дел по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ст. 292 УК РФ [подр.: 14, с. 68; 15, с. 11] на основании ст. 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим», ст. 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон», так как лицо совершило впервые преступление небольшой или средней тяжести и примирилось с потерпевшим, загладило причиненный ему вред, что заставляет вспомнить принцип справедливости – вред причиняется не только конкретному потерпевшему в виде отдельного гражданина, юридического лица, но и интересам государства.
По нашему мнению, уголовные дела по коррупционным преступлениям не должны прекращаться в связи с примирением с потерпевшим, так как причиняется вред не только правам и свободам конкретного гражданина, юридического лица, но и авторитету государственной власти, что предполагает внесение соответствующих разъяснений в ст. 25 УПК РФ, 76 УК РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, но не исключает возмещение причиненного ущерба конкретному потерпевшему.
Особое отношение к коррупционным деяниям обозначил в своей позиции Конституционный Суд РФ, разъяснив сроки давности по антикоррупционным искам в суды для изъ- ятия в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана. В ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» предусмотрено право Генерального прокурора РФ, подчиненных ему прокуроров в течение четырех месяцев со дня получения соответствующих материалов рассматривать их в пределах своей компетенции в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и в случае неподтверждения сведений о законности приобретения имущества в соответствии с правилами гражданского судопроизводства обращаться в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, принадлежащих лицу, замещающему (занимающему) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно1.
Поступая в федеральную собственность, данное имущество, таким образом, подлежит использованию на благо всего общества, что направлено на восстановление социальной справедливости, укрепление социальной солидарности в сфере борьбы с коррупцией и хотя бы частичное восполнение нарушения принципов справедливости и равенства.
Отмечается, что уполномоченный на предъявление иска об обращении в доход государства имущества и денежных средств прокурор действует в целях защиты общественных и государственных интересов сообразно возложенным на прокуратуру Российской Федерации функциям, что предопределяет неустановленным срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, так и имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано1.
Изъятие имущества («коррупционного имущества»), полученного вследствие коррупционной деятельности, вытекает из публично-правовых отношений, и фактически интерес лица, предположительно совершившего деяние коррупционной направленности, противопоставлен интересам не только общества в целом, но и каждого не причастного к коррупционной деятельности гражданина, поэтому обращение в силу антикоррупционного иска в доход государства имущества при недоказанности законности его приобретения и является наглядным примером минимизации последствий коррупции, восстановления социальной справедливости. Поэтому действию данной меры не должно препятствовать даже увольнение должностного лица, что и применяется в настоящее время2.
Однако для определенности в правоприменении срок давности необходим, но его установление по антикоррупционным искам в дальнейшем законодателем требуется с учетом характера деяния и возможного имеющегося сокрытия, противодействия ответчика выявлению и обращению в доход государства рассматриваемого имущества. Отсутствие или неопределенность конкретных сроков давности по антикоррупционным искам может само порождать коррупционный риск – бюрократическую волокиту, злоупотребления со стороны должностных лиц, рассматривающих указанные материалы.
Остается проблемой изъятие имущества, денежных средств, принадлежащих третьим лицам. Статьями 8, 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» предусмотрена обязанность о предоставлении сведений о доходах, расходах как отдельными лицами, замещающими (претендующими) должности государственной службы и пр., так и его супруги (супруга), несовершеннолетних лиц, что порождает ряд споров по разделению совместного и личного имущества, денежных средств3, а именно – изъятие имущества супруги, принадлежащего ей до занятия супругом должности в государственном органе и до заключения с ним брака, взыскание имущества несовершеннолетних детей и пр. Возникают вопросы о возможном сокрытии, уводе из-под вероятности изъятия имущества в доход государства при отсут- ствии доказанности законности его приобре-тения1.
В настоящее время также в качестве меры минимизации, ликвидации последствий коррупции применяется взыскание суммы взятки в доход государства при признании дачи-получения взятки недействительной сделкой в силу ст. 169 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности». При этом назначение уголовного наказания не исключает взыскание с осужденного денежных средств, полученных в качестве взятки, что поддержал Конституционный Суд РФ2, пояснив, что применение ст. 169 ГК РФ не равнозначно мере уголовно-правового характера; применение данной нормы в первую очередь направлено на предотвращение последствий антисоциальных сделок, каковыми, несомненно, являются коррупционные. И поэтому последствия недействительности сделки, предусмотренные ст. 167 ГК РФ «Общие положения о последствиях недействительности сделки» (возврат каждой из сторон все полученное по сделке), не применяются (ч. 4 ст. 167 ГК РФ).
Однако практика правоприменения в данном вопросе не устоялась, возникают коллизии. Например, согласно определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 декабря 2023 г. судебные решения (районного суда, судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, судебной коллегии по гражданским делам кассационного суда общей юрисдикции) по факту получения взяток в период с 22 сентября 2015 г. по 20 декабря 2018 г. Б.К.О. от К.И.Г. и А.Р.С. за незаконные действия и бездействия при осуществлении государственного контроля за предоставление деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук- ции на территории Алтайского края (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и взыскания денежных средств в доход государства по иску прокурора отменены в связи с тем, что суд не применил в отношении Б.К.О. конфискацию имущества, предусмотренную УК РФ3. Данный факт указывает на позицию суда о приоритетности применения уголовно-правовой конфискации при наличии в действиях лица признаков преступления, так как возможность этого предусмотрена в уголовном законе, тем самым разделяя (не подменяя) нормы различных отраслей права, что, на наш взгляд, справедливо, учитывая направленность применения рассматриваемых видов конфискации.
В научных кругах признание факта взятки как недействительной сделки и взыскание в доход государства суммы самой взятки также вызывает дискуссии [1]. Отдельные авторы даже определяют ситуации, когда возможно изъятие предмета взятки и взыскания в доход государства ее размера как «двойное обогащение» государства [12], что, по нашему мнению, не совсем верно, но это обозначает необходимость единообразия в правоприменении.
Все приведенное указывает на пока еще складывающуюся в настоящее время судебная практику по противодействию коррупции и, в частности, по минимизации, ликвидации последствий от коррупционных деяний путем взыскания в доход государства денежных средств, имущества, полученных в результате неправомерных действий, но уже вызывающую научные споры по применению данных норм в отношении услуг, являющихся предметом взятки; по применению конфискации как уголовно-правовой меры по ст. 104.1 УК РФ в меньшем размере, чем была получена взятка; по обращению в доход государства единственного пригодного для проживания жилья [8] и др. Это обуславливает необхо-
Вестник Сибирского юридического «^Ws* института МВД России
димость развития и совершенствования так называемой гражданско-правовой конфискации с учетом современных общественных отношений и их трансформации, так как зачастую разрешению имеющихся проблем способствуют лишь отдельные обращения в Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ.
Решению данного вопроса во многом способствовало бы совершенствование мер, связанных с конфискацией как уголовно-правовой мерой по минимизации, ликвидации последствий коррупции с целью противодействия ей. Конфискация имущества как вид принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства имущества на основании обвинительного приговора в соответствии со ст. 104.1 УК РФ определяется как уголовно-правовая конфискация, в правоприменении которой также имеется ряд вопросов.
Так, в ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» перечислены лишь несколько составов преступлений коррупционной направленности, по которым предусмотрена указанная мера, что, на наш взгляд, необоснованно. Например, не включены преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 291.2 (в части получения мелкой взятки), 292 УК РФ и др., которые содержат признаки, согласно соответствующим критериям относящие их к коррупционной направленности.
Отдельные авторы [13] выступают за определение конфискации как отдельного вида наказания, так как принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в качестве каковой на сегодняшний день выступает конфискация, не выполняет функции общей превенции, а лишь частной – лишение только денежных средств, имущества добытого преступным путем, но не возмещение полностью причиненного преступлением вреда.
В ряде стран конфискация выступает как дополнительный вид уголовного наказания (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, США, Япо- ния, Китай и др.). Во Франции конфискация применяется в качестве основного и дополнительного уголовного наказания. Россия применяет конфискацию, как и ряд стран (Эстония, Литва, Молдова, Испания, Сербия и др. [5]), в качестве меры уголовно-правового принуждения. Но в преобладающем большинстве зарубежных стран законодатель не ограничивает применение конфискации по конкретным преступлениям, перечисляя их в диспозиции нормы, что, по нашему мнению, следует применять и в отечественном законодательстве, не ограничивая применение указанной меры.
Заслуживает одобрения мнение [10] о том, что необходимо применение возможной конфискации имущества и после вынесения обвинительного приговора, с целью предупредить возможное сокрытие имущества и пр., что требует внесения изменений в ч. 1 ст. 401.6 УПК РФ «Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции», предусматривающих, что в случае выявления фактов сокрытия денег, ценностей, иного имущества, подлежащих конфискации по коррупционным преступлениям, возможность пересмотра судебного решения не должна ограничиваться лишь годом, как это предусмотрено в настоящее время, учитывая общественную опасность рассматриваемых деяний.
Следующий аспект, который требует рассмотрения, – это применение ст. 78.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время», ст. 80.2 УК РФ «Освобождения от наказания в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», что является примером отражения в уголовном законодательстве претерпевающих трансформации общественных отношений, связанных, в данном случае, с проведением специальной военной операции. По сути, это новое правовое явление в виде условного освобождения от наказания [3] приобретает особое значение, применяясь в отношении должностных лиц государственных, муниципальных органов за совершение коррупционных преступлений. Происходит своего рода искупление вины перед государством за нанесенный вред его авторитету совершением преступления коррупционной направленности, через осуществление обеспечения безопасности страны, участвуя в специальной военной операции, а порой и ценой собственной жизни1. Однако категоричность указанных норм (императивность), по нашему мнению, не дает выбора правоприменителю на возможность применения освобождения от наказания, от уголовной ответственности с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления коррупционной направленности, характеристики лица, его совершившего, что противоречит общим началам назначения наказания и недооценивает значение реализации принципа справедливости при освобождении от уголовной ответственности. Кроме того, в главе 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» немало внимания в иных статьях уделено как одному из критериев применения нормы статьи данной главы – возмещению ущерба, заглаживанию вреда и т.п., о чем в ст. 78.1, 80.2 УК РФ2 речи не идет, что нивелирует важность минимизации и (или) ликвидации последствий не только от коррупционных, но и иных преступных деяний.
Таким образом, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции возможна с применением как мер, направленных на материальное возмещение вреда, – гражданско-правовая, уголовно-правовая конфискация, возмещение материального, морального вреда потерпевшим от коррупционных деяний в гражданско-правовом порядке, так и путем привлечения лиц, совершивших преступления против государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах местного самоуправления, каковыми в том числе являются деяния коррупционной направленности, к обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны. Однако имеющиеся недостатки правового регулирования требуют определенных изменений, дополнений в отечественное законодательство:
– разработку более четких критериев разграничения имущества, денежных средств, подлежащих изъятию в доход государства, в отношении которых представлены / не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы;
– определение сроков давности (пусть и более длительных в отличие от иных случаев) взыскания в доход государства имущества, денежных средств от его реализации, законность приобретения которого не доказана, с целью исключения коррупциогенных факторов при неопределенности сроков применения правовой нормы;
– принятие мер по предупреждению сокрытия имущества, денежных средств, подлежащих уголовно-правовой конфискации, и по прошествии одного года после вынесения обвинительного приговора (ч. 1 ст. 401.6 УПК РФ);
– недопустимость прекращения уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности в связи с примирением с потерпевшим ввиду особого охраняемого объекта общественных отношений, что предполагает внесение соответствующих изменений и дополнений в содержание ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ;
– расширение перечня преступлений, по которым предусмотрена конфискация в уго-
Вестник Сибирского юридического «^Ws* института МВД России
ловном законодательства Российской Федерации (ст. 104.1 УК РФ), добавлением преступлений коррупционной направленности;
– внесение соответствующих дополнений в ст. 78.1, 80.2 УК РФ с целью обеспечения возмещения причиненного вреда при освобождении от уголовной ответственности.
В заключение отметим, что, к сожалению, не всегда удается просчитать возможный отдаленный (отложенный) вред, причиняемый коррупционными правонарушениями, и предупредить предполагаемый ущерб со- ответствующими мерами. Поэтому наравне с рассмотренным направлением реализации механизма противодействия коррупции в виде минимизации и (или) ликвидации последствий в совокупности требуется осуществление меры по профилактике и борьбе с коррупцией через устранение, нейтрализацию коррупциогенных факторов, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, привлечение виновных к ответственности.
Список литературы Минимизация, ликвидация последствий коррупционных правонарушений как составляющие механизма противодействия коррупции (отдельные аспекты)
- Александрова, Л.А. Признание взятки сделкой и вопросы межотраслевого регулирования при производстве по уголовному делу / Л.А. Александрова, Е.Ю. Никифоров // Российский следователь. - 2022. - N 3. - С. 24-28.
- Афанасьева, О.Р. Минимизация последствий коррупционных правонарушений: понятие, содержание, основные направления / О.Р. Афанасьева // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. - 2016. - Т. 6, N 5-1. - С. 20-26.
- Бавсун, М.В. Проблемы правовой регламентации освобождения от наказания, предусмотренного ст. 822 УК РФ / М.В. Бавсун // Сибирский юридический форум: современные проблемы науки и практики в уголовном праве и криминологии: материалы международной научно-практической конференции, Барнаул, 27-28 июня 2024 года. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2024. - С. 11-12.
- Багавудинов, Ш. Г. Гражданско-правовая конфискация и неприкосновенность частной собственности / Ш.Г. Багавудинов // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - N 1. -С. 130-133.
- Горбачев, И.С. Конфискация имущества в уголовно-правовых предписаниях зарубежных стран: особенности регламентации и правоприменения / И.С. Горбачев // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2022. - Т. 8 (74). - N 2. - С. 280-289.
- Зайковский, В.Н. Институт минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в структуре антикоррупционной деятельности в Российской Федерации / В.Н. За-йковский, И.А. Лепехин // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. - 2019. - N 1 (57). - С. 111-123.
- Казакова, В.А. Предупреждение и пресечение коррупции гражданско-правовыми мерами / В.А. Казакова, С.М. Иншаков // Научный портал МВД России. - 2019. - N 4(48). - С. 30-34.
- Кремнева, Е.В. Анализ судебной практики по делам о взыскании средств, полученных в виде взятки / Е.В. Кремнева // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. -2023. - N 6 (98). - С. 67-71.
- Кузнецова, О.А. Межотраслевая правовая природа конфискации имущества / О.А. Кузнецова, В.В. Степанов // Журнал российского права. - 2018. - N 2. - С. 27-37.
- Макарова, В.В. Конфискация имущества: отдельные вопросы теории и практики / В.В. Макарова // Уголовно-исполнительное право. - 2022. - Т. 17. - N 3. - С. 393-400.
- Мальков, С.М. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная политика Российской Федерации: монография / С.М. Мальков, А.В. Шеслер, П.В. Тепляшин. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. - 128 с.
- Поляков, М.Д. Взятка как антисоциальная сделка / М.Д. Поляков // Катановские чтения - 2024: сборник научных трудов студентов, Абакан, 11 марта - 17 мая 2024 года. - Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2024. - С. 144-145.
- Сороковиков, Н. С. Конфискация имущества как уголовно-правовая мера борьбы с преступлениями коррупционной направленности в сфере оборонно-промышленного комплекса / Н.С. Сороковиков // Вестник экономической безопасности. - 2021. - N 6. - С. 181-186.
- Стебенева, Е.В. Сотрудник ОВД как специальный субъект коррупционных преступлений: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е.В. Стебенева. - СПб.: СПбУ МВД России, 2011. - 220 с.
- Ширшанова, Е.А. Взяточничество в ОВД: криминологический анализ: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 5.1.4 / Е.А. Ширшанова. - СПб.: СПбУ МВД России, 2024. - 22 с.