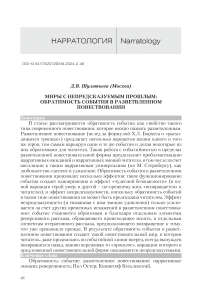Миры с непредсказуемым прошлым: обратимость события в разветвленном повествовании
Автор: Шулятьева Д.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается обратимость события как свойство такого типа современного повествования, которое можно назвать разветвленным. Разветвленное повествование (вслед за формулой Х.Л. Борхеса о «расходящихся тропках») предлагает несколько вариантов жизни одного и того же героя, тем самым варьируя одни и те же события и делая некоторые из них обратимыми для читателя. Такая работа с событийностью в пределах разветвленной повествовательной формы предполагает проблематизацию нарративных ожиданий и нарративных эмоций читателя, в том числе за счет апелляции к таким нарративным универсалиям (по М. Стернбергу), как любопытство, саспенс и удивление. Обратимость события в разветвленном повествовании производит несколько эффектов: такое функционирование события создает одновременно и эффект «чудесной безопасности» (в одной вариации герой умер, в другой - по-прежнему жив, «возвращается» к читателю), и эффект непредсказуемости, поскольку обратимость событий в таком типе повествования не может быть предсказана читателем. Эффект непредсказуемости (и связанная с ним эмоция удивления) только усиливается за счет других временных искажений в разветвленном повествовании: событие становится обратимым и благодаря отдельным элементам реверсивного рассказа, обращающего происходящее вспять, и отдельным элементам итеративного рассказа, предполагающего возвращение к тому, что уже произошло прежде. В результате обратимость события в разветвленном повествовании создает такой повествовательный мир, в котором читатель, даже продвигаясь по событийной линии вперед, всегда вынужден возвращаться назад, заново переживая то «прошлое», вариации которого в предложенной повествовательной форме оказываются непредсказуемыми.
Обратимость, событие, разветвленное повествование, нарративные эмоции, реверсивность, пол остер, кшиштоф кесьлевский
Короткий адрес: https://sciup.org/149145988
IDR: 149145988 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-46
Текст научной статьи Миры с непредсказуемым прошлым: обратимость события в разветвленном повествовании
Invertibility; event; forking-path narrative; narrative emotions; reversibility; Paul Auster; Krzysztof Kieslowski.
Повествовательное событие, если следовать в его определении за В. Шмидом, обладает таким свойством, как необратимость [Шмид 2010, 14]. Но такое повествовательное «правило», по-видимому, пытаются нарушить некоторые типы усложненного повествования, получающие распространение как в литературе, так и в кино в последние десятилетия. К ним, например, можно отнести реверсивное повествование, – как в романе М. Эмиса «Стрела времени» (1991), в романе С. Инг «Все, чего я не сказала» (2014), в фильме К. Нолана «Мементо» (2000) или в фильме Фр. Озона «5х2» (2004) – предполагающее репрезентацию событий в обратном порядке. Усложненным можно назвать и тот тип повествований, который опирается на повторение одного и того же события с включением в это повторение вариаций – как в новелле Р. Кувера «Лифт» (1967) или в фильме К. Муратовой «Вечное возвращение» (2012). Наконец, усложненным яв- ляется и то повествование, которое получает название «разветвленного» (forking-path) – вслед за «расходящимися тропками» Х.Л. Борхеса.
Такой тип повествования предлагает читателю следить за несколькими вариантами жизни одного и того же героя, тем самым и повторяя, и варьируя одни и те же события (уже произошедшие в пределах повествования). В разветвленном повествовании перед читателем, как и перед героем, открывается не один путь, а сразу несколько – и разветвленное повествование, таким образом, отвечает на вопрос «что было бы, если?» сразу несколькими способами: так, что каждая новая сюжетная линия является новым ответом на этот вопрос.
Разветвленное повествование встречается как в литературе, так и в кино рубежа XX–XXI вв.: по такому принципу построены фильмы К. Кесьлевского «Случай» (1981) и Т. Тыквера «Беги, Лола, беги» (1998), так функционирует повествование в романе «Хвали день к вечеру» Дж. Эрпенбек (2012) и в романе «4321» П. Остера (2017). Для такого типа повествования характерна обратимость событий, представленных в нем: то, что произошло в одной жизни героя, может не произойти в «другой» жизни, тоже представленной в повествовании. То, что уже произошло в одной из вариаций, может быть «переиграно» или переиначено в другой. Взаимодействуя с таким типом повествования, читатель, таким образом, все время сталкивается как с возможностью повторения того, что уже произошло, так и с возможностью «отмены» произошедшего или его варьирования в другой повествовательной линии. Но какими функциями наделяется такая обратимость события в разветвленной повествовательной форме? И какие эффекты на читателя она производит?
Читательское взаимодействие с таким «необычным» поведением повествовательного события может быть охарактеризовано и при помощи функционирования нарративных эмоций. Нарративные эмоции, как их определяет, например, С. Кин, характеризуют аффективное измерение нарратива [Keen 2015, 152]. Они отличны от тех эмоций, которые непосредственно представлены в повествовании: от репрезентации эмоционального опыта персонажа или нарратора. Нарративные эмоции, напротив, характеризуют читательский опыт и динамику читательского взаимодействия с повествованием. Читатель эмоционально откликается на события, происходящие с героем, способен сопереживать ему, но этот отклик во многом зависит от самой повествовательной формы, нарративной прогрессии в ней. Какой эффект на читателя производит событие, происходящее впервые, а какой – в тот момент, когда оно варьируется, «отменяется», обращается вспять? Мы рассмотрим функционирование обратимости события как повествовательного механизма, характерного для разветвленного повествования, на примере романа П. Остера «4321» и фильма К. Кесьлевского «Случай».
Размышляя об особенностях нарративной эмпатии и в целом об эмоциональном взаимодействии читателя с вымышленными мирами, С. Кин подчеркивает: вымышленные миры создают безопасную зону для читателя, позволяя ему испытывать сочувствие, но не требуя от него при этом действий в реальном мире [Keen 2007, 4]. С.Н. Зенкин указывает на аналогич- ный эффект: литература, говорит он, хороша возможностью испытывать эмоции, ничем не рискуя [Зенкин 2020]. Так, читатель получает доступ к чужому опыту, переживаниям, эмоциям других, вовлекается в происходящее, но в любой момент это сочувствие может быть прервано, и даже если оно не прерывается (рассказ завершается, а переживание сохраняется), это сочувствие не предполагает переживания тех последствий, которые бы встретили читателя в реальном мире. Этот эффект, характерный для взаимодействия с вымышленными мирами в целом, только усиливается, если речь идет о том, что «последствия» не настигают читателя и в пределах вымысла. Мы можем представить себе, что «преступление» героя обретает (в пределах вымысла) «наказание», и так происходит нередко, но что было бы, если бы эти последствия (эмоциональные, прежде всего) оказались бы обратимыми? Если бы можно было бы их избежать не только в реальном мире (в отличие от вымышленного), но и в вымышленном?
О схожем эффекте (но в другом контексте) размышлял Бодрийяр, называя это ощущение «чудесной безопасностью» [Бодрийяр 2006, 15]. Читатель и вовлечен в переживание происходящего в вымышленном мире, но и – благодаря специфическому его повествовательному устройству – сохраняет необходимую дистанцию по отношению к нему. Читатель потому совмещает, если перефразировать Бодрийяра, «вторжение переживания» и «глубокое удовольствие не быть (в действительности) внутри всего происходящего». Такое ощущение «безопасности», о котором по-своему говорят и Кин, и Бодрийяр, особым образом создается и поддерживается разветвленной повествовательной формой. События в ней могут быть обратимыми и потому «нарушают» в этом смысле одно из (казалось бы) «правил» нарративного события: быть значимым и потому необратимым.
Итак, разветвленная повествовательная форма предполагает обратимость событий: то, что произошло с героем в одной вариации, может не произойти в другой, может быть «переиграно» или вовсе «отменено». О такой обратимости сами герои, как правило, не знают, как не знают о существовании других вариантов собственной судьбы, зато об этом хорошо знают читатели: и так эмоциональный центр тяжести переносится именно на них. Обратимость событий и связанные с ней переживания, таким образом, имеют значение в разветвленной форме, прежде всего, с точки зрения читателя. Это он соотносит уже произошедшее с тем, как это «уже произошедшее» обращается вспять; это он (в собственном воображении) наделяет и первое, и второе статусом события (рецептивного – в терминологии П. Хюна [Hühn 2008]), тогда как для самого героя связки между этими двумя элементами попросту не существует. Обратимость событий, таким образом, имеет особое значение для переживания читателя и для моделирования его эмоционального отклика: благодаря сложной системе соотношения событий репрезентации и рецептивных событий в такой модели этот эмоциональный отклик оказывается крайне разнообразным, принимает маятникообразные формы, создавая хорошо раскачанные «качели».
Так, в романе Остера обратимыми оказываются события, сами по себе предполагающие сильный эмоциональный отклик читателя: если в одной вариации отец героя погибает при пожаре, то в другой – он оказывается жив; если в одной вариации двоюродный брат героя пропадает на Вьетнамской войне, то в другой вариации ему удается этого избежать; если в одной вариации герой узнает о своей неизлечимой болезни (бесплодии), то в другой такой проблемы у него не возникает. Обратимыми потому нередко становятся события, которые дополнительно содержат семантику «финальности», «исключительности» и «неизменяемости». «Отмотать назад» в повествовании удается те события, которые в реальности такой «перемотке» уж точно не поддаются: смерть, катастрофа, тяжелая болезнь, война, казалось бы, несут с собой необратимые последствия, предполагают трагическое переживание, рождают в читателе особое сочувствие, поскольку связаны с ощущением бессилия и невозможности на эти события никак повлиять, невозможности даже надеяться, что что-то будет изменено, и герои обретут спасение (если речь не идет о фантастическом нарративе, а в данном случае говорится лишь о реалистическом модусе повествования). Разветвленная повествовательная форма этот опыт трансформирует до неузнаваемости: все, что считалось «фатальным» и «невозвратимым», все, что должно было переживаться как «невосполнимая утрата» и «неотменяемое изменение», все это решительно меняется, начинает функционировать в повествовании под знаком обратимости и возможности такого обратного превращения. Если прежде читатель испытывал ощущение собственного бессилия и собственной же ограниченности, то теперь, при взаимодействии с такой повествовательной формой, ему кажется, что возможно все: смерть – не фатальна, гибель – отменяема, катастрофа может «в другой жизни» и вовсе не состояться, а болезни, которые могли бы сразить героя, как будто бы, и вовсе не важны, ведь в другой вариации их может не оказаться.
Так разветвленная повествовательная форма создает особое «безопасное пространство» для читателя, моделируя «чудесную безопасность» собственной конвенциональностью: пониманием читателя, что все происходящее, особенно трагическое, совсем не обязательно является «окончательным и бесповоротным». Расширение читательского опыта дополняется и усиливается здесь иллюзией «всесилия»: если все, даже трагическое, может быть отменено, значит, не только «возможно все», но не так важны оказываются и последствия совершаемых действий. В этом смысле обратимость событий в разветвленной повествовательной форме отражает тот процесс, который происходит при взаимодействии читателя с любыми вымышленными мирами: он может быть сколь угодно сильно вовлечен в происходящее и искренне сопереживать героям, примерять их эмоциональный опыт на себя, но с последствиями этого моделирования уже «в реальности» не сталкиваться. Так разветвленная повествовательная форма «отражает» и читательский опыт в целом.
Обратимость событий предполагает «удвоенный» эмоциональный отклик читателя: сначала он реагирует на трагическое событие как на завершенное и неизменяемое, затем – уже в другой вариации – сильный эмоциональный отклик вызывает сама возможность внезапного «воскрешения»
героя. Эмоциональное подключение читателя, в таком случае, строится на балансировании между двумя этими откликами. Эти два отклика моделируются двумя разными событиями, каждое из которых состоит с другим в отношениях «дополнительной дистрибуции». Что это значит? С точки зрения фабулы такие события противоречат друг другу, не могут быть включены в единую линию; т.е. такие события указывают читателю на то, что фабула в такой повествовательной форме в ее целостности реконструирована быть не может (на такую особенность фабулы в разветвленном повествовании указывает, например, Б. Ричардсон [Richardson 2019, 133]).
При этом и одно, и другое событие становится событием рецептивным – но в первом и втором случае механизмы их функционирования различаются. В первом случае событие создается необратимостью произошедшего («смерть»). Во втором же случае рецептивным событием становится не само по себе происшествие, а скорее его отсутствие; но даже и не само отсутствие, но отсутствие в связке с представленным в другой вариации прямо противоположным событием. Таким образом, рецептивное событие в такой модели создается не самой повествовательной линией, а пространством «стыка», «сцепки», «шва» между разными повествовательными линиями.
Такая работа с событийностью не случайно напоминает идею кинематографического монтажа – с его вниманием к эффектам, рождаемым не самим изображением как таковым, а соединением этих изображений. В контексте обратимости все эффекты, производимые на читателя этим приемом, тоже создаются именно на стыке нескольких линий: эмоциональная «раскачка», иллюзия всесилия («все обратимо»), иллюзия безграничного и свободного выбора, не предполагающего последствий, ощущение «безопасности» – все это возникает в тот момент, когда одна линия (в воображении читателя) встречает другую и начинает «переглядываться» с ней.
Кинематографический эффект усиливается в тот момент, когда обратимости начинают подвергаться не только трагические события, о которых речь шла прежде, но и те события, которые «в реальности» тоже могут быть обратимыми. Так, в конце одной из глав (примерно в середине романа) любовный союз двух персонажей распадается – это, кажется, нередкий для романа Остера финал главы. Однако уже в начале следующей главы, продолжающей эту линию, читатель узнает, что те двое, что только что разошлись, уже успели сойтись обратно… Эффект обратной перемотки дополнительно усилен: в конце предшествующей главы они не только разошлись, но и уехали из города, попрощавшись с главным героем (о чем он очень сожалел – т.е. это событие было дополнительно аффективно ор-кестрировано). Как уже можно догадаться, в начале следующей главы они не только сходятся, но и возвращаются обратно в город, к главному герою. Все мгновенно оборачивается вспять – так, как будто никаких изменений (и связанных с ними переживаний) вовсе не было.
Обратимость событий в целом производит игровой эффект: если что-то не получилось в одной «жизни», другая станет новой попыткой. Но разветвленная форма не только расширяет границы возможного, но и на- кладывает новые, собственные, ограничения. Повествовательные миры, в которых фактически ни одно происшествие не становится событием в классическом его определении (т.е. необратимым), наделяются потому высокой степенью непредсказуемости, которая в свою очередь затрудняет моделирование нарративных ожиданий у читателя. При взаимодействии с линейной формой читатель строит собственные ожидания с опорой на то, что в повествовании уже представлено и что в рассказанной истории уже произошло. Разветвленная форма вынуждает его действовать иначе: т.е. учитывать и те варианты, которые связаны с возможностью возвращения к исходной точке уже свершившегося, казалось бы, события. В результате у читателя формируется ощущение, что ничего не свершается «до конца», ничто не имеет законченного оформления и застывшего характера: все происходящее в таких мирах наделяется текучестью как свойством, принципиальной подвижностью и непредсказуемой изменяемостью, с которой читателю приходится взаимодействовать, имея в виду, что любое из уже представленных событий может быть «перезаписано» и изменено.
Обратимость событий, таким образом, расширяет горизонт читательских ожиданий, но делает их все менее устойчивыми. При всем ощущении «всесилия» читатель оказывается в ситуации принципиальной невозможности прогнозирования будущих событий, которые произойдут с героем: он никогда не знает, какое из представленных событий будет обращено вспять, а какое останется неизменным; какую ситуацию в жизни героя еще можно будет переиграть, а с какой предстоит смириться; исходя из какого положения вещей ему необходимо формировать дальнейшие ожидания <…> – все остается для него в зоне принципиальной неопределенности. Эта неопределенность влияет и на эмоциональное взаимодействие с происходящим, в котором высокая степень условности («все обратимо») соседствует с высокой же степенью непредсказуемости, а потому – более непосредственным (связанным с эффектом неожиданности) откликом.
Разнонаправленность воздействия на читателя, формируемого при помощи обратимости событий, только усиливается за счет взаимодействия обратимых событий и общего развития линии героя: перед нами роман воспитания, и в каждой линии мы наблюдаем становление героя, последовательно проходящего все этапы взросления. Такая – самая общая – канва событий в каждой линии принципиально неизменна: если на одном «отрезке» читателю показывают детство героя, то на втором его ждет уже юность, и это время вспять уже не обратить. Такой принцип конструирования основной канвы событийности характерен для каждой из предложенных четырех романных линий, т.е. является базовым для всей конструкции.
В целом, как получается, движение героя устремлено в будущее, и репрезентация его опыта в этом отношении жанрово конвенциональна. Он, как и полагается герою романа воспитания, проходит все этапы становления, сталкиваясь с испытаниями, искушениями, противниками и помощниками, задаваясь вопросами, ища на них ответы. Но совсем иные испытания предлагаются читателю – в тот момент, когда эта жанровая конвенция воплощается в форме разветвленного повествования. И главным «испытанием» для него, наверное, и становится внутренняя противоречивость событий: одни – устремлены в будущее (в соответствии с жанровой конвенцией), другие – оборачиваются вспять (в соответствии с логикой повествовательной формы). Линейность жизни героя, которая сохраняется в каждой из вариаций, становится «подводным течением» в романе. Оно дополнительно и дезориентирует читателя, и делает его опыт более разнородным, основанным на балансировании между, казалось бы, противоречивыми эффектами и привычками: ясностью (безопасностью) и непредсказуемостью, свободой выбора и зависимостью (ограниченностью), линейностью (жизни героя, собственного чтения) и нелинейностью репрезентации.
Из сказанного прежде может сложиться впечатление, что нарративная форма разветвленного повествования концентрируется прежде всего на проработке возможного будущего героя, как будто бы продвигаясь все время вперед во временном потоке, создаваемом в повествовании, то есть говоря о том, что героя ждет, и прикладывая усилия к тому, чтобы показать этот будущий опыт во всей его многомерности и (иногда) непредсказуемости. Вместе с этим не меньшее значение для этой повествовательной модели имеет и конструирование прошлого, тоже и парадоксально непредсказуемого.
В этом смысле показательна структура нескольких из рассматриваемых произведений. Так, «Случай» Кесьлевского, при том что повествовательно представляет собой разветвленную форму в чистом виде, отмечен еще одним усложнением, выходящим за пределы только «расходящихся тропок». Фильм начинается с эпизода, рассказывающего об авиакатастрофе, в которую попадает главный герой и в которой он гибнет: только после этого эпизода запускается механизм «разветвления», демонстрирующий поворотный момент в судьбе героя (он бежит на поезд, и мы пока не знаем, успеет он или нет).
Получается, что в «Случае» мы имеем дело не только с разветвленной, но и с частично реверсивной повествовательной формой, предлагающей нам сначала узнать о гибели героя, а затем увидеть варианты его пути. Кажется, что такая форма наделена дидактическим эффектом: герой гибнет, а значит, путь, который он пройдет в дальнейших событиях, все время будет восприниматься зрителем под знаком уже показанного финала. Обратное повествование такого типа как будто бы заставляет зрителя «подгонять под ответ» все действия героя, какими бы они ни были, все время иметь в виду конечность истории и определенность предложенного финала.
Обратная форма, в прямом противопоставлении идее разветвленного повествования, очень жестко ограничивает зрительские ожидания и зрительское моделирование развития дальнейшего действия: что бы ни произошло, какой бы выбор ни был сделан героем, он все равно приведет его к гибели, он все равно будет трагическим, воспринимаемым скорее как «наказание». Но в фильме Кесьлевского мы имеем дело не только с обратным повествованием – скорее с комбинацией двух нарративных мо- делей, а потому эффект обратного повествования, только что описанный, трансформируется и даже отчасти снимается. Начальная сцена, которая и указывает на финал всей истории, полностью его не раскрывает, оставляя зрителя скорее в неполном понимании того, что в действительности с героем произошло. Она остается лакунарной, т.е. предполагает большую зрительскую активность, большее зрительское соучастие в моделировании развития истории, поскольку это финальное событие не описывается до конца.
В действительности, зрителю сначала нужно преодолеть весь многолинейный путь вместе с героем, чтобы убедиться в том, что начальная сцена рассказывала о его гибели. Так, начальная сцена показывает только часть (начало) события гибели, не «проговаривая» его до конца, обрывая в тот момент, когда зрителю должно стать ясно, что же в действительности произошло. Продолжения этого события (вторую часть) зрителю придется ждать долго: оно возобновится лишь в финале, когда мы и увидим гибель героя, тем самым замкнув повествовательное кольцо. Разрыв финального события, две части которого поставлены соответственно в начало и конец предложенного повествования, открывает нам еще одно измерение повествовательной формы, в пандан к разветвленному нарративу и к реверсивному повествованию. «Кольцо», возникающее таким образом, преобразует предложенную повествовательную фигуру в циклическую, а значит, указывает на возможное повторение и проигрывание событий, которые только что были проиграны и пережиты зрителем вместе с главным героем. Само наличие финальной точки (пусть и представленной в весьма усложненном виде) все-таки не линеаризует всю предложенную Кесьлевским повествовательную конструкцию.
Циклическая форма трансформирует и понимание времени, в котором происходят представленные события: вне «кольцевой рамки» они создают линейную прогрессию, предлагая выбор и герою, и зрителю. Но внутри «кольцевой рамки» те же события перемещаются в уже произошедшее, сохраняя все тот же статус потенциального. В таком случае все «варьирующиеся» линии оказываются лишь воспоминанием героя, возникающим в тот момент, когда он гибнет: он осмысляет, таким образом, ложность или верность сделанного им выбора и возможность иного развития событий в прошлом.
Такое воздействие дополнительно интенсифицируется еще одним преломлением «обратимости» в разветвленной форме. Время в повествовании у Остера усложнено не только за счет разветвленной формы. Гораздо большим усложнением становится то, как организовано время внутри каждой из линий. Казалось бы, каждая из представленных «тропок» могла бы быть линейной (на то указывает и жанр, с конвенций которой Остер начинает роман), но время внутри «линии» иногда течет иначе: начиная идти последовательно, от десятилетия к десятилетию, от поколения к поколению, оно вдруг сходит с линейных рельсов и образует совершенно иные узоры, скорее напоминая хичкоковское «Головокружение» и его же спираль (завиток на голове главной героини). Усложнение течения време- ни в повествовании размечено возрастом главного героя (Арчи): вот ему уже исполнилось семь (и повествователь с радостью делится с нами этой новостью), вокруг полно событий, наполняющих этот возраст, а вот ему же – но шесть, затем – пять, затем снова – семь с половиной. Время то идет вспять, вслед за сокращением возраста главного героя, то вновь нарастает, возвращая читателя к одним и тем же событиям. На реверсивность указывает и само название романа – «4321», впоследствии, правда, нарушая читательские ожидания, не выполняя обещаний, данных этим паратекстом.
Обратимость событий в разветвленной повествовательной форме, таким образом, предполагает создание сразу нескольких эффектов, но предполагает и переосмысление читательского опыта: она значительно расширяет сферу читательских нарративных ожиданий, но и делает их куда менее устойчивыми, формируя у читателя ощущение непредсказуемости того, что произойдет в повествовании дальше. Непредсказуемость как эффект распространяется не только на то, что ждет читателя в «будущем» героя, но и на его же прошлое: оно тоже может быть «переписано», но когда и как – неизвестно. Обратимость событий в такой форме, вместе с этим, соседствует и с другими неестественными движениями времени, только интенсифицируя эффект непредсказуемости и переживания читателем мира, движущегося одновременно в разные стороны.
Переживание непредсказуемости развития событий связано и с тем, как разветвленное повествование оперирует теми нарративными эмоциями, которые исследователи (вслед за М. Стернбергом) называют «универсалиями»: ими являются «саспенс», «любопытство» и «удивление» [Keen 2015, 153]. Саспенс (по Стернбергу) возникает в ситуации «конкурирующих сценариев будущего» [Sternberg 2003, 327]: повествование не предоставляет читателю достаточно информации, чтобы создать у него уверенность в том, что произойдет дальше. Оно, напротив, намеренно создает неопределенность и вариативность будущего. Любопытство как нарративная эмоция возникает из стимулирования интереса к уже произошедшему, но прежде не рассказанному, а удивление – из необходимости переоценить и рассказанное, и произошедшее.
Размышляя о функционировании саспенса в линейных повествованиях, Райан подчеркивает, что его интенсивность обратно пропорциональна количеству возможностей, открывающихся перед героем и перед читателем [Ryan 2001, 142].
Так, в начале хронологически представленного сюжета предполагаемое будущее героя наполнено возможностями, ему открывающимися, тогда как по мере развития действия эти возможности становятся все более и более ограниченными. В частности, когда обозначается цель, к достижению которой он стремится, перед ним в конце концов остается только два «пути»: он либо достигнет заявленной цели, либо нет. Такая работа с потенциальным, как мы видим, связывается Райан с моделированием читательских эмоций. Разветвленное повествование, интенсифицируя размышление о потенциальном, меняет и работу с читательской эмоциональностью. В этом смысле эффект непредсказуемости, который был отмечен ранее, подкрепляется и на уровне моделирования нарративных эмоций, среди которых удивление – одна из универсалий.
Так, в разветвленном повествовании саспенс не работает тем образом, который был описан Райан. Напротив: он уступает место удивлению, которое возникает благодаря не сокращению спектра возможностей, открывающихся перед героем, а их существенному и прогрессивному расширению. Впрочем, есть и еще одно отличие: возможности, о которых идет речь, в разветвленном повествовании открываются не столько перед героем (и не столько заметны ему), сколько перед читателем; именно для него они оказываются значимыми и ощутимыми; позволяет ему, кроме того, переоценить уже прежде представленные в нарративе события.
Вместе с этим, наряду с явным преобладанием удивления как нарративной эмоции в таком типе повествования, саспенс не отступает, скорее – трансформируется, по-своему отвечая специфике разветвленного повествования, только теперь на уровне производства эмоций. В случае с разветвленным повествованием можно говорить о том, что Райан называет «метасаспенсом», когда саспенс возникает не вслед за тем, что происходит непосредственно с героем, но как следствие внимания к «приключениям» самого письма. Иными словами, читатель как будто бы задает себе вопрос: что нам предложат еще? Что еще выдумают? И этот вопрос – указывающий на метарефлексивность такого типа повествования – движет читательским эмоциональным взаимодействием с повествованием, переключая его внимание с героя на повествователя, отдаляя от первого и устанавливая иной тип взаимодействия (и соотношения, а как следствие – и мимесиса).
Обратимость событий в разветвленной повествовательной форме любопытна и тем, что вступает в имплицитный конфликт не только с классическим понятием нарративного события, но и с идеей повествования в целом. Повествование в самом общем смысле предполагает, что нарратор уже знает окончание рассказываемой истории, что он говорит о том, что уже случилось и что – потому – определенным образом завершено. На завершенность рассказываемой истории нередко намекает читателю и сам нарратор, по ходу рассказа заглядывая в будущее (тому служат пролепсисы – в терминологии Ж. Женетта [Женетт 1998, 100]) или делая это более имплицитно.
С этой точки зрения примеры из Кесьлевского и Остера разнятся: первый как будто делает намек на финал событий, пусть и не договаривает его до конца. Остер же на протяжении всего романа ни разу не использует пролепсисы, стремясь никак не указывать на то, что произойдет в будущем, сохраняя его непредсказуемость, попутно делая непредсказуемым и прошлое. Обратимость событий, получается, усиливает создаваемую для читателя иллюзию, что все разворачивается и происходит «здесь и сейчас» без известного заранее исхода битвы – ни читателю, ни (как будто бы) даже нарратору. Интрига эта будет сохранена вплоть до окончания романа: и вновь – теперь уже как у Кесьлевского – мы встретим «кольцо» (повторение), но в несколько ином виде. В финале окажется, что все представленное прежде – лишь уже написанный роман главного героя, а значит – все вновь обратимо, все вновь «начинается с конца».
Список литературы Миры с непредсказуемым прошлым: обратимость события в разветвленном повествовании
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2006. 269 с.
- Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике. В 2 т. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1998. 472 с.
- Зенкин С.Н. Шесть доказательств того, что литература полезна в обычной жизни (на примере шести понятий из теории литературы) // Arzamas. 2020. URL: https://arzamas.academy/materials/1624 (дата обращения 10.01.2024).
- Шмид В. Событийность, субъект и контекст // Событие и событийность: Сборник статей /под ред. В. Марковича и В. Шмида. М.: Intrada, 2010. С. 13-23.
- Huhn P. Functions and Forms of Eventfulness in Narrative Fiction // Theorizing Narrativity / Ed. by J. Pier, J.A. Garcia Landa. Berlin: De Gruyter, 2008. Pp. 141-163.
- Keen S. Empathy and the Novel. Oxford: Oxford University Press, 2007. 274 p.
- Keen S. Narrative Form. New York: Palgrave Macmillan London, 2015. 211 p.
- Richardson B. A Poetics of Plot for the Twenty First Century: Theorizing Unruly Narratives. Columbus: Ohio State University Press, 2019. 198 p.
- Ryan M.-L. Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore: John Hopkins University Press, 2001. 399 p.
- Sternberg M. Universals of Narrative and Their Cognitivist Fortunes (I) // Poetics Today. 2003. Vol. 24. № 2. Pp. 297-395.