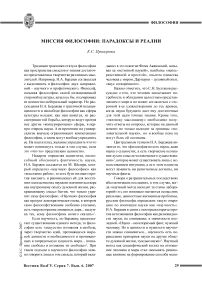Миссия философии: парадоксы и реалии
Автор: Прозорова Екатерина Сергеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974140
IDR: 14974140
Текст статьи Миссия философии: парадоксы и реалии
Традиция трактовки статуса философии как пространства смыслов и знания достаточно представлена в творчестве различных мыслителей. Например, Н.А. Бердяев соглашался с выделением в философии двух направлений – научного и профетического. Философ, называя философию самой незащищенной стороной культуры, казалось бы, подчеркивал ее ценностно-нейтральный характер. Но рассуждения Н.А. Бердяева о трагичной незащищенности и несвободе философии как сферы культуры исходят, как нам кажется, из рассмотрения той борьбы, которую ведут против нее другие «конкурирующие» сферы, в первую очередь наука. А ее претензии на универсализм вначале ограничивают компетенцию философии, а затем могут вообще упразднить ее. На наш взгляд, желание упразднить что-то может возникнуть только в том случае, если это «что-то» представлено ценностно.
Недаром определяя сциентизм, неспособный обосновать фактичность науки, Н.А. Бердяев ссылается на М. Шелера, который определял «научную философию» как «восстание рабов», то есть бунт низшего против высшего, и рекомендовал ей для восстания господства над науками подчиниться вере как внутреннему опыту духовной жизни, раскрывающему смысл бытия, что только укрепит саму философию. «Научная» философия как продукт демократического века, в котором само философствование особенно утеснено, есть «мировоззрение лишенных дара... выдумка тех, кому философски нечего сказать»1.
Если научность, по Бердяеву, предполагает существование единого метода, то философия есть «искусство познания в свободе, через творчество идей, противящихся мировой данности и необходимости и проникающих в запредельную сущность мира... познание свободы и познание из свободы»2. При таком подходе к научности философии можно говорить лишь в том смысле, который вкла- дывал в это понятие Фома Аквинский, называя ее «истинной наукой», наиболее «непосредственной и простой», опытом единства человека с миром. Дар науки – духовный опыт, «вкус сотворенного».
Важно отметить, что С.Н. Булгаков рассуждал о том, что человек испытывает потребность в обладании целостным представлением о мире и не может согласиться с отсрочкой в ее удовлетворении до тех времен, когда наука будущего даст ему достаточные для этой цели точные знания. Кроме того, «человеку мыслящему» необходимо получить ответы на вопросы, которые на данный момент не только выходят за границы «положительной науки», но и вообще пока не могут быть ей осознаны.
Центральным тезисом Н.А. Бердяева является то, что «философия не есть наука, даже наука о сущностях, а есть творческое осознание духом смысла человеческого существова-ния»3, которое может существовать лишь с использованием интуиции, а ее в этом плане не могут заменить ни религиозные догматы, ни научные факты.
Говоря о разрушительных последствиях абсолютизации последних, в том случае, когда «научный метод выходит за стены лабораторий» и с его помощью пытаются осмыслить реальные, ценностные жизненные проблемы, русские философы определяли такую операцию по имитации науки как «научность». Н.А. Бердяев в связи с нею предостерегал против истолкования философии как разновидности науки, не сомневаясь в значимости последней. «Наука – неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться... научность есть перенесение критериев науки на другие области духовной жизни, чуждые науке»4. Научный метод как специфический взгляд на отношение человека и мира стал оказывать решающее влияние на формирование способа мыш- ления и в других сферах деятельности, и даже в обыденном сознании.
В этой тенденции к сциентизации и рационализации ценностных аспектов человеческой жизни Н.А. Бердяев видел признаки глубокого кризиса сознания: «Ныне и идеализм, который прежде был метафизическим, стал наукообразным или мнит себя таким... так создают для науки объект по существу вненаучный и сверхнаучный, а ценности исследуют методом, которому они неподсудны. Научно ценность не только нельзя исследовать, но нельзя и уло-вить»5. Не учитывающая этих дефиниций тенденция к «онаучиванию» философии основывается на вере в то, что наука есть «верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку все должны покоряться, что ее запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно... Критерий научности заключает в тюрьму и освобождает из тюрьмы все, что хочет и как хочет»6.
Рассматривая еще один аспект проблемы соотношения философии и науки, Н.А. Бердяев указывал, что «у Достоевского есть потрясающие слова о том, что если бы на одной стороне была истина, а на другой Христос, то лучше отказаться от истины и пойти за Христом, то есть пожертвовать мертвой истиной пассивного интеллекта во имя живой истины целостного духа»7.
Так разводил эти понятия мыслившей в этой же парадигме выдающийся антрополог К. Лоренц, описывая разрушение традиций под натиском рационализма. К этому приводит некритически перенесенная на решение сложных ценностных проблем установка, «совершенно законная в научном исследовании – не верить ничему, что не может быть доказано». М. Борн также указывает на опасность такого скептицизма «молодежи научной формации» в приложении к культурным традициям, которые содержат огромный фонд информации, не подтверждаемой научными методами. С.Г. Кара-Мурза рассматривает предпринимавшуюся И. Гете попытку сочетания рационального подходка к миру с ценностными ориентациями в особого рода научном мировоззрении как шаг по преодолению «уязвимости освобожденного от традиционных догм рационального мышления», которое сам немецкий мыслитель метафорически определял как «беззащитность разума перед происками дьявола».
Можно сделать вывод, что в философии ХХ в. постепенно набирает силу несциенти-ческая тенденция в самоопределении философии: философия освобождается от наукоцентристской трактовки собственного предмета, осознает себя как иной, в чем-то альтернативный науке тип размышления. Основным фактором, обусловившим этот процесс, было все более отчетливое осознание границ собственно научного способа познания. В этих условиях философии оказалась необходима «реабилитация ненаучности», понимание ценности размышления, выходящего за пределы чисто логического, дискурсивного взгляда на мир. Это момент становления философии как действительно самостоятельного способа понимания мира, наряду с естествознанием и религией.
Философию, с одной стороны, как определенную форму освоения Мира необходимо считать наукой, но, с другой стороны, философия отличается от чисто теоретического отношения – она в то же время представляет собой мировоззрение; поскольку выражает отношение человека к миру, поэтому для нее существенен аспект ценностно-практического освоения мира человеком», поэтому она представляет собой «научное мировоззрение и мировоззренческую науку»8.
Список литературы Миссия философии: парадоксы и реалии
- Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения//Философия свободного духа. М., 1994. С. 230-235. 2 Там же.
- Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 1989. С. 265.
- Каландия И.Д. Философия как самосознание культуры. Философия и человек//Отчуждение человека в перспективе глобализации мира: Сб. ст./Под ред. Б.В. Маркова. Вып. I. СПб., 2001. С. 32-47.