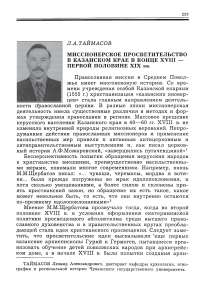Миссионерское просветительство в Казанском крае в конце XVIII -первой половине XIX вв
Автор: Таймасов Леонид Александрович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Образование: региональный аспект
Статья в выпуске: 3 (44), 2003 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются этапы развития миссионерского просвещения в Среднем Поволжье, описывается деятельность самых известных просветителей, а также противопоставление реформаторских и консервативных тенденций миссионерской деятельности.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222075
IDR: 147222075
Текст научной статьи Миссионерское просветительство в Казанском крае в конце XVIII -первой половине XIX вв
Православная миссия в Среднем Поволжье имеет многовековую историю. Со времени учреждения особой Казанской епархии (1555 г.) христианизация «казанских иноверцев» стала главным направлением деятель ности православной церкви. В разные эпохи миссионерская деятельность имела существенные различия в методах и формах утверждения православия в регионе. Массовое крещение нерусского населения Казанского края в 40—60 гг. XVIII в. не изменило внутренней природы религиозных верований. Непродуманные действия православных миссионеров и применение насильственных мер привели к активным антицерковным и антиправительственным выступлениям и, как писал церковный историк А.Ф.Можаровский, «завершились пугачевщиной»1
Бесперспективность попытки обращения нерусских народов в христианство внешними, преимущественно насильственными мерами, понимали многие современники. Например, князь М.М.Щербатов писал: «... чуваши, черемисы, мордва и вотяки... были прежде погружены во мрак идолопоклонения, и хотя сколько увещеваниями, а более силою и склонены приять христианский закон, но обращение их есть такое, какое может невольное быть, то есть, что они внутренно остаются по-прежнему идолопоклонниками»2.
Мнение М.М.Щербатова прозвучало тогда, когда во второй половине XVIII в. в условиях оформления екатерининской политики просвещенного абсолютизма среди высшего православного духовенства и в правительственных кругах преобладающей стала идея христианского просвещения. Следует заметить, что просветительские идеи высказывали ‘еще первые казанские архиепископы Гурий и Гермоген, пытавшиеся организовать обучение детей поволжских народов при архиерейском доме, а в начале XVIII в. были попытки создания архи-
ТАЙМАСОВ Леонид Александрович, докторант кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета.
ерейских школ, и более полувека в том же столетии просуществовали новокрещенские школы. Их судьба имела один безотрадный исход: все они закрывались, не оставляя каких-либо заметных следов своей деятельности.
Постпугачевская эпоха в деле миссии (1775—1800 гг.) не ознаменована особыми преобразованиями в религиозной сфере. Институт миссионеров был упразднен, а миссионерские функции переложены на членов церковного причта, которые не оказались готовыми к их осуществлению. В среде православного духовенства наметились разногласия в подходах к решению вопросов христианизации и русификации новокрещеных народов. Одна группа выступала за использование жестких, насильственных методов утверждения православия при содействии государственных институтов власти, другая — ратовала за их христианское просвещение. Следует отметить, что вся дальнейшая история православного миссионерства в Среднем Поволжье проходила в борьбе между миссионерскими «консерваторами» и «реформаторами».
Просветительское направление в миссионерстве стало превалировать в связи с развитием семинарского духовного образования. Казанская и Нижегородская духовные семинарии в последней четверти XVIII в. стали центрами переводческой деятельности. В 1783—1794 гг., когда Нижегородскую епархию возглавлял епископ Дамаскин (в миру Д.Е.Семенов-Руднев), при местной семинарии функционировала переводческая комиссия. Понимая, что задачу утверждения новокрещеной паствы в христианской вере невозможно решить без участия представителей самих народов, он организовал их обучение в семинарии. Видимо, первыми семинарскими слушателями стали выпускники существовавших в этот период новокрещенских школ. Следует заметить, что многие христианские переводы второй половины XVIII — первой половины XIX вв. были выполнены воспитанниками нижегородской духовной школы. Эти переводы использовались «инородческими проповедниками», получившими профессиональную подготовку в стенах той же нижегородской семинарии для ведения миссионерской, богослужебной и проповеднической деятельности. В эту же эпоху казанскую кафедру возглавляли такие же как Дамаскин ревнители просвещения: Пуцек-Григорович, под чьим руководством были изданы первые чувашская и марийская грамматики, Амвросий (Подобедов), при котором Казанская семинария была возведена в ранг академии. Опыты христианского просвещения в последней четверти XVIII в. имели лишь экспери- ментальный характер. Они осуществлялись в стенах духовных семинарий и отдельных церквей. Крещеное нерусское население не испытало воздействия просветительских идей. Поэтому этот этап христианского просветительства, на наш взгляд, уместно назвать «экспериментальным».
Границу следующего этапа в истории православной миссии в Среднем Поволжье можно обозначить вполне определенно. В декабре 1800 г. в синодальной типографии был отпечатан первый катехизис на чувашском языке. Издание книги стало возможным благодаря митрополиту Амвросию, переведенному из Казани в Санкт-Петербург в 1799 г., и ярославскому архиепископу Павлу, которые не только выступили инициаторами публикации чувашского катехизиса, но осуществили этот проект за счет своих личных сбережений3 Свидетельства его использования на практике отсутствуют. Вполне возможно, что некоторые священники пользовались катехизисом во время проповедей в чувашских приходах. Возможность его применения в миссионерско-просветительской практике была крайне ограничена как по причине недостатка священнослужителей, знающих язык своих прихожан, так и из-за сплошной неграмотности населения. Тем не менее издание катехизиса на «инородческом языке» имело принципиально важное значение в истории миссионерства. Оно показало новое перспективное направление в развитии христианского просвещения. Вскоре этот опыт был востребован.
Массовые обращения нижегородских крещеных татар в 1802 г. на имя императора с просьбой дозволить вернуться в ислам побудили духовную и светскую власть вспомнить об опыте издания чувашского катехизиса. В ходе следствия по делу «отступников» обнаружилось, что главная причина, толкнувшая татар обратиться к монарху о смене веры, заключалась в совершенном незнании догматов православия. Правительство обратилось к духовенству с требованием принять меры к наставлению и оказанию влияния на «впавших в искушение» татар. Митрополит Амвросий, имевший к тому времени большой опыт миссионерско-просветительской деятельности среди крещеных нерусских народов, выступил с конкретными предложениями по предотвращению дальнейшего развития отступничества. В донесении министру внутренних дел от 3 января 1803 г. он перечислил способы утверждения новокрещеных татар в христианской вере. Прежде всего предполагалось перевести на татарский язык символ веры и некоторые молитвы; в нижегородской семинарии начать обучение татарскому языку лиц, которые впоследствии могли быть назначены священнослужителями к крещеным татарам; духовные лица должны были увещевать «отступников» примером и делом, «руководствуясь кротостию и снисхождением, старались приводить сих непросвещенных к познанию истинныя веры...»4
Просветительские меры получили одобрение монарха. В целях предотвращения отступничества среди других крещеных народов было решено осуществить переводы и на другие языки. Согласно высочайшей воле 22 января 1803 г. Священный Синод разослал указы в 14 епархий, в которых проживало нерусское крещеное население. В указах предписывалось, чтобы епископы «позаботились о переводах катехизисов и церковных молитв на татарский, мордовский, чувашский, черемисский, вотятский... языки и чтобы по изготовлению сих переводов неукоснительно представить их в Синод»5 В течение 1803—1806 гг. осуществлялись переводы христианских книг и издание их на языках нерусских народов. В мае 1803 г. казанский архиепископ Серапион сообщил в Синод о переводах катехизиса, десятисловия и молитв на татарский, чувашский, марийский и мордовский языки и препровождении их в Санкт-Петербург. По мнению преосвященного, татарский, чувашский и марийский переводы были выполнены более квалифицированно и проверялись знатоками этих языков. Что же касается мордовских переводов, то Серапион высказал сомнение в том, что академия ручается за их верность, «поколику перевод сей чиним был учениками нижних классов, кои ...’порядочно мордовского разговора не знают, почему для поверки сего на мордовском языке перевода и вызываются в Казань довольно знающие сей язык священники и диаконы»6 В связи с тем, что мордовские селения большей частью находились в Симбирской губернии и весенний разлив р.Волги препятствовал приезду знатоков языка в Казань, эти переводы не были отправлены в Синод до их надлежащей проверки.
По поводу переводов на удмуртский язык Серапион сообщил, что «поелику в Казанской епархии вотяцких сел не имеются и в академии нет ни одного ученика, который бы разумел вотяцкий разговор и переводу оным молитвам и прочему не учинено»7. Вскоре татарский, чувашский, марийский переводы были изданы и направлены в церкви для практического их применения. В частности, в декабре 1804 г. тиражом 2 400 экз. публиковали краткий катехизис на чувашском языке8 По получении книг местные консистории предписывали приходским священнослужителям пользоваться ими ^в дни
Миссионерское просветителъств — казанском крае воскресные и праздничные в церквях перед начатием литургии...»9.
Дальнейшее развитие миссионерское просветительство получило с учреждением 6 декабря 1812 г. Российского Библейского общества (РБО). Главной его целью в Казанском крае было распространение Св. Писания среди российских народов. РБО было, по определению А.Н.Пыпина, «одним из любопытнейших явлений в русской общественной жизни времен императора Александра I»10. В исторической литературе дореволюционного периода деятельность Общества представлена в связи с изучением общественно-политических процессов в эпоху Александра Iй Для советской историографии по идеологическим соображениям эта тема, видимо, не представляла особого научного интереса, поэтому она затрагивалась вскользь12. Хотя нет специальных исследований о Российском Библейском обществе, но отдельные сведения о его деятельности находят отражение в трудах по истории русской церкви13. Некоторые документы о переводе христианских текстов на мордовский язык были опубликованы В.А.Юрченковым14
20 января 1818 г. состоялось торжественное открытие Казанского отделения РБО. Вскоре были учреждены 15 его сотовариществ: в Чистополе, Козмодемьянске, Цивильске, Ца-ревококшайске, Ядрине, Ишаках, Чебоксарах, Алатыре, Сызрани, Ардатове, Курмыше, Самаре, при Казанском университете, Казанской семинарии, Оренбургском уездном училище. Сотоварищества должны были оказывать содействие в распространении христианских знаний среди населения. К работе над переводами были привлечены священники нерусских приходов, которые хорошо знали местные языки.
Работа над переводами Нового Завета началась сразу же после официального открытия Казанского отделения. В первое время переводчики испытывали большие трудности. По выражению казанского архиепископа Амвросия (Протасова), то был «тяжкий труд»15. Священники, взявшиеся за переводы Писания, жаловались Амвросию, что в языках местных народов сложно найти многие «слововыражения», чтобы сохранить смысл текстов оригинала без искажения15 Переводчики занимались как бы двойным переводом — сначала на русский язык, а затем на чувашский, марийский и т.д. Сложность заключалась и в том, что сами священники плохо знали старославянский язык и не всегда правильно понимали смысл текста. Например, А.Альбинского особенно беспокоило невольное искажение смысла христианского текста. Он писал: «...тем более нужно, дабы при самом начале распространения христианства не возникло в сердцах сего народа и терние заблуждений»17 Первым из священников, занятых марийскими переводами, завершил работу А.Альбинский. 10 февраля 1819 г. Амвросий донес президенту РБО об окончании работы над переводом Св. Евангелия от Матфея18
Работы над переводами Нового Завета продолжались более двух лет. 12 мая 1820 г. Амвросий донес А.Н.Голицыну о завершении переводов Нового Завета на чувашский, черемисский, мордовский языки и о желании некоторых священнослужителей продолжить перевод Ветхого Завета19. Книга на чувашском языке под названием «Святой Евангель» была опубликована в 1820 г. в типографии Казанского университета. В связи с типографскими затруднениями марийские и мордовские переводы комитет РБО решил печатать в Санкт-Петербурге, куда были направлены для чтения корректуры и сами переводчики Андрей Альбинский и Андрей Охотин20
В 1820—1823 гг. активность переводческой деятельности Казанского комитета возросла. Позже наступил спад, который был вызван многими причинами и, прежде всего, негативным отношением к переводческому делу некоторых высокопоставленных чиновников и духовных лиц. В Казанском отделении РБО неожиданно против издания переводов выступил попечитель Казанского учебного округа М.Л.Магницкий, который в письме к митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Серафиму от 24 мая 1824 г. писал о своем недовольстве по поводу некачественных переводов Нового Завета, в частности, на персидский язык, в котором содержались «богохульные выражения»21. М.Л.Магницкий считал, что «таковые могут быть и в других переводах, особенно на языках диких народов»22 Он заявил о своем решении прекратить членство в РБО, так как персидский перевод продолжали распространять, несмотря на обнаруженные ошибки и сделанные замечания23
Письмо М.Л.Магницкого возмутило руководителей Общества и вызвало переполох в его комитете. Скорее всего, «возмутитель спокойствия» предвидел неминуемый конец Общества, так как политические события того времени явно свидетельствовали об усилении лагеря противников РБО, обвинявших его лидеров в размывании основ православия. Закат Библейского общества лишил сторонников христианского просвещения российских народов моральной и финансовой поддержки. Период деятельности Казанского комитета РБО в истории православного миссионерства можно считать временем шрфокого использования просветительских методов. Именно на это время приходится начало применения переводной христианской литературы, учреждение классов татарского, чувашского и марийского языков при духовных учебных заведениях, попытка организовать школьное приходское образование.
Многие просветительские начинания этого периода исходили от церковного начальства. Большой вклад в развитие миссионерского дела внес казанский архиепископ Амвросий (Протасов). Он выступал за образование православного населения, для чего предлагал «учредить обучение чтению... хоть во дни воскресные и праздничные и свободный от работы для скорости и удобности по системе ланкастерской»24. Меры христианского просвещения в первой четверти XIX в. не были осуществлены в полном объеме, не получив и широкого распространения. Итоги переводческой деятельности РБО были весьма скромны, а качество переводов оставляло желать лучшего: их не могли читать и понимать ни священнослужители, ни прихожане. Очень верную, на наш взгляд, оценку деятельности РБО дал протоиерей А.Смирнов: «Как и в Казанском отделении, в сотовариществах дело распространения священных книг шло очень и очень слабо. Были деньги и достаточный запас священных книг, но не было спроса на них...»25. Спроса на эти книги действительно не было. По воспоминаниям священников, книги Св. Писания на языках нерусских народов Казанского края пылились на складах или же шли на обертку церковных свечей. В 1852 г., когда епархиальное начальство затребовало отчеты о книгах Св. Писания, находящихся у разных лиц по Казанскому и Симбирскому отделениям бывшего РБО, то оказалось, что они в больших количествах числились при церквях нерусских приходов без надобности26 Дело здесь было не только в несовершенстве переводов, а прежде всего в сплошной неграмотности новокрещеного населения. Нельзя начисто отрицать пользу переводов РБО. Они, несомненно, способствовали формированию письменности нерусских народов, создали базу для дальнейшего совершенствования грамматики языков.
С упразднением РБО закрылись источники финансирования переводческого и издательского дела, и оно, как впрочем и другие просветительские меры, оказалось на втором плане. В эпоху Николая I предпочтение отдавалось мерам принудительной, «прямой» христианизации и русификации, хотя непрек-ращающиеся «отпадения» крещеных нерусских народов и рост' антицерковных настроений заставляли идеологов православно- го миссионерства снова и снова возвращаться к просветительским идеям. Массовые отпадения крещеных татар в ислам и общественные моления новокрещеных народов в 1827 г. потребовали от властей принятия срочных мер для стабилизации религиозной ситуации в регионе.
Новый казанский архиепископ Филарет (Амфитеатров), на которого правительство и церковь возлагали большие надежды, сразу же после своего назначения в Казань развернул активную миссионерскую работу. Изучив конфессиональную ситуацию, он представил в Св. Синод подробный отчет и высказал ряд предложений по утверждению православия среди казанских «иноверцев». Синод по представлению Филарета 10 декабря 1829 г. принял решение об учреждении института особых миссионеров27 В указе от 3 января 1829 г. архиепископам тобольскому и казанскому предписывалось в соответствии с местными условиями продумать план миссии. 3 ноября того же 1829 г. Филарет представил в Синод план миссии для Казанской и соседних епархий28. Документ содержал три основных положения: перевод «Начатков христианского учения» на местные языки, приготовление и назначение в нерусские приходы способных пастырей, знающих язык прихожан, подготовку миссионеров в духовных семинариях.
План миссии, предложенный Филаретом, во многом повторял уже известные и апробированные меры. Пожалуй, новое было связано с подробной регламентацией учебного процесса при подготовке священнослужителей и миссионеров. Филарет предлагал подготовить необходимые учебные пособия, увеличить количество часов на обучение местных языков в семинарии и духовных училищах, поощрять учителей этих языков прибавкой жалования и предоставлением других преимуществ, «при разделении учеников на разряды успехи в сих языках принимать в уважение наравне с прочими языками»29. Для подготовки миссионеров Филарет предлагал ежегодно оставлять 9 чел. из выпускников семинарии (по 3 со знанием татарского, чувашского, марийского языков) для продолжения учебы еще в течение двух лет.
11 апреля 1830 г. Николай I утвердил указ об учреждении миссии в Казанской епархии. Однако многое из задуманного осталось нереализованным. Св. Синод не поддержал проект о специальной подготовке миссионеров, что, по мнению А.Ф.Можаровского, явилось одной из основных причин неудачи миссионерского дела30 В 30—40-е гг. XIX в. православная миссия в Казанском крае постепенно сворачивала просветительские проекты. Хотя в духовных учебных заведениях продолжалось обучение местным языкам, и даже были изданы учебные пособия для этих классов, но результатов не было. Редкие из священнослужителей занимались просвещением своих прихожан. Миссионеры не оказали никакого влияния на религиозное состояние новокрещеных. Попытки организовать приходские школы также потерпели неудачу. Например, в Чувашском крае до 30-х гг. XIX в. было открыто всего 5 приходских училищ, но и они существовали только на бумаге и практически бездействовали31 Только в конце 30-х—50-е гг. при поддержке удельного ведомства и Министерства государственных имуществ начали открывать начальные училища в селениях удельных и государственных крестьян. К началу буржуазных реформ в Казанской епархии насчитывалось всего 95 училищ, из них только 16 содержались приходами, остальные 72 относились к Министерству государственных имуществ, 6 были учреждены удельным ведомством и 1 — на средства помещика32
Эти школы на население в 1,5 млн чел. в Казанской губернии никакого просветительского воздействия не оказали. Крестьяне не хотели отдавать своих детей в училища, так как считали, что школа будет портить их детей: отучит их от крестьянского труда, нарушит их мировоззрение, сделает их «русскими». Помимо того, большинство выпускников, по словам И.А.Износкова, «оказывались в жизни пьяницами, взяточниками, сутяжниками»33 Естественно, крестьяне были против таких школ.
Епархиальное руководство в этот период явно не проявляло инициативы по вопросам христианского просвещения, склоняясь к мерам принудительным. Анализ архивных документов свидетельствует, что на 30—40-е гг. приходится наибольшее количество дел, по так называемым религиозным (церковным) преступлениям. «Отступники» от православия после безуспешных «увещеваний» приходских священников передавались в руки судебных органов и подвергались различным мерам наказания: ударам розгами и батогами, тюремному заключению, переселению в старорусские селения, ссылке в Сибирь. При этом следует отметить, что «религиозные преступления» рассматривались при участии высших государственных инстанций. Но жесткие меры утверждения нерусской паствы в православии только усиливали антицерковные настроения.
Среди наиболее видных идеологов Русской православной церкви (РПЦ), выступавших за обновление миссионерского дела, был архиерей Григорий (Постников). Возглавив полиэт- ническую Казанскую епархию в 1848 г., он основательно изучил историю казанских миссий. Среди бумаг Санкт-Петербургской духовной академии (РО РНЕ) имеется его записка «Об отпадениях крещеных татар», в которой содержатся критические замечания в адрес миссионеров, которые, по его мнению, значительно испортили дело. Например, как замечал преосвященный, после бесед миссионера Гурия отступников становилось даже больше34 Миссионеры так и не выполнили своей задачи, и этот институт сам собой перестал существовать. По справке духовной консистории оказалось, что «в Казанской епархии с 1859 г. нет ни одного миссионера из тех, кои были учреждены положением 1830 г.»35 Кризис православного миссионерства отмечал один из активных миссионеров Казанского края Е.А.Малов36 И.К.Смолич трудности миссионерства объяснял, в частности, «меняющимися законами о правах инородцев»37 Кризисная ситуация в миссионерском деле была характерна для середины XIX в. для всей РПЦ. Московский митрополит Филарет (Дроздов) в 1859 г. заявил, что идея миссионерства еще не совсем развита в Российском царстве, и рекомендовал заняться централизацией и пропагандой миссионерской деятельности38
Важным этапом в развитии миссионерства стала совместная работа архиепископа Григория и молодого бакалавра духовной академии Н.И.Ильминского. Для получения объективных сведений о мотивах отпадения в ислам крещеных татар казанский архиерей искал светского человека, свободно владеющего языком, умного и наблюдательного. Григорий обратился к руководству Казанской духовной академии, которое рекомендовало для такой деликатной и ответственной работы молодого бакалавра Н.И.Ильминского. По поручению архиепископа он совершил две поездки: осенью 1848 г. по Мамадыжскому уезду и в 1849 г. по населенным пунктам Чистопольского и Спасского уездов и представил подробный отчет.
Изучив религиозно-нравственное состояние епархии по разным источникам, Григорий заявил, что старые, принудительные методы привлечения к христианской вере и укрепления крещеных чувашей, марийцев, татар, удмуртов в православии совершенно не пригодны. Для изменения религиозной ориентации крещеных нерусских народов от веры предков к православию он считал необходимым «поколебать и истребить в них старую, языческую их веру»39 Успех православного миссионерства Григорий также связывал с христианским просвещением. Плодом совместного труда по обновлению миссис- нерского дела молодого Н.И.Ильминского и архиепископа Григория стал «Проект миссии для татар», представленный в Св. Синод в 1854 г., но по ряду причин так и нереализованный.
Как некоторые успехи «реформаторов», притом временные, следует рассматривать открытие противомусульманского, про-тивоязыческого и противобуддийского отделений в Казанской духовной академии40 и результативную деятельность переводческого комитета. С августа 1847 г. по июль 1851 г. им были сделаны переводы ряда молитв и шести глав Евангелия от Матфея, Часослова41 После некоторого перерыва в издании книг, вызванного выездом Ильминского в восточные страны, в 1954 г. снова оживилась переводческая работа. В 1855 г. на татарский язык были переведены псалтирь и необходимая при богослужении часть требника. Н.И.Ильминский заметил, что старокрещеные татары почти не понимали переводов, изложенных на книжном языке татар-магометан арабским алфавитом. Он сделал важный вывод, что переводы могут быть доступны крещеным татарам, если их выполнить на разговорном татарском языке русскими буквами. Для проверки своего предположения Н.И.Ильминский с помощью В.Т.Тимофеева перевел отрывки из Библии и издал под названием «Чтение из книг Ветхого и Нового Завета». Книга оказалась доступной для понимания старокрещеных татар и принята ими. Это убедило ее создателей в правильности намеченного пути.
Новая волна отступнического движения в Казанском крае в период Крымской войны привлекла внимание монарха. По высочайшему повелению Св. Синод постановил: «Предписать митрополиту Казанскому Григорию указом немедленно доставить свои соображения и заключение о мерах к наставлению и утверждению проживающих в Казанской губернии татар, черемис и чуваш в догматах православной веры и мерах по предупреждению новых отпадений в ислам»42 Казанская консистория собрала обстоятельные сведения, на основании которых подготовила заключение. В документе перечислялись меры, предпринятые для утверждения православия среди новокрещеных народов епархии. В целях предотвращения новых отпадений консистория предлагала крещение производить только по искреннему желанию «иноверцев» и после основательного ознакомления их с главными догматами веры и правилами церкви. В качестве другой меры предлагалось учредить в новокрещеных приходах за счет государственного содержания особых «благовестников», которые бы стали помощниками священников в миссионерско-просветительской работе. Также говорилось об устройстве в больших деревнях «особых церквей» со священниками и причетником, знающими местные языки, а в малых поселениях — часовен, где по желанию прихожан совершались бы молитвословия и требы.
В местностях, где проживали мусульмане, православные приходы предлагалось учреждать наподобие мусульманских с численностью не более 200 душ за счет казенных средств. Особо оговаривался вопрос перевода христианских текстов на татарский, чувашский и черемисский языки. Всем священно-церковнослужителям нерусских приходов предписывалось детей с малолетства приучать говорить на местном языке, в будущем совершенствовать знания языка в духовных учебных заведениях. Духовенство новокрещенских приходов должно было пройти испытание на знание татарского языка43
Таким образом, стиль и просветительский дух заключения свидетельствуют, что оно составлялось под влиянием архиепископа Григория. Пока готовился документ Григория перевели на митрополичью кафедру в Санкт-Петербург. Новый архиепископ Афанасий (Соколов) поручил Казанской консистории совместно с викарным архиереем Никодимом (Казанцевым) подготовить ответ на последовавший из Св. Синода запрос по поводу планов миссионерских мероприятий. Никодим, рассмотрев мнение консистории, содержавшее идеи прежнего архиерея, решил, что проектируемые преобразования в миссионерском деле не оправданы, их осуществление «связано со многими издержками, а в результативности его нет полной уверенности»44 Он категорически возражал против обязательного изучения местных языков и испытания священнослужителей в их знании45. Считая меры, предпринятые казанскими архиереями до Григория вполне достаточными, призывал «озаботиться лишь наблюдением за усердием и добросовестностью исполнения их»46
Таким образом, владыка выразил мнение той части духовенства, которую вполне удовлетворяло сложившееся положение в миссии и которое не желало перемен. Спор между «консерваторами» и «реформаторами» о методах миссионерского воздействия на крещеное нерусское население на этом этапе завершился победой первых. Архиепископ Афанасий в донесении Св. Синоду от 4 августа 1858 г. изложив определения консистории и мнения преосвященного Никодима, высказался в пользу аргументов последнего, заявив, что он вполне разделяет мнение своего викария.
Главным доводом «консерваторов» было утверждение, что успеха в применении новых миссионерских методов не было.
Все новшества Григория, как отмечал и А.Ф.Можаровский, у приходского духовенства вызывали лишь все большее и большее раздражение. Значительная часть духовенства поддержала «консерваторов». Но и применение жестких мер в отношении «отступников» грозило усилением антицерковного протеста. Например, когда правительство распорядилось о развделе-нии семей в Мамадышском уезде, в которых крещеные жили с некрещеными, начались повсеместные волнения, грозившие вырасти в массовые выступления. Министр внутренних дел в связи с этими событиями обратился с докладом к императору Александру II. Вскоре последовал высочайший указ, в котором предписывалось «приостановить всякие меры относительно отпавших»47
В это самое время профессорами противомусульманского отделения Казанской духовной академии при активном участии Н.И.Ильминского был составлен доклад на запрос Св. Синода от 31 августа 1857 г. о состоянии отделения и о средствах для успешной его работы. В отчете было дано подробное описание религиозно-нравственного состояния крещеных народов Поволжья и указывалось, что просвещение их может быть развито только с помощью школ, благодаря использованию родного языка и учителей из их племени. По сути высказывалась точка зрения, совершенно противоположная взглядам нового архиерея. К глубокому огорчению «реформаторов» их идеи не нашли поддержки в лице руководства академии. Тогдашний ректор нашел новые миссионерские меры «несогласными с серьезными задачами богословского образования». С разрешения преосвященного Афанасия он сократил число кафедр в противомагометанском отделении, и молодой «реформатор» Н.И.Ильминский оказался перед дилеммой: либо оставить место в академии, либо принять предложенные ему ректором уроки математики. Было уязвлено самолюбие Н.И.Ильминского, посвятившего свою жизнь служению миссионерскому делу. Решив быть верным до конца своим принципам, он оставил академию. Миссионерский проект вновь был свернут.
Таким образом, можно констатировать, что история миссионерского просветительства в конце XVIII — первой половине XIX вв. была борьбой между реформаторами и консерваторами. Ни один из миссионерских проектов не был реализован в полном объеме. Возникновение просветительских идей и активизация миссионерской работы совпадали со временем усиления антицерковных выступлений крещеных народов. С инициативой реформирования миссионерского дела, использования просветительских методов выступали казанские архиереи. Приходское духовенство в целом придерживалось консервативных взглядов, было не готово к просветительской деятельности, выступало против использования родного языка прихожан в богослужении и церковной жизни. Но опыт просветительской работы был в полной мере востребован в последующую эпоху, когда идеи христианского просвещения получили статус государственной политики в виде миссионерско-просветительской системы.
Список литературы Миссионерское просветительство в Казанском крае в конце XVIII -первой половине XIX вв
- Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 год. М., 1880. С. 106.
- Таймасов Л.А. Христианизация чувашского народа в первой половине XIX века. Чебоксары, 1992. С. 50-52;
- К истории христианского просвещения народов Среднего Поволжья. «Краткий катехизис» - первая книга на чувашском языке // Вестник Чувашского университета. 2001 г., 1-2. С. 41-49.
- Ильминский Н.И. Опыты переложения христианских и других вероучительных книг на татарский и другие инородческие языки. Казань, 1883. С. 14.
- Прокопьев К.П. Переводы христианских книг на инородческие языки в первой половине XIX века // Известия по Казанской епархии. Казань, 1904. С. 1101.