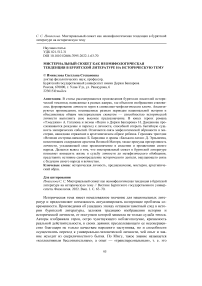Мистериальный сюжет как неомифологическая тенденция в бурятской литературе на историческую тему
Автор: Имихелова Светлана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются произведения бурятских писателей исторической тематики, написанные в разных жанрах, где объектом изображения становилось формирование личности героя в символико-мифологическом ключе. Анализируются произведения, посвященные разным периодам национальной истории и объединенные общим мистериальным сюжетом - способностью исторической личности выполнить свое высокое предназначение. В юных героях романа «Тэмуджин» А. Гатапова и поэмы «Песня о Доржи Банзарове» Н. Дамдинова прослеживаются рождение и переход к личности, способной открыть бытийную сущность эмпирических событий. Отмечается связь мифологической образности и мистерии, нашедшая отражение в архетипическом образе ребенка. Героиням трагедии «Великая сестрица-шаманка» Б. Барадина и драмы «Бальжин-хатан» Д. Эрдынеева, воплотившим содержание архетипа Великой Матери, также присуща прозорливость личности, угадывающей свое предназначение в спасении и процветании своего народа. Делается вывод о том, что мистериальный сюжет в бурятской литературе позволяет возвысить жизнь и судьбу личности до метафизического обобщения, представить истинное самоопределение исторического деятеля, ощущающего связь с будущим своего народа и вечностью.
Историческая личность, предназначение, мистерия, архетипический образ
Короткий адрес: https://sciup.org/148324133
IDR: 148324133 | УДК: 821.512.31
Текст научной статьи Мистериальный сюжет как неомифологическая тенденция в бурятской литературе на историческую тему
Имихелова С. С. Мистериальный сюжет как неомифологическая тенденция в бурятской литературе на историческую тему // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 1. С. 63‒70.
Историческая тема имеет немаловажное значение для национальных литератур и предоставляет возможность актуализировать волнующие проблемы современности. Произведения об ушедших эпохах оставили заметный след в истории бурятской литературы, заложив традицию изображения истории и исторической личности, от поступков которой зависела не только судьба этноса. Авторы изображали героя, остро чувствующего неблагополучие, кризисность реальной действительности, в своих деяниях преодолевающего ее несовершенство благодаря не только качествам народного заступника, но и способности осуществлять переход к универсально-человеческой личности, чей опыт и знание исходят из сверхличностного бытия. По Юнгу, такое знание называется «коллективным бессознательным», а опыт — «трансперсональным», т. е. это опыт, «не приобретенный индивидуально», это «владение, пришедшее “свыше”» [9, с. 39].
В таком неомифологическом контексте предстает новое произведение бурятской литературы – роман Алексея Гатапова «Тэмуджин». В начале 2022 г. автор дописал – к радости огромной читательской аудитории – заключительную, пятую, книгу романа и тем самым поставил точку в своей многолетней работе над романом о юности Чингисхана. Его замысел возник и начал реализовываться в начале 2000-х гг., а в 2010 г. были написаны и изданы две первые книги. Именно тогда роман стал восприниматься как знаковое явление в ряду множества попыток воплощения в художественной форме образа великой исторической личности. Пройдет еще десятилетие, прежде чем читатель сможет ознакомиться сначала с последующими двумя частями и, наконец, увидит завершение многотомной книги писателя о рождении, формировании, мужании будущего «завоевателя Вселенной».
Создавая романный образ будущего Чингисхана, А. Гатапов подчеркивает в своем герое необычайную способность предвидения, интуитивного знания о людях и событиях, что объясняется окружающими и самим мальчиком наследственным даром – «шаманской кровью». В первой книге романа Тэмуджину-ребенку присущ дар безобидного колдования, и эта типологическая черта героя соответствует поэтически-символической образности, изоморфна мифологическому сознанию, согласно которому образы «коллективного бессознательного» оказываются близки детскому сознанию, «по праву считаются наследственными, а ребенок – вновь родившимся предком» [9, с. 119]. А. Белый также придерживался мифологической теории изначального знания, согласно которой в детстве человек более всего ощущает свою связь с космосом, а его подсознание является хранилищем памяти о пребывании его души в Вечности, в области Мирового Духа [7].
Затем на протяжении всех частей романа «Тэмуджин» читатель увидит, что предвидение героя последующих событий есть и прирожденный дар, и следствие его недюжинного ума и нравственной силы. Так, кузнец отдаст ему в нукеры своего сына, веря, что он, сын нойона, будущий хан, способен начать великое дело — собрать разрозненные рода, воевавшие друг против друга, в единую силу, прекратить войны внутри племени. Этот поступок кузнеца, человека дархан-ского рода, Тэмуджин посчитает знаком с небес.
Конечно, автор учитывал представления древних монголов, характер их мировоззрения и отношений с окружающим миром. Но согласно авторской концепции, именно мифологическими представлениями окружающие объясняют проявление в герое иррационального чувства, даже мистического прозрения. А. Гатапов не раз подчеркнет способность героя в своем подсознании войти в иную реальность — на первый взгляд, приснившуюся, но на самом деле представленную как мистериальное восхождение к вечности. Так, во время его пребывания в плену у своего врага — хана Таргудая — Тэмуджин вместе с сородичами слушает пение улигершина, и оно навевает ему сновидение – картину посещения девятого неба и разговор с праматерью всех богов Эхэ Сагаан. Она предскажет ему, что в будущем в него войдет дух потомка Чингиса Шэрэтэ Богдо Хана для того, чтобы он, Тэмуджин, установил на земле порядок. Затем и сам Чингис, сын бога Хана Хюрмаса Тэнгэри, явится юному герою в облике молодого воина и даже поговорит с ним. Очнется Тэмуджин, потому что улигер-шин замолчит, брызгая восьми сторонам Вечного Синего неба архи (молочную водку). И возвращаясь в эмпирическую реальность, герой подумает: «Я только что оттуда…» [2, с. 496].
Великолепна созданная автором сновидческая реальность в подсознании героя — будущего Чингисхана, ведь в нем, в его реально-бытовом положении (плен, разлука с семьей, беспокойство о близких, оставленных на произвол судьбы после смерти отца) ощущается сила, иррациональная, спасающая, до поры дремлющая, которую старики-шаманы рода считали дарованной богами, предрекали ему путь воителя, хана для многих народов, даже советовали беречь эту силу для будущего. Читателю видится во множестве эпизодов объяснение судьбы героя божественным промыслом, согласно мифологическим представлениям бурят в далеком ХIII в., однако авторская концепция в изображении личности юного Тэмуджина основана на проявлении в нем мудрости, продиктованной талантом, задатками гения.
Знакомство с новым романом неизбежно приводит к мысли о закономерности появления в литературе такого сюжета — мистериального по своему характеру. Столетие отделяет современного читателя от создания произведения, также опирающегося на легендарное событие в далеком прошлом. В пьесе «Великая сестрица-шаманка» (1921) Базар Барадин обратился к историческому для бурятского народа событию — походу хори-бурят в Москву в 1702 г. Автор поставил актуальный для первых лет советской власти вопрос о защите национальных интересов от захватнической политики царских чиновников в земельном вопросе. Именно народ в лице 11 представителей хоринских родов принимает решение идти в поход к царю за справедливостью.
Как отмечает исследователь, трагедия Б. Барадина «Великая сестрица-шаманка» «устремлена за пределы реальной общественной и частной жизни, от плана эмпирически-бытового движется к плану мистериальному. Сцены шаманского камлания, мистического разговора с духами, включенные в сюжет реально-исторический, приближают пьесу к романтической драме с ее стремлением к разрешению трагически неразрешимых противоречий бытия» [6, с. 45–46].
Трагедия Б. Барадина начинается со сцены камлания верховного шамана Нагарая: в образе духа-божества, снизошедшего в его тело, он выбирает из 11 родов лучшего представителя, который и отправится на северо-запад за царской милостью для народа. Но главное он оставляет на конец своего камлания: ему нужно указать не просто на самого лучшего из избранных, а на того, кто «в магии сильный», и им оказывается не мужчина, а женщина. Живописно рисуя ее портрет, дух-онгон в теле шамана говорит о том, что в нелегком пути « вашей советчицей стать / Назначена свыше она » (пер. Б. Цыденовой) [1, с. 33]. Провожая в путь членов делегации, Нагарай напутствует им быть храбрыми, смелыми, верными, отважными и одним из условий довести дело до конца и вернуться живыми называет особое отношение к Эреэхэн, впервые называя ее Великой шаманкой: « Небесных онгонов избранницу, / Мудрую вашу хранительницу, / Великую сестрицу-шаманку / Не смейте в пути обижать! Всегда вы должны ее уважать! » [1, с. 43].
Назвав драму именем главной героини, автор изображает ее как исключительную историческую личность, исполняющую волю народа, принимающую деятельное участие в его судьбе. Шаманка Эреэхэн понимает, что не в силах достичь личного счастья с любимым человеком, поскольку она вынуждена исполнить миссию, предначертанную ей судьбой. То есть Эреэхэн не принадлежит к разряду простых смертных. Но несмотря на предначертанность своей судьбы свыше, Эреэхэн — живая девушка, принадлежащая родной земле, своему роду хуасаев, любящая родителей и своего любимого Нагала.
В центральной сцене приема делегации Петром I именно Эреэхэн в своей речи-монологе нашла точные слова и выражения. Когда Бадан растеряется, остальные делегаты обратятся к ней с просьбой выразить общее желание вернуть исконные земли бурятским родам, от чего зависит счастье и мир народа. Такая речь произвела неизгладимое действие на царя, как скажет позже Эреэхэн в заключительном монологе, принимая смерть: « Батора-хана / Заставила я покраснеть. / Суровое сердце его / Сумела я растопить » [1, с. 64].
Именно ей подвластна магическая сила: возвращаясь с царским приказом, удовлетворившим все просьбы делегации, Эреэхэн-сестрица отводила путников от бед и напастей, напускала туманы, чтобы укрыть от врагов, « усмиряла легко / Свистящие вьюги, метели », находила пищу, воду, не давала сбиться с пути до тех пор, пока сама не ослабела и не ослепла. А когда были съедены лошади и даже в ход пошли тела погибших путников, возникли споры и недовольство прежде всего со стороны властного и завистливого Бадана, то именно она пожертвует собой, своим телом ради благополучного возвращения остальных на родину. Архаически-мифологическое содержание этих эпизодов тесно связывает трагический финал с мистерией: в эпохи войн и стихийных бедствий только Великая Мать в деле спасения своих детей способна призвать на помощь небесные чудодейственные силы [4, с. 16–48].
Перед смертью Эреэхэн скажет не только слова правды, выразившиеся в том числе в проклятии трусливого Бадана, но и слова предвидения будущего: она оставит свое тело и превратится в призрак, уйдет с земли на небо и не оставит соплеменников, чтобы в будущем « Милостью неба-отца, / Заботами матери-земли / Люд многочисленный мой / Да имеет всегда неодолимую мощь! » [1, с. 61]. Героиня погибает, путники возвращаются на родину, где их встречают близкие, и рядом со всеми — призрак Эреэхэн.
В пьесе сближаются мистерия и трагедия, когда мотив смерти выступает как воскресение. В конфликте Эреэхэн с роком, судьбой можно увидеть мистери-альный сюжет: конфликт снимается, открывая причастность героини к вечности, отрицая смерть как конечность человеческого бытия. Поэтическая, стихотворная форма позволяет оправдать мистические события, «возвышает исторический сюжет до метафизического его осмысления: перед читателем, зрителем происходит столкновение добра и зла, жизни и смерти, а проявление подлинной красоты как зова совести и любви становится отражением космического бытия» [8, c. 47–48]. Бурятский драматург воплотил именно такую высоту осмысления исторической личности, подвиг которой совершен ради жизни и процветания народа.
Точно так же построен конфликт в драме «Бальжин-хатан» (1985, 2005) Д. Эрдынеева о другой легендарной исторической личности, жившей во времена феодальной раздробленности бурятских племен на рубеже XVII–XVIII вв. В драме, как и в многочисленных вариантах легенды о Бальжин-хатан, предводительнице племени хори-бурят удается спасти свой народ от маньчжурской экспансии, сделав верный выбор, заключив союз с Великим белым (русским) ханом и уведя свой народ на северо-запад, где уважают национальное достоинство другого народа. Бальжин-хатан в пьесе, как и в легенде, спасает народ ценой собственной смерти, добровольного ухода из жизни, чтобы не пролилась кровь ее народа, чтобы его сила не была использована маньчжурами и одержимым властью Буубэй-ханом в войне с другими народами. Она уходит от погони и «исчезает чудесным образом», не давшись врагам живой. Мифопоэтическая родословная хатан (госпожи) отражена в любви к своим подданным, в ее необычайной прозорливости, а также в жизни после смерти: имя Бальжин живет в народе, в названиях горы, озера, долины, где она приняла смерть. Об этом сообщает в финале пьесы Певец, народный сказитель, поющий песнь о героине бурятского народа. Как в жанре мистерии, «деяния Бальжин-хатан в драме проверяются самой высокой мерой — мерой жизни и смерти» [4, c. 102].
Мифопоэтическое осмысление исторической личности содержится в произведениях Николая Дамдинова о первом бурятском ученом, это историческая драма «Доржи Банзаров», изображающая последние дни жизни героя, и поэма «Песня о Доржи Банзарове» — о детских годах мальчика Доржи. Интерес представляет поэма, в которой подчеркнута сама специфика и образносимволическая система поэмного жанра. Т. Очирова писала о ней: «…повесть о детстве Доржи ширится, словно бы разворачивается в пространстве и времени, получает второе измерение, становясь, по сути, поэмой, воспевающей духовное богатство народа, из глубин которого вышел Доржи» [5, с. 96]. Наряду с эмпи-рически-бытовой стороной жизни героя в поэме существует вторая реальность, связанная со специфическим «поэмным» событием — столкновением судьбы личности с внеличными (историческими, социальными или космическими) силами. Именно таково изображение событий и «поэмное» их истолкование в «Песне о Доржи Банзарове».
События жизни юного мальчика Доржи в поэме происходят в мире обычаев, быта родной степи: вместе со своим отцом, джидинским казаком, он целый год несет дозорную пограничную службу на границе России с Китаем, затем излечивается от смертельной болезни, отдан на учебу в кяхтинскую школу, откуда способного мальчика направляют в Казанскую гимназию. События эти раскрываются в зримо-вещественых образах, таких как степь, юрта, объекты животного и растительного мира, но им придано символически-философское обобщение, потому что в них открываются и отвлеченно-духовные образы: любовь матери, судьба и ее предначертание, время и его бег, тьма и свет и другие. Главный же образ в поэме — мальчик Доржи, реальный облик которого выступает «как символ, как предвестник будущего расцвета бурятского народа» [5, с. 96]. Происходит это в особом пространстве-времени повествования, перед читателем словно предстает эпический сказитель-улигершин, которому открываются древнее знание и будущие дали истории. И очень часто эти пространственно-временные связи обнаруживают философский настрой и мифопоэтическую интонацию повествующего лица:
Те, кто в мир наш пришел, Те, кто в мир наш придет, Крепко связаны с ним миллионами нитей. Сердце бьется, завися от многих событий -От теченья ветров, от движения вод.
И вращенье земли средь небесных светил
Часто судьбы людей изменяет невольно (пер. О. Дмитриева) [3, с. 235].
Часто повествователь делится поэтическими размышлениями, предположениями, сомнениями. Вот Доржи стоит перед старейшинами рода, которых созвал отец, прежде чем решить, посылать ли после окончания школы способного мальчика учиться дальше, и слушает их поучения. После речей старейшин и ответного слова Доржи (« Неужели в широких степях наших нет / Человека, способного к мудрым наукам? / ...Не противьтесь желанью, отцы, моему, / Может быть, окажусь / Я таким человеком » [3, с. 241]) повествователь не просто сообщает, что следует за этими эпизодами, а проявляет и свое субъективное мнение, которое усилено формой восклицания и подчеркивает уверенное знание правоты маленького героя:
Встал Доржи.
(От него лишь зависит, куда
Путь сегодня мальчишке-кочевнику ляжет.)
Да, сейчас или больше уже никогда
Слово, самое важное в жизни,
Он скажет! [3, с. 241].
Этим кульминационным эпизодам в поэме предшествует мистическое событие, которое объясняет, как мальчишка осознает нечто большее, чем взросление, обретение в себе мужчины. В сцене возвращения домой после первого своего пребывания на границе Доржи вдруг « чутко вслушался в шепот простора ночного » и услышал то ли « звук какого-то странного, властного зова », то ли эхо, « или рога далекое гулкое пенье ».
Звук глухой,
Да ведь в самую душу проник,
И тотчас же заныла она в нетерпенье!
Потянулась на этот торжественный зов
И какою-то новой наполнилась страстью!..
И Доржи раньше всех оказался в дверях;
Этот звук боевой был уже ему ведом:
Так кричат лишь изюбры
В скалистых горах, Приготовясь под осень К боям и победам! [3, c. 219].
Произошло почти фантастическое событие, но в нем нет никакой мистики: герой вдруг услышал за пределами юрты волнующий зов судьбы или знак небес. Такая способность подвластна не каждому человеку, считает автор поэмы, а особой личности, которая открывает бытийный план земных событий. В данном случае проявляется архетипическая сущность героя-ребенка. Недаром, как и в романе А. Гатапова «Тэмуджин», в герое-ребенке открывается знание, которое соответствует мифологической теории о том, что человек в детстве более всего связан с иной — бытийной — реальностью. Выводя этот символически- мистериальный эпизод, автор-повествователь предрекает герою, что скоро-скоро «судьба затрубит» и властно потребует от него сделать предназначенный выбор.
Таким образом, бурятская литература, обращаясь к историческому прошлому, осмысливает его в мифологическом ключе, в соединении современного и вечного, земного и космического при помощи архетипов и образов «коллективного бессознательного». Герой, осознающий себя частью своей национальной общности, открывает в сфере подсознания способность проникнуть в глубинный план бытия, прозреть свое будущее и будущее своего народа. И в сюжетнокомпозиционной структуре, и в идейно-смысловом целом произведения происходит рождение яркой исторической личности, ее восхождение от эмпирического мира к бытийному пространству-времени. Этот переход рассматривается автором в мистериальном плане: при сохранении реалистической мотивированности происходит символически-чудесное событие, объясняемое в сознании и подсознании героя как голос свыше, раскрывающее таинственную силу его высокого предназначения. Мистериальный сюжет позволяет возвысить деяния такого героя до философского обобщения как самосозидание личности в ее связи с историей, космосом, вечностью.
Список литературы Мистериальный сюжет как неомифологическая тенденция в бурятской литературе на историческую тему
- Барадин Б. Великая сестрица-шаманка // Антология литературы Бурятии ХХ - начала ХХ! века. Т. 3: Драматургия. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 11-64. Текст: непосредственный.
- Гатапов А. Тэмуджин. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2010. 704 с. Текст: непосредственный.
- Дамдинов Н. Г. Избранные произведения: в 2 томах. Москва: Сов. Россия, 1981. Т. 1. 368 с. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. С., Шантанова Т. В. Женские образы в бурятской драматургии: архетипическое содержание и национально-культурный контекст. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. 142 с. Текст: непосредственный.
- Очирова Т. Н. Николай Дамдинов. Литературный портрет. Москва: Сов. Россия, 1980. 112 с. Текст: непосредственный.
- Савинова Т. Б. Жанровые особенности бурятской исторической драматургии второй половины ХХ - начала ХХI в.: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ, 2015. 163 с. Текст: непосредственный.
- Филимонова А. Мифологизм и мистерия в символистском романе А. Белого. URL: http://kniga.lib-i.ru/26istoriya/439914-1-mifologizm-misteriya-simvolistskom-romane- andreya-belogo-krescheniy-kitaec-aleksandra-filimon.phpромане (дата обращения: 18.11.2021). Текст: электронный.
- Шантанова Т. В., Санжиева Т. Е. Особенности формирования национальной литературы Бурятии // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. Спецвып. С. 266-270. Текст: непосредственный.
- Юнг К. Г. Психология бессознательного. Москва: Канон, 1994. 320 с. Текст: непосредственный.