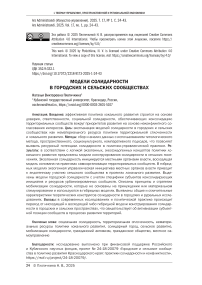Модели солидарности в городских и сельских сообществах
Автор: Наталья Викторовна Плотичкина
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: эффективная политика локального развития строится на основе доверия, ответственности, социальной солидарности, обеспечивающих консолидацию территориальных сообществ вокруг приоритетов развития на основе неконфликтного согласования интересов. Цель: экспланация моделей солидарности в городских и сельских сообществах как нематериального ресурса политики территориальной сплоченности и локального развития. Методы: сбор и анализ данных с использованием типологического метода, пространственного, социокультурного, компаративного подходов, что позволяет выявить ресурсный потенциал солидарности в политико-управленческой практике. Результаты: в соответствии с логикой экзогенных, (нео)эндогенных концептов политики локального развития предложены модели конструирования солидарности в сельских поселениях. Экзогенная солидарность инициируется местными органами власти, восходящая модель основана на практиках самоорганизации территориальных сообществ. В гибридных моделях экзогенная управленческая инициатива местных органов власти приводит к эндогенному участию сельского сообщества в проектах локального развития. Выделены модели городской солидарности с учетом специфики субъектов консолидирующих инициатив и ресурсов урбанизированных сообществ. Описаны принципы и стратегии мобилизации солидарности, которые не основаны на принуждении или материальном стимулировании и используются в гибридных моделях. Выявлены общие и отличительные характеристики теоретических конструктов солидарности в городских и руральных исследованиях. Выводы: в современных исследованиях и политической практике происходит переход от нисходящей к восходящей либо гибридной модели конструирования солидарности в городских и сельских пространствах, что свидетельствует об активизации субъектной позиции сообществ в процессах развития территорий.
Социальная солидарность, территориальная сплоченность, нематериальные ресурсы политики локального развития, солидарный город, сельское развитие, мобилизация солидарности, гражданский активизм, гражданское общество, местное самоуправление
Короткий адрес: https://sciup.org/147247370
IDR: 147247370 | УДК: 352.9:332.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-1-24-43
Текст научной статьи Модели солидарности в городских и сельских сообществах
Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите
This work © 2025 by Plotichkina, N. V. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit
Территориальные сообщества выступают эвристическим пространством для экспликации политических, социально-экономических изменений, имеющих следствием создание нового качества жизни жителей муниципальных образований. Развитие на уровне сообществ расширяет возможности и приносит пользу местным группам, вовлекает их в процесс принятия решений, разработки и управления проектами в сельской/городской местности, в институциональные инновации и формулирование правил распределения выгод (Liu et al., 2024, p. 2–3). Солидарные территории способствуют развитию потенциала коллективных действий в сельских и городских поселениях. В ряде прикладных исследований (Sayuti et al., 2023) выявлен более высокий уровень солидарности в сельской местности по сравнению с городскими районами. В этом контексте муниципальные органы власти в ходе разработки политики на принципах взаимной поддержки, лояльности должны учитывать специфику локальных комьюнити, корреляцию уровня солидарных действий с масштабом территориального сообщества. Понимание моделей солидарности необходимо в ходе постановки целей и оценки результатов городских и сельских инициатив: на каком уровне следует сохранять территориальную сплоченность, должна ли солидарность быть восходящей либо нисходящей (Vranken, 2005, p. 260).
Опросы ВЦИОМ фиксируют свойственные российскому населению неоднозначность, расплывчатость солидаристских установок и вместе с тем запрос на консолидацию1. Так, россияне констатируют наличие в обществе народной сплоченности (56 %, 2022), единства интересов, взаимопонимания, лояльности у сограждан (40 %, 2020), однако в реальной жизни только четверть респондентов склонна проявлять межличностное доверие (25 %, 2023) и только треть полагает, что людям свойственны альтруизм и стремление приносить пользу другим (31 %, 2023), то есть, по сути, большинство граждан не доверяет другим, приписывает им заинтересованность исключительно в собственных проблемах, а значит, не склонно к проявлению совместных действий, демонстрирует низкий потенциал к кооперации. В основном солидарность реализуется россиянами в форме различных микропрактик взаимопомощи, поддержки, участия в добровольчестве.
Потребность российских локальных сообществ в социальной сплоченности, консолидационных процессах привела к тому, что в ряде субъектов приняли программные документы и разработали планы действий по формированию солидарных пространств. К примеру, государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» на 2016–2023 годы была нацелена на консолидацию регионального комьюнити, укрепление сплоченности жителей края посредством реализации символической политики2; в Белгородской области в 2011–2022 годах действовала стратегия формирования регионального солидарного общества, в соответствии с которой локальная солидарность интерпретировалась как ресурс формирования гражданственности и патриотизма, достижения благополучия местных жителей, укрепления межличностного и институционального доверия граждан3.
Индексы качества жизни и креативного потенциала российских городов, разработанные ВЭБ.РФ совместно с партнерами, включают такие показатели, как объем социального капитала, уровень межличностного и социального доверия, включенности жителей в местные сообщества (взаимной поддержки, по интересам, для решения городских проблем), степень вовлеченности населения в практики городского управления4.
В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских террито-рий5 российская политика рурального развития осуществляется на основе партнерства между государственными и частными стейкхолдерами, повышения включенности членов локальных сообществ в процесс решения местных вопросов, поддержки социальной и солидарной экономики, создающей благоприятную среду для формирования сельской кооперации, способствующей укреплению справедливости, сотрудничества, командной работы, ответственного управления и консолидации ресурсов местных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Солидарная экономика способствует социальной инклюзии членов местных сообществ, формированию доверия между различными группами, совместному принятию решений членами ассоциаций, кооперативов, групп взаимопомощи (Lopera-Arbeláez and Richter, 2024, p. 2).
Пространственная сплоченность, активность местных организаций через сети социальной солидарности являются интригующим, но сложным исследовательским вопросом, находящимся на периферии отечественного научного дискурса. Цель статьи – предложить авторскую типологию моделей солидарности в городских и сельских сообществах как нематериального ресурса политики развития. В рамках первого и второго разделов соотносятся теоретические конструкты сплоченности, солидарности, социального капитала и территориальной идентичности, характеризуется методология исследова- ния. В разделе «Результаты исследования» описываются модели солидарности в сельских и урбанизированных сообществах, а также рассматриваются стратегии мобилизации солидарности в локальных комьюнити, не основывающиеся на принуждении или материальных стимулах.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В социологических исследованиях солидарность является результатом интеракций, социальна, предполагает взаимную привязанность/ответствен-ность либо обязательства. Выделяются следующие ресурсы солидарности: взаимозависимость (коллективные выгоды социальной дифференциации и специализации); общие нормы и ценности; борьба (отстаивание совместных интересов на фоне общего врага); повседневные взаимодействия (Ooster-lynck et al., 2016, p. 766–768). Социологические концептуализации солидарности сходны в том, что обозначают ассоциативные действия, способствующие укреплению сплоченности групп или сообществ. В академическом и политическом дискурсе многомерный аналитический конструкт социальной сплоченности обладает идеационными и реляционными конститутивными компонентами – социальным капиталом, идентичностью, солидарностью ; при этом общие ценности, (не)равенство, качество жизни выступают как предикторы либо как результаты сплоченности (Schiefer and van der Noll, 2017, p. 590–592). Подобная концептуальная спецификация и операционализация направлены на стандартизацию измерений, проведение прикладных исследований с целью мониторинга уровня сплоченности в различных сообществах.
Поскольку сплоченность – социальное качество/состояние сообщества, коллектива людей (Delhey et al., 2023, p. 98–99), то солидарность как стимул к действиям (моральная ценность, общественный идеал) и социальная практика (Kurowska and Theiss, 2018, р. 104–105) способствует достижению сплоченности посредством мобилизации гражданами своих социальных ресурсов, и прежде всего социального капитала, в актах солидарности и конструирования локальной идентичности (Vranken, 2005, p. 258). На основе общих ценностей и норм индивиды осознают принадлежность к территориальному сообществу, формируют локальную идентичность, «завязывают» социальные связи и стремятся к реализации совместных целей.
Социальный капитал , являясь «клеем» социальной сплоченности, важен для экспликации условий, механизмов конструирования солидарности. Социальный капитал как набор структурных (включенность в сети) и нормативных компонентов (доверие, открытость) (Kurowska and Theiss, 2018, р. 104– 105) способствует реализации горизонтальных, неформальных, восходящих инициатив солидарности (Vranken, 2005, p. 260). Указанные компоненты капитала могут усиливать друг друга: интенсивность контактов, плотность и разнообразие сетей индивида повышают уровень доверия и стимулируют к солидарным действиям. Отсутствие социального капитала препятствует социальной сплоченности населения вокруг территориального проекта и развитию горизонтальных и вертикальных сетевых взаимодействий, лежащих в основе форм развития, управляемых местным сообществом.
Солидарность основывается на чувстве привязанности к определенным группам, локальному пространству, то есть на коллективной идентичности . Именно чувство сходства образа жизни, проблем, интересов и т. д. заставляет людей ощущать принадлежность к одной общности, взаимность, готовность поддерживать членов этих (воображаемых) сообществ, нести за них ответственность, совместно действовать (Capello, 2019, p. 143). Территориальная идентичность важна для солидарности, поскольку маркирует границы принадлежности к группе, основана на общих способах восприятия и действия. В когнитивной модели территориальной идентичности солидарность проистекает из общего опыта работы, знаний, репутации; в культурной модели источником выступает гражданская ответственность, в реляционной – социальный капитал (Capello, 2019, p. 147).
В итоге процесс достижения территориальной сплоченности в сельских и урбанизированных сообществах включает несколько этапов: конструирование локальной идентичности; распространение консолидирующих ценностей, интересов и норм, служащих основанием для просоциального действия; формирование межличностного и институционального доверия; развитие солидарного поведения, практик поддержки и взаимопомощи в решении проблем комьюнити.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье представлена дескриптивная многомерная типология моделей городской и сельской солидарности, сконструированная в соответствии с базовым шаблоном, предложенным Д. Коллиером и его соавторами (Collier et al., 2008):
-
1) определение ключевого концепта, интегративного понятия либо общего явления , которые измеряются разрабатываемой типологией. В данном исследовании в качестве исходного концепта выступила городская и сельская солидарность ;
-
2) установление параметров, показателей, которые детерминируют наличие определенного типа, то есть типообразующих признаков : степень активности субъектов солидарности – местных органов власти и гражданского общества ;
-
3) конструирование типологической матрицы 2*2 в форме перекрестной таблицы с указанием переменных строк и столбцов (типообразующих признаков), подразумевающих четкий уровень измерения. В нашем случае переменная строки – «уровень активности гражданского общества» , а переменная столбца - «муниципальный активизм» . В итоге четыре ячейки таблицы 1 соответствуют определенным типам базового концепта городской и сельской солидарности;
-
4) выделение типов изучаемого явления (всех теоретически возможных проявлений, видов явления, обозначенного базовым концептом): гибридный (институциональный), восходящий (автономный, гражданский и т. д.), нисходящий, ограниченный . Выделенные типы солидарности придают концептуальное значение каждой ячейке таблицы – категориальной переменной , соответствующее ее положению по отношению к переменным строки и столбца;
-
5) определение типа типологии (описательная/объяснительная).
Дескриптивные типологии полезны в ходе разработки и уточнения концептов, выявления существенных свойств, характеристик, признаков, параметров исследуемых объектов, для формулирования концептуально обоснованных и аналитически продуктивных выводов. Прикладная значимость типологизации моделей солидарности заключается в экспликации роли не только муниципальных органов власти, но и представителей гражданского общества в достижении социальной сплоченности сельских и городских сообществ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Модели солидарности в городских сообществах
Города могут служить эмпирической площадкой для понимания практик солидарности, а также аналитической линзой. В исследованиях локальной политики по управлению миграцией городская солидарность интерпретируется как широкий спектр репертуаров и инициатив различных акторов – общественных организаций, местных органов власти, граждан-активистов и т. д. (см. табл. 1), может воплощаться в политике муниципальных властей и обретать форму гражданской активности (Kreichauf and Mayer, 2021, p. 980). При этом городская солидарность не универсальна, а прагматична, изменчива и контекстуальна (Özdemir, 2022, p. 9).
Таблица 1 / Table 1
Модели городской солидарности / Models of urban solidarity
|
Уровень активности гражданского общества |
Муниципальный активизм |
|
|
Высокий уровень активности |
Низкий уровень активности |
|
|
Высокий уровень активности |
– Гибридная городская солидарность (Özdemir, 2022; Vran-ken, 2005). – Институциональная солидарность (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021). |
– Восходящая городская солидарность (Özdemir, 2022; Vranken, 2005). – Трансверсальная солидарность (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021). – Автономная солидарность (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021). – Гражданская солидарность (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021). – Распознающая (recognitive) солидарность (Bauder and Juffs, 2020). – Рефлексивная солидарность (Siim and Meret, 2021). |
|
Низкий уровень активности |
Нисходящая городская солидарность (Özdemir, 2022; Vran-ken, 2005). |
Ограниченная городская солидарность (Özdemir, 2022). |
Источник: таблицы 1, 3 составлены автором.
Гибридная или институциональная городская солидарность генерируется путем совместных усилий общественных организаций и местных органов власти. Подобный тип солидарности определяется текущими ресурсами локального сообщества, практиками использования данных ресурсов в рамках существующей структуры сетей и институтов; предполагает наличие партнерских отношений между деятельной общественностью и активными местными органами власти (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021, р. 868). Городские пространства с гибридной солидарностью открыты для диалога/ сотрудничества между сообществами, местными инициативными группами, властными структурами в процессах обсуждения проблем/проектов развития территории. Институциональная солидарность фокусируется на том, как муниципалитеты могут включать гражданское общество в процесс разработки политики. Однако подобное сотрудничество ограничено, поскольку некоторые общественные движения и активисты демонстрируют более радикальные взгляды, чем хотят себе позволить местные органы власти, а сама муниципальная политика варьируется от символической декларации до конкретной реализации. Местные органы власти избирательны в своих отношениях с общественными организациями и отдают предпочтение тем, которые поддерживают местное правительство, а не становятся неконтролируемыми и сопротивляются муниципальной политике (Ataç et al., 2024, р. 717).
В условиях слабого гражданского общества поставщиком нисходящей городской солидарности для населения являются муниципалитеты-активисты, использующие исключительно институциональные каналы для предоставления услуг уязвимым группам (Vranken, 2005, p. 271–272).
Восходящая городская солидарность конструируется в ходе регулярных переговоров между субъектами гражданского общества и местными властями; общественные организации стремятся заполнить пробел, образовавшийся из-за отсутствия политико-институционального измерения городской солидарности. Отношения между субъектами солидарности противоречивы и полны разногласий, однако могут обретать солидарные формы, которые возникают в ситуациях борьбы как оппозиция системам доминирования и эксклюзии. Подобная модель солидарности, мобилизованная активными общественными организациями, может частично удовлетворять потребности уязвимых групп. Восходящая солидарность может трансформироваться в гибридную при переходе сторон от краткосрочных компромиссов к созданию альянса; при этом репертуар солидарности диверсифицируется посредством обмена ресурсами. Восходящая городская солидарность осуществляется посредством альтернативных и инклюзивных практик, конструирует новые связи и расширяет пространство для участия (Garcia Agustín and Jør-gensen, 2021, р. 859).
Горизонтальная сетевая логика сотрудничества, лежащая в основе трансверсальных солидарностей, практикуемых «снизу», делает городские пространства солидарности «пористыми» и гибридными в контексте наличия/отсутствия взаимодействия общественных структур, групп солидарности с местными органами власти. Автономная солидарность, основанная на горизонтальном участии, волонтерстве, неформальных сетях активистов, прямой демократии, равенстве всех ее субъектов, продуцируется в самоорга-низованных пространствах с явной антагонистической позицией по отношению к муниципальному управлению. Данная модель не предполагает сотрудничества граждан-активистов с официальными институциями, напротив, создаются новые формы сообществ, «ускользающие от власти»: сквоттинг, коммуны, присвоенные городские пространства, «оккупай»-движения и т. д. (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021, р. 863). Автономной солидарности свойственны спонтанные и неформальные траектории низовой коллективной самоорганизации; этот тип сплоченности стимулирует развитие альтернативных форм социальной и экономической деятельности; сети и структуры солидарности становятся пространством, в котором возникает солидарная, кооперативная, самоуправляемая экономика (Arampatzi, 2017, p. 2159, 2161). Распознающая солидарность близка к автономной, поскольку связана с протестной активностью общественных организаций, граждан против различных форм дискриминации, доминирования и угнетения (Bauder and Juffs, 2020, p. 56). Рефлексивная солидарность процессуальна: она возникает вследствие трансформации разногласий во взаимопонимание, способствующее преодолению неравенства, изоляции уязвимых групп, предполагает самоорганизацию активистов, включает практики сопротивления жителей против институционализированной маргинализации, связана с распознающей соди-дарностью и автономной (Siim and Meret, 2021, p. 221). Иногда рефлексивная солидарность обретает смешанные характеристики, занимая промежуточное положение между автономной и гражданской сплоченностью, подразумевая оказание практической поддержки общественными структурами обездоленному населению и саморганизованные действия активистов.
Самоорганизация представляет собой процесс непосредственного активного взаимодействия граждан для решения местных проблем и достижения групповых целей. К типичным практикам самоорганизации населения на микро- и мезолокальном уровнях относятся: коллективная взаимопомощь (сбор/пожертвования денежных средств, вещей и т.д.), совместное благоустройство, улучшение территориальной среды проживания, проведение праздничных торжественных мероприятий, сбор подписей под петициями и обращениями в официальные структуры власти, открытые собрания, совещания по поводу решения проблем, митинги с выдвижением требований к органам власти, участие в деятельности некоммерческих организаций, ТОСов и др.
Гражданская солидарность порождается усилиями общественных структур, направленными на мобилизацию солидарности (Kreichauf and Mayer, 2021, р. 984). Она описывает широкий спектр гибридных практик групп солидарности с различной степенью конфликта либо консенсуса по отношению к муниципалитетам (Ataç et al., 2024, р. 717), фокусируется на формировании коллективных идентичностей, влияет на политику посредством инклюзивного подхода к демократии.
Ограниченная городская солидарность формируется в условиях отсутствия активной муниципальной политики по отношению к уязвимым группам и активной мобилизационной деятельности со стороны акторов гражданского общества в поддержку данных категорий населения; при этом отсутствие коммуникации между субъектами может препятствовать городской солидарности либо приводить к ее криминализации. В итоге ни местные органы власти, ни гражданское общество не осуществляют видимых действий солидарности с нуждающимися группами.
Модели солидарности в сельских сообществах
В руральных исследованиях (Lowe et al., 2019; Bock, 2016) выделяются три ключевые модели политики сельского развития: экзогенная, эндогенная, нео-эндогенная (или сетевого развития / networked development). Эндогенные подходы приобрели популярность после 1980-х годов, когда экзогенный концепт не привел к устойчивому экономическому развитию. Впоследствии в 1990-х годах произошел переход от вертикальной координации к идее сетевого партнерства, межсекторального сотрудничества различных агентов рурального развития, воплощенной в неоэндогенной модели локальных трансформаций. Критический аргумент неоэндогенной теории заключается в том, что развитие сельских районов оптимизируется за счет использования сетевых структур, выходящих за рамки местных социальных и экономических ресурсов сообществ. Предполагается, что инициативы неоэндогенного местного развития возможны только посредством значимого взаимодействия между территориями и их более широкой средой.
В экзогенных моделях ресурсы территориальной сплоченности сельских районов находятся за их пределами; солидарность носит нисходящий характер и инициирована органами власти, прежде всего городскими элитами; уровень самостоятельной инициативы или участия населения в проектах низкий. Концепт эндогенного развития интерпретирует модернизацию села как результат применения местных ресурсов, инициатив, коллективных действий; местные акторы ответственны за разработку политико-управленческих стратегий, которые могут не охватить все группы и потребности сельского общества (Bock, 2016, р. 555). Модель неоэндогенного развития гибридна, преодолевает теоретическую дихотомию между двумя предшествующими подходами, видит источник сельских трансформаций не только в местных ресурсах, но и во внешних связях сообществ. При этом эндогенные социальный и культурный капиталы рассматриваются как ключи к действиям, инициируемым сообществом. К. Рэй на основе культурно-экономического подхода предложил режимы реализации неоэндогенной политики сельского развития: коммодификацию местных товаров; конструирование имиджа территории на основе культурного капитала; формирование социальной солидарности, территориальной идентичности; распространение понимания местной культуры как нематериального двигателя роста благосостояния сельских поселений (Ray, 2001, р. 19–23).
Таблица 2 / Table 2
Концепции политики территориальной сплоченности, политики локального развития с указанием моделей конструирования сельской солидарности / Concepts of territorial cohesion policy, local development policy, indicating models for constructing rural solidarity
|
Индикатор |
Экзогенное развитие |
Эндогенное развитие |
Неоэндогенное (сетевое) развитие |
|
Ключевые принципы |
Создание центров деловой активности, специализация; государственный интервенционизм (или эффект масштаба); иерархическая система управления государственными ресурсами |
Комплексное развитие сельских районов за счет использования местных ресурсов, вовлечения местного населения в процесс принятия политикоуправленческих решений |
Интеграция внутренних ресурсов и внешних субъектов, факторов территориального развития; партнерство государственного и частного сектора в реализации инициатив сельского развития. Внешние акторы могут выступать в качестве поставщиков ресурсов политики развития, недоступных на местном уровне |
|
Ресурсы развития и сплоченности |
Внешние источники сплоченности и развития находятся за пределами сельских районов, главным образом в городах; развитие сельской территории зависит от городской экономики |
Местные инициативы, знания местных агентов политики развития ограничиваются территорией данной местности |
Внешние и местные агенты руральных изменений; сетевое взаимодействие между местным комьюнити и внешней средой; совместное действие сельских и городских драйверов инноваций |
|
Приоритеты политики сельского развития |
Создание условий для модернизации сельской экономики, развития инженерной инфраструктуры сельских поселений, дорожной сети, средств связи |
Развитие местного экономического потенциала; преодоление экс-клюзии |
Целостный межсекторальный подход, позволяющий сообществам определить приоритеты, мобилизовать способность к участию, повысить ценность эндогенных ресурсов, расширить связи, внедрить инновации; многообразие агентов политики развития локальных комьюнити |
|
Индикатор |
Экзогенное развитие |
Эндогенное развитие |
Неоэндогенное (сетевое) развитие |
|
Модели солидарности |
Нисходящая, инициированная органами власти |
Солидарность как эндогенный ресурс политики сельских трансформаций. Восходящая сильная/ слабая. Солидарность, имманентно свойственная конкретному сельскому сообществу |
Гибридная (нисходящая + восходящая). Солидарность внутри сообщества, между сельским сообществом и внешней средой. Органы власти инициируют реализацию солидарных практик политики развития, не выступая в роли актора, напрямую организующего и внедряющего управленческие проекты, а действуя в качестве посредника/ менеджера местных изменений |
Источник: составлено автором на основе (Lowe et al., 2019, p. 31; Bock, 2016, р. 563–564).
В моделях политики сельского развития и территориальной сплоченности солидарность позволяет объяснить логику реализации проектов, инициатив локальных трансформаций, выявить агентов руральных изменений (государство, муниципалитеты, местные сообщества, общественные организации и т. д.). По сути, социальные ресурсы (солидарность, капитал, местное лидерство) обусловливают характер, интенсивность коллективных действий участников сельского сообщества и практики интеракции жителей с органами власти различных уровней. Взаимодействие и соответствие социальных ресурсов сообщества формальной институциональной среде отражают логику структуры управления локальными трансформациями ( самооргани-зация/восходящая, гибридная либо нисходящая модели ) и специфику распределения активов (Yang, C. et al., 2023, p. 3). Уровень солидарности местных сообществ определяет их потенциал к коллективным действиям и в конечном итоге (в гибридных/нисходящих моделях) объем формальных полномочий, делегированных комьюнити местными органами власти.
Солидарность как эндогенный нематериальный стратегический актив, накопленный сообществом, позволяет местным жителям корректировать или адаптироваться к различным политико-управленческим проектам, вести переговоры с органами власти, в результате которых строятся дифференцированные модели управления. Солидарность способствует расширению прав и возможностей сообществ участвовать в создании и реализации политики развития, самоорганизует сельские сообщества, стимулирует их к коллективным действиям, способствует мобилизации комьюнити. В локальных сообществах с сильной солидарностью органы власти склонны идти на компромисс,
I. ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ предоставлять больше прав и формальных полномочий сельским сообществам, что приводит к возникновению практик самоорганизации в поселениях; формируется система сельского управления, основанная на интересах местных жителей. В самоорганизующихся восходящих моделях жители сельских поселений доверяют друг другу, проявляют инициативу, сотрудничают ради общих интересов; местные лидеры, обладающие знаниями и связями, инициируют и организуют коллективные действия. В комьюнити со слабой социальной солидарностью местные органы власти склонны применять нисходящий подход с целью минимизации операционных издержек в ходе реализации проектов; внешние ресурсы зачастую не соответствуют реальным потребностям сельского населения. В итоге снижается эффективность использования активов, разрушаются социокультурные ресурсы (Liu et al., 2024, p. 2–3).
В неоэндогенных политиках руральных трансформаций гибридные модели конструирования солидарности инициированы на начальных этапах органами власти, а впоследствии реализуются жителями сельских сообществ в ходе переговоров с муниципалитетами, то есть в неоэндогенных процессах модернизации села наблюдаются экзогенная инициатива официальных институций и эндогенное участие сообщества, согласованные местной элитой (Yang, C. et al., 2023, p. 8; Liu et al., 2024, p. 2–3). Органы власти наделяют местных активистов полномочиями по реализации проектов. Сильная социальная солидарность побуждает местную элиту возглавлять действия сообщества, используя свой социальный капитал (Wang and Tan, 2020, р. 288). Подобным моделям свойственны местное лидерство, демократическое принятие решений сельскими жителями, вовлечение местной элиты, внутренние инновации. В рамках модели поощряются общественные организации для активизации перехода местных жителей от индивидуального социального капитала к коллективным действиям, участия населения в демократическом принятии решений, институциональном формировании и выражении интересов. В целом указанные модели фиксируют потребность местных органов власти в мобилизации коллективных действий населения, обусловленных уровнем солидарности, присущей сельским сообществам.
Мобилизация солидарности в сельских и городских сообществах
Концепт мобилизации солидарности конструируется на основе интеграции теорий социальной мобилизации Т. Роджерса, Н. Дж. Гольдштейна, К. Р. Фокса (Rogers et al., 2018) и солидарности (Yang, F. et al., 2023). Мобилизация солидарности определяется как набор стратегий, направленных на расширение участия граждан и не использующих принуждение или материальные стимулы. Концепт фокусируется на организационных усилиях, которые основаны на принципах солидарности и укрепляют коллективную ответственность, общие цели граждан. Данные усилия направлены на то, чтобы мотивировать людей вкладывать время, ресурсы в общественные дела с целью добиться позитивных социальных изменений и желаемых политических результатов (Kreichauf and Mayer, 2021, р. 988).
Социальная мобилизация интерпретируется как меры по стимулированию людей к действиям, затраты на которые перевешивают выгоду для вовлеченных лиц; при этом действия приносят пользу сообществу в том случае, если подобные практики реализуются широким кругом участников (Rogers et al., 2018, p. 358). Концепт мобилизации солидарности исходит из следующих принципов:1) индивидуальные издержки от реализации действий выше, чем персональные выгоды, в итоге подобное поведение влечет за собой самопожертвование акторов или их готовность к потенциальным негативным результатам; 2) коллективные выгоды перевешивают непосредственные индивидуальные выгоды, отражая основную суть солидарности на уровне действий (Kurowska and Theiss, 2018, р. 105); 3) мобилизация солидарности направлена на разработку мер, способных мотивировать акторов к поведению, приносящему пользу в первую очередь другим людям на уровне результатов; цель мобилизации по своей сути социальна; 4) индивидуальные действия не имеют практического значения, а общественное благо достигается только тогда, когда подобное поведение практикует значительное число людей (Rogers et al., 2018, p. 359–360; Yang, F. et al., 2023, p. 3) (см. табл. 3, 4).
Таблица 3 / Table 3
Сравнение социальной мобилизации и мобилизации солидарности / Comparison of social mobilization and solidarity mobilization
|
Индикатор сопоставления |
Социальная мобилизация (Rogers et al., 2018) |
Мобилизация солидарности (Yang, F. et al., 2023) |
|
Действие |
Не используются принуждение и материальные стимулы с целью побуждения к действию; персональные издержки перевешивают индивидуальные бонусы от реализации действия |
Дестимулизация; гражданская солидарность как частная забота и поддержка государства всеобщего благосостояния |
|
Результат |
Просоциальное действие имеет следствием благополучие других |
Солидарность интерпретируется как коллективные действия, носящие альтруистический характер, предполагающие наличие совместного интереса, доверия, открытости |
|
Значение |
Достижение общественного блага возможно путем совместных усилий граждан; значимость индивидуального действия ограничена |
Солидарность как набор коллективных целей, задач, убеждений и общих ценностей |
Таблица 4 / Table 4
Компоненты мобилизации солидарности / Components of solidarity mobilization
|
Компонент |
Примеры |
Индикаторы |
Функции |
|
Персонализация интеракций |
Личное взаимодействие между людьми «лицом к лицу». Скоординированное поведение участников, облегчающее координацию и сотрудничество, укрепляющее чувство общности, коллективную идентичность |
Личное руководство/ помощь/ рекомендации/ индивидуальная адресная поддержка и консультирование |
Снизить сложность участия. Побудить к просо-циальному поведению, приносящему положительные результаты для других |
|
Наблюдаемость |
Когда действия становятся явными и привлекают внимание других участников сообщества, органов власти и общественных организаций, люди осознаю ́ т, что (без) действие может повлиять на их репутацию и статус, поэтому с большей вероятностью будут совершать поступки, приносящие пользу другим, и одновременно улучшать свой имидж |
Сотрудничество сообщества с органами власти/ общественными организациями по вопросам мониторинга социальных практик индивидов |
Катализировать соблюдение правил. Предоставить возможность индивиду сигнализировать другим о совершении социально одобряемого действия и тем самым нивелировать репутационные риски и получить общественное признание |
|
Нормативность/ ин-форматив-ность |
Распространение компетентными лицами правил поведения, например запрещающих/предписы-вающих норм, которые служат коллективным целям и отражают ожидания того, какое поведение является приемлемым/пра-вильным в сообществе |
Информационная реклама |
Транслировать членам сообщества модели социально одобряемого поведения, приносящего пользу другим. Напоминать об общих целях, убеждениях, представлениях относительно ожидаемого приемлемого поведения. Нормализовать желаемое поведение |
|
Идентичность |
Согласование поведения с тем, какими люди на самом деле видят себя или хотели бы видеть |
Количество активных и поощряемых участников по отношению к общему числу представителей сообщества |
Содействовать солидарному поведению, отражающему определенную идентичность |
|
Компонент |
Примеры |
Индикаторы |
Функции |
|
Социальная кооптация |
Использование структуры сетей взаимоотношений людей |
Социальные сети |
Создавать эффект ролевого моделирования |
Источник: составлено автором на основе (Rogers et al., 2018, p. 360–361; Yang, F. et al., 2023, p. 2–4).
Персональное измерение подчеркивает влияние личной интеракции, коммуникации, обсуждений и консультаций (в отличие от письменных рассылок, уведомлений) на поведенческие результаты участников сообществ. Параметр наблюдаемости, видимости поведения фиксирует поведенческие реакции участников сообществ на внешние сигналы, влияющие на их репутацию. Граждане, чье поведение доступно для наблюдения другим, склонны к ответственности за сообщество, стремятся к сотрудничеству и соблюдению правил (Rogers et al., 2018, p. 364–365). Информирование о запрещающих нормах (например, не мусорить) может повысить мотивацию граждан к социально одобряемым коллективным действиям. Предписывающие нормы поощряют действия, подчеркивая социальные выгоды и результаты, связанные с конкретным поведением. Четвертая стратегия мобилизации солидарности предполагает корреляцию личностной идентичности с определенным паттерном поведения. Развитие ассоциаций «идентичность – поведение» влечет за собой ковариацию поведения с желаемой идентичностью, тем самым превращая проявление поведения в возможность утвердить данную идентичность. Люди также склонны согласовывать свои действия с тем, что считают типичным для комьюнити. Подобный подход побуждает граждан ассоциировать свое поведение с локальной идентичностью. Наконец, последняя стратегия мобилизации солидарности направлена на расширение прав и возможностей общественных активистов территорий/организаций, использование потенциала лидеров сообществ в социальных сетях. Когда население охвачено прочными социальными связями и верит в потенциал совместных усилий, способных привести к позитивным изменениям, внутри сообщества может возникнуть коллективное ожидание улучшения местных условий. Кроме того, люди часто полагаются на выбор других при формировании мнений и принятии решений. В локализованных социальных контекстах граждане часто следуют коллективным нормам, имитируя действия других.
Мобилизация солидарности достигается посредством стратегий, не использующих принуждение или материальное вознаграждение, включает ряд «мягких», но экономически действенных мер по повышению эффективности участия граждан. Стратегии мобилизации, основанные на концепции солидарности, интегрируют вертикальные институты и обязанности и способствуют горизонтальным связям между гражданами. Более того, подобные стратегии могут применяться в различных контекстах, разных культурных, политических и местных условиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Солидарность производится пространственно (Garcia Agustín and Jør-gensen, 2021, р. 862). Солидарность, и городская, и сельская, «изобретательна», ибо порождает новые конфигурации политических отношений, пространств, практик и представлений (Garcia Agustín and Jørgensen, 2021, р. 861; Kreichauf and Mayer, 2021, р. 982). Многомерный характер солидарности фокусирует исследовательскую оптику на сложности солидарных практик и множественности агентов, реализующих инициативы территориальной сплоченности.
Концепт солидарного города обладает нормативным, дискурсивным и идентитарным измерениями (Bauder, 2021b, p. 91–120); описывает политику, инициированную структурами гражданского общества и муниципальными властями с целью расширения прав уязвимых групп населения и их инклюзии в локальное комьюнити; создает представление о городе как сообществе, в котором каждый индивид, в силу проживания на территории, может участвовать в равной степени и реализовывать свои права, в том числе «право на город» (Kreichauf and Mayer, 2021, p. 981–982; Bauder, 2021a, p. 3214); охватывает множество коннотаций солидарности, колеблющихся между партикуляризмом (членством в сообществе) и универсализмом (универсальностью прав человека). При этом в ряде исследований показано, что политика солидарного города реализуется посредством «восходящей» мобилизации инициатив сотрудничества, осуществляемой представителями гражданского общества (Kreichauf and Mayer, 2021, р. 983; Kron and Lebuhn, 2020, р. 92).
В исследованиях муниципального (городского) управления, местной миграционной политики модели солидарности конструируются индуктивно на основе пространственного подхода с учетом специфики действий акторов солидарных стратегий: местных органов власти, институциональных субъектов, гражданского общества, граждан-активистов, уязвимых групп и т. д. Ключевой агент конструирования городских консолидирующих практик – гражданское общество (Özdemir, 2022, p. 2–3); при этом местные общественные объединения, обладая потенциалом в формировании сплоченности, могут предлагать инновационные стратегии для агрегирования и активации ресурсов. В руральных исследованиях потенциал солидарности теоретически позиционируется в контексте политики сельского развития.
По своей сути модели конструирования солидарности в сельских и урбанизированных сообществах сходны: везде наблюдается фокусировка на агентах и стратегиях формирования солидарных практик. Однако в периферийных сельских районах в силу их маргинализации доминирует гибридная модель, тогда как в городах, драйверах роста и инноваций, где социальный и человеческий капитал позволяет гражданам практиковать самоорганизацию в ответ на коллективные потребности, преобладает восходящий подход (Micelli et al., 2023, p. 2, 8). Так, А. Арампаци характеризует пространства городской солидарности, то есть инициативы, сети и структуры, как нарративы и практики восходящей солидарности, разворачивающиеся на территориальном, социальном и экономическом уровнях (Arampatzi, 2017, p. 2156). Однако следует принять во внимание, что сельские районы создают благо- приятную среду для солидарности, поскольку в них проживают небольшие сплоченные сообщества. Различен внешний контекст возникновения концептов городской и сельской солидарности: сельские районы страдают от оттока населения, города – от наплыва мигрантов.
Типология моделей территориальной солидарности основана на подвижных, непрерывных, прагматичных и преобразующих отношениях между местными органами власти и гражданским обществом. В связи с этим субъекты солидарности должны учитывать, что локальная солидарность не является универсальной, обретает разные значения, зависит от конкретных обстоятельств, действующих лиц, бенефициаров, политических целей. Солидарность проявляется как спектр преобразующих практик различных акторов, возникает на поле битвы субъектов, интересов, взглядов. Иными словами, территориальная солидарность – это кривая обучения, процесс, в котором различные участники разрабатывают набор стратегий, извлекая уроки из своих ошибок, чтобы построить безопасное и надежное локальное сообщество для всех его жителей.
Список литературы Модели солидарности в городских и сельских сообществах
- Arampatzi, A. (2017), “The spatiality of counter-austerity politics in Athens, Greece: Emergent “urban solidarity spaces”, Urban Studies, vol. 54, no. 9, pp. 2155–2171, https://doi.org/10.1177/0042098016629311.
- Ataç, I., Schwiertz, H., Jorgensen, M. B. et al. (2024), “Negotiating borders through a politics of scale: Municipalities and urban civil society initiatives in the contested field of migration”, Geopolitics, vol. 29, no. 2, pp. 714–740, https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2129732.
- Bauder, H. (2021), “Urban migrant and refugee solidarity beyond city limits”, Urban Studies, vol. 58, no. 16, pp. 3213–3229, https://doi.org/10.1177/0042098020976308.
- Bauder, H. (2021), From sovereignty to solidarity: Rethinking human migration, Routledge, London, UK, https://doi.org/10.4324/9781003206859.
- Bauder, H. and Juffs, L. (2020), “Solidarity” in the migration and refugee literature: Analysis of a concept”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 46, no. 1, pp. 46–65, https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1627862.
- Bock, B. B. (2016), “Rural marginalisation and the role of social innovation; A turn towards nexogenous development and rural reconnection”, Sociologia Ruralis, vol. 56, no. 4, pp. 552–573, https://doi.org/10.1111/soru.12119.
- Capello, R. (2019), “Interpreting and understanding territorial identity”, Regional Science Policy and Practice, vol. 11, no. 1, pp. 141–159, https://doi.org/10.1111/rsp3.12166.
- Collier, D., Laporte, J. and Seawright, J. (2008), “Typologies: Forming concepts and creating categorical variable”, in Box-Steffensmeier, J. M., Brady, H. E. and Collier, D. (eds.), The Oxford handbook of political methodology, Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 152–173, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286546.003.0007.
- Delhey, J., Dragolov, G. and Boehnke, K. (2023), “Social cohesion in international comparison: A review of key measures and findings”, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 75, suppl. 1, pp. 95–120, https://doi.org/10.1007/s11577-023-00891-6.
- García Agustín, Ó. and Jørgensen, M. B. (2021), “On transversal solidarity: An approach to migration and multi-scalar solidarities”, Critical Sociology, vol. 47, no. 6, pp. 857–873, https://doi.org/10.1177/0896920520980053.
- Kreichauf, R. and Mayer, M. (2021), “Negotiating urban solidarities: Multiple agencies and contested meanings in the making of solidarity cities”, Urban Geography, vol. 42, no. 7, pp. 979–1002, https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1890953.
- Kron, S. and Lebuhn, H. (2020), “Building solidarity cities. From protest to policy”, in Baban, F. and Rygiel, K. (eds.), Fostering pluralism through solidarity activism in Europe, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, pp. 81–105, https://doi.org/10.1007/978-3-030-56894-8_4.
- Kurowska, A. and Theiss, M. (2018), “Solidarity practices in Poland and their social capital foundations”, in Lahusen, C. and Grasso, M. (eds.), Solidarity in Europe, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, pp. 103–126, https://doi.org/10.1007/978-3-319-73335-7_5.
- Liu, W., Yin, L. and Zeng, Y. (2024), “How new rural elites facilitate communitybased homestead system reform in rural China: A perspective of village transformation”, Habitat International, vol. 149, art. no. 103096, https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103096.
- Lopera-Arbeláez, I. and Richter, S. (2024), “Transformative approaches for peace-centred sustainable development: The role of social and solidarity economy”, World Development Perspectives, vol. 34, art. no. 100593, https://doi.org/10.1016/j.wdp.2024.100593.
- Lowe, P., Phillipson, J., Proctor, A. et al. (2019), “Expertise in rural development: A conceptual and empirical analysis”, World Development, vol. 116, pp. 28–37, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.12.005.
- Micelli, E., Ostanel, E. and Lazzarini, L. (2023), “The who, the what, and the how of social innovation in inner peripheries: A systematic literature review”, Cities, vol. 140, art. no. 104454, https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104454.
- Oosterlynck, S., Loopmans, M., Schuermans, N. et al. (2016), “Putting flesh to the bone: Looking for solidarity in diversity, here and now”, Ethnic and Racial Studies, vol. 39, no. 5, pp. 764–782, https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1080380.
- Özdemir, G. Ş. (2022), “Urban solidarity typology: A comparison of European cities since the crisis of refuge in 2015”, Cities, vol. 130, art. no. 103976, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103976.
- Ray, C. (2001), Culture economies: A perspective on local rural development in Europe, Centre for Rural Economy, Newcastle upon Tyne, UK.
- Rogers, T., Goldstein, N. J. and Fox, C. R. (2018), “Social mobilization”, Annual Review of Psychology, vol. 69, pp. 357–381, https://doi.org/10.1146/annurevpsych-122414-033718.
- Sayuti, R. H., Taqiuddin, M., Evendi, A. et al. (2023), “Impact of COVID-19 pandemic on the existence of social solidarity: Evidence from rural-urban communities in Lombok Island, Indonesia”, Frontiers in Sociology, vol. 8, art. no. 1164837, https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1164837.
- Schiefer, D. and van der Noll, J. (2017), “The essentials of social cohesion: A literature review”, Social Indicator Research, vol. 132, pp. 579–603, https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5.
- Siim, B. and Meret, S. (2021), “Patterns of reflective solidarity and migrant resistance in Copenhagen and Berlin”, Critical Sociology, vol. 47, no. 2, pp. 219–233, https://doi.org/10.1177/0896920520944517.
- Vranken, J. (2005), “Changing forms of solidarity: Urban development programs in Europe”, in Kazepov, Y.(ed.), Cities of Europe. Changing contexts, local arrangements, and the challenge to urban cohesion, Blackwell Publishing, Malden, MA, US, pp. 255–276.
- Wang, R. and Tan, R. (2020), “Patterns of rural collective action in contemporary China: An archetype analysis of rural construction land consolidation”, Journal of Rural Studies, vol. 79, pp. 286–301, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.019.
- Yang, C., Chen, R., Zhong, S. et al. (2023), “How social solidarity affects the outcomes of rural residential land consolidation: Evidence from Yujiang County, South China”, Land Use Policy, vol. 130, art. no. 106662, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106662.
- Yang, F., Yao, S. and Li, Y. (2023), “Solidarity mobilization and citizen participation effectiveness in urban area: The case of community recycling program”, Cities, vol. 143, art. no. 104623, https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104623.