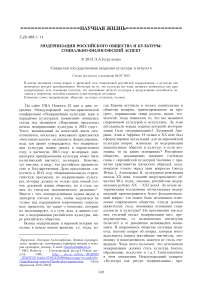Модернизация российского общества и культуры: социально-философский аспект
Автор: Куруленко Элеонора Александровна
Рубрика: Научная жизнь
Статья в выпуске: 2-3 т.15, 2013 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания статьи вопрос о движущей силе современной российской модернизации, о культуре как возможном ресурсе преобразования. Несмотря на то, что культура все чаще начинает пониматься как враг модернизации, есть основания полагать, что креативные области культуры и продуктивная способность человека к творчеству способна изменить существующую ситуацию.
Модернизация, общество, культура, политика, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/148101489
IDR: 148101489 | УДК: 008:1/14
Текст научной статьи Модернизация российского общества и культуры: социально-философский аспект
На сайте РИА Новости 23 мая в день открытия Международной научно-практической конференции «Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений» появилась статья под названием «Нарышкин предложил начать модернизацию культуры в 2013 году». Текст, выхваченный из новостной ленты симптоматичен, поскольку показывает практически «бессознательную» оплошность формулировки, ведь там прямо утверждается, что модернизация культуры можно начать в определенном году, в частности, 2013 году, во-первых; инициатором преобразования культуры может быть политический институт, во-вторых. Конечно, тут имелось в виду, что российское правительство и Государственная Дума предложили «запустить в 2013 году общенациональную стратегическую программу по модернизации культуры, которая должна не только дать новый толчок духовной жизни общества, но и стать одним из стимулов экономического развития»1. Вместе с тем, непосредственная задача науки и экспертов состоит в том, чтобы задуматься не только над содержанием современных социальных процессов, но также о понятиях, которые их эксплицируют, и о сути дела, в данном случае о модернизации российского культуры, шире российского общества.
Волны модернизации в мировой истории начались в начале нового времени, т.е. тогда, ко-
гда Европа вступила в полосу капитализма и общества модерна, ориентированного на прогресс, наращивание мощи разума, науки, технологий, тогда появилось то, что мы называем современной культурой и искусством. За этим последовали череда социокультурной вестернизации (или «модернизации») Латинской Америки, Азии и Африки. И только в ХХ веке был сформулирован актуальный для не-европейской культуры вопрос: возможна ли модернизация национальных обществ и культур, и если возможна, то на каких основаниях? Российское общество, традиционно имеющее глубокую связь с европейской культурой (начиная с принятия христианства греческого образца), неоднократно стояло перед этим вопросом (эпоха Петра I, Александра II, культурная революция начала ХХ века, создание индустриального общества 30-х годах, наконец, российская модернизация рубежа ХХ – ХХI века). За всеми историческими коллизиями отечественных модернизаций просматривается более фундаментальный вопрос: что может быть источником изменения современного общества, откуда должна проистекать сила, меняющая основания социальности и культуры? На протяжении последних столетий посыл модернизации шел, преимущественно, от политических институтов (власти!) и от динамично меняющейся экономики. В современном обществе ситуация меняется, поэтому вопрос об опорах, которые могут вытолкнуть вперед российские институты, экономику и повседневность кажется не столь очевидным. Чаще всего полагают, что источником модернизации должна стать культура (наука, образование, искусство и т.д.). Симптоматичен в этом отношении Международный конгресс «Культура как ресурс модернизации», про- шедший в 2011 году Ульяновске с участием экспертов Совета Европы, Европарламента, ЮНЕСКО, министров культуры стран СНГ и регионов России, представителей Госдумы РФ, деятелей культуры и науки.
Слово «модернизация», как термин вошло в активное употребление в 1950-х гг.; но, уже начиная с Вебера, применение категории модернизации характеризует научную и социальную позицию, ориентирующуюся на выстраивании связи современности с историческим контекстом западного рационализма. Теория модернизации выступает одним «из содержательных аспектов концепции индустриализации, а именно – теоретическая модель (…) трансформаций сознания и культуры в контексте становления индустриального общества»2. Действительно модернизация, модерность, модернизм и индустриальное общество категории одного порядка.
Понятие модернизации, как пишет Ю.Ха-бермас, относится к формированию капитала и мобилизации ресурсов; к развитию производительных сил и повышению продуктивности труда; к осуществлению центральной политической власти и формированию национальных идентичностей; к расширению политических прав участия, развитию городских форм жизни, формального школьного образования; к секуляризации ценностей3. Насколько удачен термин модернизация, когда мы говорим об обществе постиндустриального типа? Представляется, что он правомерен, если в своих рассуждениях мы будем ориентироваться на концепцию незавершенного модерна Ю.Хабермаса, блестяще показавшего, что у рациональности есть шанс в настоящем и будущем, а постмодернизм – это «кривое зеркало» трансцендентального разума, допустившего ситуацию «махрового» анархизма знаков4.
Никакая социальная модернизация (включающая изменение отдельных сфер общественной жизни, например, экономики, политики, техники и т.д.) невозможна без трансформации институтов и процессов жизнедеятельности людей, т.е. без подвижек в области повседневности и культуры. Если понимать культуру как актуальное искусство, пионерские открытия в науке и технике, средствах связи и медиа, как передовую любых преобразований, то именно эти сферы и практики могут рассматриваться как ведущий эшелон модернизации. Вместе с тем, культура включает в себя не только искусство и литературу, но образ жизни людей, системы их ценностей, стереотипы выбора, традиции и мировоззрение. Тогда она выступает консервативным, стабилизирующим началом социальности. Культура – это своеобразные скрепы социального порядка, которые должны выдерживать активность исторических трансформаций и ломок. Как пишет известный культуролог К.Э.Разлогов, с точки зрения современных научных представлений, культура не может быть инновационной. Духовная культура базируется на том, что связи, обычаи и традиции, объединяющие людей, должны по возможности быть стабильными, иначе все будет сломано. С этой точки зрения, культура – враг изменений. Поэтому вопрос о том, как можно модернизировать культуру приобретает новое звучание. Особенно это касается российской культуры. Российская ментальность, выросшая из широких просторов, с ее неторопливостью («культурой семечек», посиделок, специфической культурой алкоголя) «с трудом поддается, каким бы то ни было трансформациям, в особенности процессам модернизации», полагает К.Э.Раз-логов. Поэтому все попытки проведения в жизнь модернизации в России носили элитарный и авангардисткий характер, а их реализация натыкалась на культурный консерватизм российской повседневности5. Тогда встает вопрос: есть ли нечто в культуре, что может стать стратегическим ресурсом развития? Ведь даже стабильное образование, создающее подушку безопасности для общества, нуждается, пусть в постепенных и медленных, но изменениях. По мнению культуролога, элементы культуры, которые направлены на изменение, «сосредоточены в одном определенном слое искусства, в том, что называется художественным авангардом или актуальным искусством», т.е. том самом «искусстве, которое всех так возмущает»6. Таков ответ Разлогова.
Тем же вопросом задается и Е.Гениева. «Если культура, – пишет она, – это некий фунда- мент, укореняющий человека в обществе, то можно ли ее модернизировать, а если можно, то как»7? Е.Гениева, отмечая тотальную технологизацию современного общества и культуры, предлагает обратиться к человеку, как источнику изменений и прогрессивного движения. Живое обращение к человеку она связывает с мировоззренческой установкой, получившей название «новый гуманизм». «Понятие это еще очень шаткое, требующее уточнений и концептуальных углублений, как и понятие «модернизация». В самом общем виде «новый гуманизм» – это реакция на постмодернистское постиндустриальное общество, которое расшатало многие традиционные ценности до их полнейшего распада»8. С позиции автора, модернизация общества возможна только тогда, когда сохраняются культурные традиции, а человек как субъект модернизации способен соотносить себя с переменами, меняя себя и приспосабливаясь к новым контекстам. Условием реализации такой идеологической установки на изменение общества является нормальное функционирование гражданского общества, социальных институтов и ответственность элит за культуру, образование, систему ценностей и идеалов.
Таким образом, в научном поле существует два фундаментальных вопроса, без решения которых нельзя создать проект российской модернизации рубежа ХХ – ХХI века. Первый вопрос таков: может ли культура стать ресурсом социальной и экономической модернизации современной России? Второй звучит так: может ли отечественная культура быть модернизирована? Ряд авторов утверждает, что культура не может быть ресурсом модернизации российского общества, и собственно она сама не модернизируема и консервативна (выше в качестве примера была приведена позиция К.Э.Раз-логова) Вместе с тем часть исследователей убеждены в обратном. Культура может и должна стать движущей силой, маховиком преобразования современного российского общества. Ясно, что понятия культуры достаточно емкое и по своему содержанию, и по разнообразия подходов. Не все, что входит в культуру подвижно и обладает достаточной гибкостью для трансформаций, но в рамках отечественной культуры есть нечто, что способно дать сильный модернизационный эффект (не стремительно, но возможно!). Это такие сферы культуры как наука и образование (при этом образование, взятое даже в своей консерватив- ной составляющей, как, например, школа), т.к. наука и образование формирует субъекта культуры, или то, что экономистами называется «человеческий капитал».
Как известно, понятие человеческого капитала ввел лауреат Нобелевской премии, экономист Т.Шульц, который в 60-е. годы ХХ века выпустил такие работы, как «Образование как источник формирования капитала», «Инвестиции в человеческий капитал». Понятие было настолько продуктивно, что Г.Беккер9 параллельно с Шульцем пишет работу «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ». Учеными был выявлен серьезный экономический эффект от повышения уровня образования граждан, позитивное влияние этого «непроизводственного сектора» на производство и систему услуг государства. Благодаря теории человеческого капитал Шульца и Беккера изменилось отношение власти и политиков западного мира к образованию, которое наряду с наукой, креативными индустриями, изобретательством, конструированием, культурой и искусством были признаны инновационными секторами экономики, радикально меняющими не просто уровень производства и потребления, но качество жизни человека10. Для западного мира эти идеи – очевидность. Теперь и перед российским государством стоит задача перестройки институтов и экономической политики в сторону создания условий развития инновационной экономики. Современная инновационная экономика – это экономика знаний, где роль культуры невозможно переоценить. Задача российского общества осмыслить этот факт и включиться в процесс модернизирования социального.
Модернизирование российского общества связано с его капитализаций, и в частности, с капитализацией культуры (понимаемой в самом широком смысле, как встраивание общества и институтов в контекст современной рыночной экономики). В настоящее время очевиден конфликт между институтами власти, последовательно проводящими курс модернизации, и обществом, сопротивляющимся этим установкам. Изменение ситуации возможно только путем «модернизирования» культуры, которая как раз и отвечает за состояние сознания и ментальности разных групп. Сотовый телефон, Интернет радикально изменил стиль и качество социальной коммуникации. Это значит, что без реформирования классических институтов культуры (школа, библиотека, театр, университет, музей и пр.) невозможно оказывать влияние на трансформацию сознания человека, на формирование подлинного гражданского общества в России.
Сейчас модернизация культуры проходит трудный процесс перестройки традиционных институтов, ранее активно поддерживаемых государством (начиная от образования, закачивания финансированием отечественного кино) и превращения их в «культуриндустрии». Культура начинает работать в режиме производства, с одной стороны, и конвертируется в разные формы капитала, с другой. В отличие от экономического капитала, как полагает П.Бурдье, социальные условия передачи и приобретения культурного капитала скрыты, неочевидны, трудно конвертируемы, поэтому культурный капитал функционирует по принципам символического, т.е. остается «непризнанным в качестве силы и легитимной компетенции»11. Отсюда неудивительно отечественное финансирование культуры по остаточному принципу. Эффект культуры нельзя оценить прямо, силы и время, которые затрачиваются на формирование и передачу плотности культурных смыслов занимает целую жизнь человека.
Индустриализация и капитализация современной культуры произвела резкую дифференциацию между двумя сферами: популярной, массовой культурой и культурой, связанной с традиционными институтами (образование, искусство, наука и пр.). Популярная культура доминирует, поскольку она доступна во всех смыслах этого слова (она рентабельна, она очевидна по своему смысловому содержанию). В этих условиях функционирование некоммерческих секторов культуры ставится под серьезный вопрос. К.Э.Разлогов, анализируя эту ситуацию, предлагает учитывать ряд принципов в реализации культурной политики государства: поддержка отечественных культуриндустрий на российском и мировом рынке законодательными и экономическими мерами (1); увеличить роль и объем некоммерческого сектора культуры, отсюда лозунг – «чем больше рынка, тем больше государственной поддержки» (2); признание принципиальной ограниченности в области количественного учета результа- тивности культурной и художественной деятельности (3)12.
Особенностью нынешней модернизации России выступает то, что она осуществляется в режиме «мульти» (множественности оснований, мультикультурализма, политкорректности и пр.). Если эпоха Петра I трансформировала государство, превратив Россию в империю, если советская модернизация построила индустриальное общество, то у современной модернизации мульти- или полиосновы. В этих обстоятельствах нельзя обращаться к чему-то одному, что позволило бы продвинуть общество на новый уровень организации жизни. Значит, нужно обратиться к человеку и культуре, как естественной для него среды проживания. Необходимо обратить внимание и поддерживать все культурные практики, которые позволяли бы развивать продуктивную, творческую силу человека (субъекта культуры). Не случайно, слово креативность становится лозунгом современной культуры, начиная от альтернативных молодежных практик (паркур, граффити и пр.) до масштабных научных форумов отечественных культурологов (III всероссийский культурологический конгресс «Креативность в пространстве традиции и инновации», 2010). Подлинной силой современной модернизации общества должна стать культура, которая и создает не просто знание, технологии и искусство, но творит новую повседневность человека, ориентирует его на новое, инновационное, необычное и продуктивное. Что неминуемо ведет к ускорению темпа жизни, темпа изменений и качества роста. Уравновесить такую нестабильную ситуацию может тоже только культура, которая со стороны традиции и наследия все равно будет сохранять, резервировать каноны, смыслы и выбирать для будущего новые образцы, значения и произведения. Новая ситуация делает наше существование менее устойчивым, требующим б о льшей ответственности каждого, но без понимания этого нельзя продвинуться вперед.
Таким образом, время модернизации – это время поворота и трудный опыт формирования нового порядка социального. Без разумной и взвешенной политики в области культуры и искусства, образования и науки, без учета множественности культур, сложности самой культуры (!) нельзя осуществить преобразование жизни общества и человека.
MODERNIZATION OF THE RUSSIAN SOCIETY AND CULTURE: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT
Список литературы Модернизация российского общества и культуры: социально-философский аспект
- РИА Новости//[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://ria.ru/culture/20120523/655837222.html#13702525789964&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration (Дата обращения 23.05.2013).
- Можейко М.А. Модернизации концепция//Философский словарь [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://philosophy-dictionary.info/Философский _словарь/3315/Модернизации_Концепция (15.05.2013).
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне//[Электронный ресурс] Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/habermas-filosof_diskurs _o_monerne-2003-8l.pdf (15.04.2013);
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне/Пер. с нем. -М.: 2003. -С. 8. Там же. -С. 9.
- См.: Разлогов К.Э. Духовное возрождение – миф или реальность? // Культурологический журнал. – 2012. – № 1 (7) // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/121. html&j_id=9 (23.04.2013).
- Разлогов К.Э. Российская культура: развитие или безопасность -что важнее? Выступление на Московском форуме культуры (1 июля 2010 г.)//[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/19.html&j_id=3 (23.04.2013).
- Гениева Е. Модернизация и культура // Вестник Европы. – 2011. – №31 – 32 // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://magazines.russ.ru /vest-nik/2011/31/ge2-pr.html (23.04.2013).
- Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории/Пер. с англ. -М.: 2003.
- Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование: монография/Смирнов В.Т., Сошников И.В., Романчин В.И., Скоблякова И.В.; Под ред. д.э.н., проф. В.Т.Смирнова. -М.; Орел: 2005//[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.plproject.ru/download/plproject01 -04.pdf (23.04.2013).
- Бурдье П. Формы капитала/Пер. М.С.Добряковой. Науч. ред. В.В.Радаев//[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital (23.04.2013).