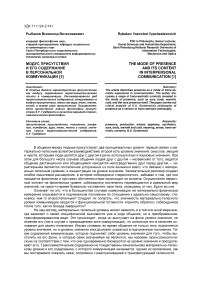Модус присутствия и его содержание в персональной коммуникации
Автор: Рыбаков Всеволод Вячеславович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье дается характеристика присутствию как модусу переживания транссемиотического опыта в коммуникации. Рассматривается ряд транссемиотических содержаний, открываемых в модусе присутствия, таких как аура, тело, тепло, холод, а также само присутствие. Осуществляется критический анализ философии присутствия Х.У. Гумбрехта в качестве варианта транссемиотической философии.
Присутствие, производство, появление, эпифания, колебание, аура, тело, тепло и холод, значение, смысл, транссемиотическое содержание, х.у. гумбрехт
Короткий адрес: https://sciup.org/14940817
IDR: 14940817 | УДК: 111:124.2:141
Текст научной статьи Модус присутствия и его содержание в персональной коммуникации
В общении между людьми присутствуют два принципиальных уровня: первый связан с материально-телесным аспектом взаимодействия, второй есть уровень значений, смыслов, эмоций и чувств, которыми люди делятся друг с другом в речи, используя язык и языковые значения. При этом для большого числа случаев общения людей друг с другом - независимо от того, ведется общение дистанционно или общающиеся находятся непосредственно друг перед другом, - характерными являются постепенное устранение из поля внимания всего, что связано с материально-телесным уровнем, и концентрация на уровне значения. Увлекательный разговор создает особое смысловое расширение, в которое собеседники «переносятся», забывая о том, где они находятся физически и при каких обстоятельствах происходит их встреча. Осуществляя первичный контакт на физическом уровне, собеседники постепенно перемещаются в идеальный мир значений, на какое-то время буквально «оставляя» свои тела, отрешаясь от них, будто во сне.
Означает ли это, что в большинстве случаев коммуникации ее материально-физическое измерение оказывается в подчиненном положении по отношению к идеально-смысловому, становясь чем-то второстепенным? Следует ли полагать, что значимость материально-телесного уровня коммуникации сводится к функциональной готовности «принять обратно» собеседников после того, как их беседа завершится?
На наш взгляд, материально-телесный уровень может заявлять и в той или иной мере всегда заявляет о своей специфической значимости уже в ходе общения, но в преображенном, трансформированном виде. Это происходит, когда он выступает на фоне уровня значения, не отменяя его (как в случае с прекращением акта коммуникации), но используя его в качестве основания для своего появления. Иными словами, во время общения не только тело подчиняется уровню значения, но и уровень значения иногда может оказаться в подчиненном положении. Такие содержания коммуникации, которые подчиняют себе уровень значения для того, чтобы выступить на его фоне, и которые сами значениями не являются, мы назовем транссемиотическими (в соответствии с тем, что они одновременно базируются на уровне значения и преодолевают его). Транссемиотические содержания не тождественны изначальному материально-телесному уровню и его содержанию, с которого коммуникация начинается, однако их проявление, как мы постараемся показать ниже, сопряжено с реактуализацией и трансфигурацией телесности.
Каковы же, однако, эти содержания и при каких обстоятельствах они рождаются? Как мы можем их описать? В ряде наших недавно опубликованных работ [2; 3; 4] постулировалась неспособность классической семиотики, а также философской герменевтики Г.-Г. Гадамера описать содержания, выходящие за рамки языковых значений; вместе с тем отмечалось наличие в современной философии тенденции, которая названа транссемиотической и желание которой видится в повышении чувствительности к транссемиотическим компонентам человеческого мира.
В статье обратимся к труду Х.У. Гумбрехта «Производство присутствия. Чего не может передать значение» [5], в котором современный мыслитель задействует категорию присутствия , осмысляя его возможное содержание и настаивая на его включении в ряд «нетолковательных категорий» [6, с. 61], которые бы позволили « свидетельствовать о том, что есть в нашей жизни абсолютно не-понятийного » [7, с. 140]. Философия присутствия Х.У. Гумбрехта интересна и близка нам тем, что она не только предполагает наличие элементов по ту сторону значения в составе человеческого мира, но и пытается осуществить их философское описание. В работе мы хотели бы воспользоваться понятием присутствия, осмысленным Х.У. Гумбрехтом, для анализа сферы персональной коммуникации, что позволит дать характеристику транссемиотическому опыту, переживаемому в ходе коммуникации, а также его базовым содержаниям. Сделать это, однако, будет возможно лишь после критического рассмотрения самой философии присутствия Х.У. Гумбрехта.
Что же подразумевает Х.У. Гумбрехт под присутствием и под его производством? В своей работе Х.У. Гумбрехт несколько раз возвращается к понятию присутствия, отмечая различные оттенки в его определении, но в целом под присутствием автор стремится понимать «пространственное отношение к миру и его предметам» [8, с. 10], в рамках которого то, что присутствует, «может оказывать непосредственное воздействие на человеческое тело» [9]. Важно отметить, что одновременно с присутствием Х.У. Гумбрехт вводит понятие производства и использует его «в соответствии с его этимологическим корнем (лат. producere), обозначающим действие “выдвижения” какого-либо предмета в пространстве» [10]. Присутствие и его производство мыслятся Х.У. Гумбрехтом как единый процесс, описывающий не статичное измерение физического мира, а «динамику появлений», воздействующих на человека и его тело. Из повествования Х.У. Гум-брехта следует, что присутствие невозможно мыслить без его производства, то есть без эффекта выдвижения, интенсификации воздействия чего-либо на человека.
Иными словами, под производством присутствия подразумевается нечто «энергетическое». В этом смысле присутствие исключает из своего состава простое наличествование вещей, их статичное состояние. Это означает, однако, что, хотя исходное определение присутствия осуществляется через отсылку к пространству, оно также не может быть помыслено без времени, поскольку именно темпоральность есть неотъемлемый атрибут любого процесса. Не будучи простым наличием чего-либо, производство присутствия приобретает характеристику «экстремальной темпоральности» [11, с. 66].
Введя понятие присутствия, Х.У. Гумбрехт далее совершает любопытный ход. Он начинает утверждать, что, описывая реальность, правильнее было бы в конечном счете говорить не о присутствии, а об «эффектах присутствия». В этом смысле оказывается, что присутствие как таковое суть, скорее, некий идеальный тип, тогда как в реальности «явления присутствия неизбежно эфемерны, неизбежно представляют собой… “эффекты” присутствия» [12, с. 110]. С чем же это может быть связано?
Здесь Х.У. Гумбрехт подчеркивает момент, который для нас представляется крайне важным. За счет чего становится возможен этот энергетический, колебательный процесс производства присутствия? Почему присутствие есть именно производимое присутствие – присутствие появляющееся? И, наконец, откуда , или из чего оно появляется? Что его производит? Идет ли здесь речь о том, что статичные предметы физического мира приходят в движение и тем самым оказывают воздействие на наше тело?
Последнее из понятия присутствия не исключается, однако внимание Х.У. Гумбрехта приковано к совершенно другой проблеме. Присутствие производится, выводится не из статичности физических объектов, а из уровня значения, или мира, конституированного дискурсивно. Принципиальный тезис Х.У. Гумбрехта состоит в том, что «для нас явления присутствия всегда случаются как “эффекты присутствия”, так как они неизбежно окружены, окутаны, можно даже сказать, опосредованы, облаками и подушками значения (курсив наш. - В. Р.)» [13]. Подобный постулат свидетельствует о том, что опыт присутствия, описываемый Х.У. Гумбрехтом, есть опыт транссемиотический, который следует отличать от сферы досемиотического – чувственных ощущений, эмоций и т. п. Концепт присутствия не отрицает постулаты дискурсивизма о мире как тексте; напротив, он принимает положение о том, что базовое измерение человеческого мира вместе с языковыми играми, на которые он разбивается, конституируется дискурсивно, через интерпретацию и языковые значения. Однако концепт присутствия также подразумевает, что человеческий мир не сводится к этому измерению дискурсов, поскольку именно из него и на его фоне проступают «эффекты присутствия» как нечто от него отличное. Тем самым присутствие необходимым образом предполагает предшествующий ему уровень значения, а появляясь, не уничтожает его, но продолжает использовать и «сохранять». Именно поэтому появление присутствия следует мыслить как «колебание (а порой и интерференцию) между “эффектами присутствия” и “эффектами значения”» [14, с. 16].
«Колебательность» появления присутствия обусловливает его принципиальную характеристику – эпифанию . Данное понятие в терминологической системе Х.У. Гумбрехта обозначает «чувство, что эффекты присутствия нельзя удержать, что они – а вместе с ними и симультанность значения и присутствия – эфемерны» [15, с. 114]. Говоря об эпифаничности присутствия, Х.У. Гумбрехт выделяет три главных признака эпифании: «Прежде всего… мы никогда не знаем, произойдет ли такая эпифания, а если произойдет, то когда. Во-вторых, если она происходит, то мы не знаем, какую форму она примет и насколько интенсивной окажется… Наконец… эпифания… представляет собой событие, потому что самоуничтожается в процессе своего возникновения» [16, с. 116].
Таков теоретический каркас философии присутствия Х.У. Гумбрехта, который мы попытались эскизно обрисовать. Каковы же конкретные примеры присутствия, оживляющие предложенное Х.У. Гумбрехтом теоретическое построение?
На наш взгляд, присутствие у Х.У. Гумбрехта остается в целом недостаточно конкретизированным. И дело не только в том, что Х.У. Гумбрехт приводит недостаточно примеров присутствия, но и в том, что приводимые им примеры представляются достаточно разрозненными, так что попытка подвести их под единое понятие присутствия выглядит не слишком убедительно. С этой точки зрения теоретическая часть проекта Х.У. Гумбрехта, хотя и она не лишена шероховатостей, все же выглядит более проработанной и цельной, чем практическая часть, на которой мы остановимся здесь очень кратко.
Одной из главных сфер, осмысляемых Х.У. Гумбрехтом через концепт присутствия, является сфера эстетического опыта. Именно эстетический опыт поставляет эффект, чрезвычайно важный для присутствия, – а именно эффект внезапного появления. В эстетическом переживании мы сталкиваемся с чем-то становящимся, меняющимся, энергетически заряженным, контуры чего невозможно четко очертить, что, однако, не является недостатком эстетического опыта, но, напротив, составляет его содержательность, достоинство и притягательность. Связывая присутствие и эстетический опыт, Х.У. Гумбрехт во многом опирается на работу М. Зееля «Эстетика появления» и ее тезис о том, что «постижение чего-либо в процессе его появления ради самого этого появления есть центральный момент любого эстетического восприятия» [17, р. 15]. Со своей стороны отметим, что осмысление эстетического опыта через феномен появления характеризует целый ряд исследований по эстетике. Например, для Ж.-Л. Мариона смысл живописи состоит в том, что она «должна регистрировать… восхождение невиданного к (про)явлению» [18, с. 82], так что картина «показывает нам главным образом то, что значит показываться» [19, с. 87]. В целом трудно не согласиться с тем, что опыт соотнесения с произведениями искусства, и в частности произведениями живописи, может быть описан как производство присутствия: действительно, хорошая картина никогда не остается плоским изображением, но за счет своей энергетической заряженности и красок выступает из себя, выдвигается навстречу зрителю или, более того, захватывает его, что зачастую переживается весьма интенсивно на физическом уровне.
Однако опыт присутствия у Х.У. Гумбрехта не ограничивается соотнесением с произведениями искусства. Моменты присутствия можно пережить и при столкновении с природными явлениями и – в пределе – с любым феноменом мира. Х.У. Гумбрехт упоминает молнию, дополняющую гром, а также яркое калифорнийское солнце, контрастирующее с более прохладным европейским солнцем. Понимая значение как «знание о состоявшемся выборе (или же о возможных альтернативах тому, что выбрано)» [20, с. 109] (в этом понимании Х.У. Гумбрехт, очевидно, отсылает нас к лингвистическому значению в исследованиях Ф. де Соссюра, определявшего значения через различия), Х.У. Гумбрехт утверждает, что «ослепительное солнце или молния не переживаются как нечто “иное” по отношению к менее ясному дню или же к грому» [21].
На наш взгляд, данное утверждение не является бесспорным. С одной стороны, можно согласиться с тем, что феноменологически различные состояния и феномены, например повышение температуры воздуха, усиление жара солнца или появление молнии, могут переживаться как феномены, составляющие богатство и разнообразие мира. В этом смысле можно не задумываться об отличии молнии от грома, а переживать молнию в дополнение к грому, наращивая общее чувство содержательности, сочности мира. В то же время молния есть все же нечто отличное от грома, а жаркое калифорнийское солнце – нечто отличное от солнца среднеевропейского, и только за счет того, что они отличаются друг от друга, они могут составлять множественность феноменов мира и образовывать его богатство. Таким образом, наперекор Х.У. Гумбрехту, возможно утверждать, что, хотя мы и не чувствуем, что переживаем молнию как нечто отличное от грома, на самом деле, быть может, именно так мы ее и переживаем. Как бы там ни было, примеры с молнией и калифорнийским солнцем, приводимые Х.У. Гумбрехтом, не кажутся нам слишком удачными примерами производства присутствия.
Более продуктивным и в известной мере нетривиальным нам представляется образ, связанный со спортивными играми, и в частности с феноменом «красивой игры». Х.У. Гумбрехт обращает внимание на то, что «красивая игра всегда есть событие: ведь нельзя предсказать, когда она возникнет и возникнет ли вообще; а когда она возникает, мы не знаем, как она будет выглядеть (даже если ретроспективно и можем найти в ней сходства с другими, виденными раньше эпизодами красивой игры); и она почти буквально самоуничтожается в момент своего возникновения» [22, с. 116]. Однако и у данного примера есть недостаток: красивая игра выступает скорее примером эпифании, нежели самого присутствия. К примеру, смотря по телевизору футбольный матч, мы можем отметить внезапное появление красивой комбинации, в результате которой оказывается забит гол, что, безусловно, будет прекрасным примером эпифании. Однако, на наш взгляд, здесь не будет идти речи о присутствии, так как исходное определение присутствия подразумевает непосредственную близость присутствующего в пространстве.
Таким образом, на наш взгляд, теоретическое обоснование концепта присутствия у Х.У. Гумбрехта оказалось проработано лучше, чем наглядная демонстрация примеров присутствия и его производства. Именно это, по нашему мнению, является главной причиной того, почему книга Х.У. Гумбрехта производит впечатление скорее философского наброска, смысл которого состоит в том, чтобы лишь подступиться к проблеме присутствия. Именно это вместе с тем позволяет продумать, в каком направлении следует развивать предложенный Х.У. Гумбрехтом концепт, если с теоретической точки зрения он представится нам перспективным.
По нашему мнению, понятие присутствия может заиграть новыми красками, если апплици-ровать его к сфере коммуникации. Удивительно, но, говоря о присутствии и его производстве, Х.У. Гумбрехт совсем не обращает внимания на сферу персонального общения между людьми, тогда как именно эта сфера при ближайшем рассмотрении представляет собой прекрасный пример производства присутствия, а возможно, и вовсе является центральной сферой, где такое производство имеет место. В самом деле, именно в сфере общения люди появляются друг перед другом, исчезают, приближаются, отдаляются, касаются и затрагивают друг друга – причем как на телесно-физическом уровне (поскольку люди, наряду с другими феноменами мира, обладают телами и представляют собой «вещи» мира), так и на уровне значения, в результате чего колебания между «эффектами значения» и «эффектами присутствия» оказываются здесь чрезвычайно интенсивными.
Ситуация общения более благоприятна для производства присутствия, по сравнению со всеми остальными, еще и потому, что именно в ней наиболее вероятен феномен оборачивания значения – появление эпифанической ситуации, в рамках которой уровень значения из главного содержания общения превращается в форму, а на авансцену выходят «эффекты присутствия», или транссемиотическое содержание опыта коммуникации. Колебательный процесс в коммуникации усиливается тем, что в ходе общения мы обмениваемся не только значениями, но и нонсенсом, что переживается как колебание между пониманием и непониманием.
Говоря о концепте присутствия применительно к коммуникации, попытаемся осмыслить присутствие как модус переживания транссемиотического опыта. Тем самым подчеркнем, что все основные черты присутствия, отмеченные Х.У. Гумбрехтом (такие как эпифания, выдвижение и сокрытие, появление и ускользание, колебательность и т. п.), характеризуют содержания, которые могут быть встречены и пережиты в рамках такого опыта. При этом необходимо отметить, что само присутствие также может быть пережито как конкретное содержание коммуникации (подобно тому, как содержанием коммуникации в пределе может выступить и сама коммуникация).
Каковы же эти содержания наряду с эпифанией и эффектом проявления? В данной статье мы не будем претендовать на изложение полного перечня транссемиотических содержаний, переживаемых в рамках транссемиотического опыта, и в частности в модусе присутствия. Подобно Х.У. Гумбрехту, лишь эскизно обрисовавшему возможные черты философии присутствия, мы хотели бы скорее дать некий образец внимательности к подобного рода феноменам, полагая, однако, что такое начинание обладает существенной философской ценностью, и рассчитывая, что нам удастся развить его в дальнейшем.
Для характеристики одного из содержаний, с которым агенты коммуникации могут столкнуться в модусе присутствия, обратимся к понятию ауры, задействованному В. Беньямином. В работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» В. Беньямин дал красивое определение ауры, предложив понимать ее как «уникальное чувство дали, как бы близок при этом предмет ни был» [23, с. 24]. Сам В. Беньямин использовал понятие ауры применительно к произведениям искусства и указывал, что репродуцирование произведения искусства лишает его ауры, поскольку посредством своих многочисленных копий произведение становится слишком близко к зрителю и миру повседневности, в конечном счете буквально растворяясь в нем.
В данном случае выскажем мысль о том, что понятие ауры прекрасно подходит для описания того, что происходит в отношениях между людьми. И если В. Беньямин говорил об утрате ауры, то мы, напротив, хотели бы говорить о ее появлении. Ранее мы указывали на то, что во время коммуникации общающиеся вначале вступают в общение, то есть единое пространство обсуждаемых вопросов и значений, которое их объединяет, в результате чего они переживают «эффект сближения». Однако процесс коммуникации неизбежно подразумевает обмен нонсен-сами, что приводит к «эффекту отдаления» в рамках сложившегося общего пространства, ситуации близости и единства. Возникает переживание одновременной близости и раскрывающейся дали. Передавая нонсенс, человек предстает в своей инаковости, загадочности, известной чуждости и непознаваемости; становится отчетливо видно, что этот человек - «другой». Раскрытие дали изнутри раскрывшейся близости мы и хотели бы назвать аурой применительно к сфере общения. Опыт ауры собеседника может переживаться участниками общения по-разному: кто-то будет переживать его как нечто по преимуществу негативное, кто-то, скорее, примет эту загадку и выступит ей навстречу, откроется ей.
Важно отметить, что опыт ауры не есть опыт значения, рефлексии и понимания (например, понимания того, что понимание не складывается), но что он есть транссемиотический опыт как опыт выхода за рамки значений, переживаемый как невозможность наделить происходящее значением (эта невозможность поддерживается, в частности, тем, что раскрытие ауры как раскрытие дали изнутри раскрывшейся близости предстает как парадокс, который феноменологически, в момент непосредственного столкновения с ним, переживается как нонсенс).
В ситуации этой невозможности наделить ауру значением фокус внимания общающихся перемещается с уровня значения и связанного с ним измерения на транссемиотическое измерение коммуникации, которое, вслед за аурой, начинает раскрываться полнее. Вместе с переживанием ауры по-новому переживается и тело другого человека. Более того, есть смысл утверждать, что в модусе присутствия тело другого впервые по-настоящему открывается, выступает навстречу, появляется. Тело, подчиненное коммуникации как обмену значениями, тело как механизм, позволяющий в физическом мире вступить в коммуникацию и сконцентрироваться на значениях, еще не есть тело в собственном смысле слова. Занятые значениями, общающиеся не замечают тел друг друга. Только в модусе присутствия, когда начинают происходить колебательные процессы между «эффектами значения» и «эффектами присутствия», тело другого впервые выступает как самостоятельное и положительное содержание коммуникации. Когда уровень значения отходит на второй план, именно тело предстает как субстрат воплощения ауры, средоточие загадки, инаковости, «?-бытия» [24]. Так тело человека претерпевает трансфигурацию, становится средоточием парадокса: оно и близко, и далеко одновременно.
Переживание ауры, как уже было сказано, может быть различным. Для обозначения обоих вариантов переживания ауры представляется целесообразным введение таких понятий, как холод и тепло . В данном случае речь не идет о чувственных ощущениях или метафорах (как в случае с выражением «ледяное сердце»). Скорее, холод и/или тепло суть особые содержания транссемиотического опыта в коммуникации. К примеру, обилие нонсенсов и их превосходство над значениями могут вызвать эффект холода как конкретное содержание коммуникации в рамках модуса присутствия. Однако оборачивание значения и раскрытие на его фоне присутствия происходит не только в ситуации крушения понимания и интоксикации нонсенсом. Принципиально отметить то обстоятельство, что в любом случае значение рано или поздно оборачивается присутствием. Продолжительное наращивание понимания и согласия оборачивается присутствием, окрашенным в теплые тона, а само общение начинает проявлять тепло.
Появление тепла свидетельствует о том, что тепло человеческого общения, в сущности, очень мало связано с самим предметом или содержанием коммуникации - то есть с тем, о чем ведется речь. Тепло заверяет присутствие, воплощающееся при помощи языка (но не в языке). Если воспользоваться терминологией Г.-Г. Гадамера, то «суть дела», о которой должна вестись речь и о которой должно сложиться понимание в процессе герменевтического опыта, в какой-то момент оказывается присутствием, то есть феноменом, трансцендентным по отношению к значению. Здесь мы сталкиваемся со сложной фигурой: выступая на фоне значения, присутствие проявляет, что язык не выражает значения самого присутствия, но позволяет ему явиться на свет.
В рамках осуществленного выше анализа (не претендующего на полноту, но задающего направление для дальнейших исследований) мы охарактеризовали ряд транссемиотических содержаний, переживаемых в ходе общения в модусе присутствия, таких как аура, тело, тепло и холод. К транссемиотическим содержаниям коммуникации следует отнести и отмечаемые Х.У. Гумбрехтом черты присутствия (эпифания, энергетическая заряженность, колебательность), а также в конечном счете само присутствие как комплексное транссемиотическое измерение. Теперь стоит задаться вопросом: каково же отношение присутствия как модуса переживания транссемиотического опыта, а также переживаемых в рамках такого опыта транссемиотических содержаний к уровню значения? Каково их отношение к интерпретации, семиотике, герменевтике? Влияет ли транссемиотический опыт на ход понимания и интерпретации? И если да, то как именно? Здесь выскажем лишь одно соображение на этот счет, и касаться оно будет соотношения присутствия, значения и смысла.
Рассматривая озвученные выше вопросы, можно было бы сослаться на слова Г.-Г. Гада-мера о том, что «частью самого опыта является то, что он ищет и находит слова, его выражающие» [25, с. 479]. Подобный подход подразумевает, что любой опыт рано или поздно должен обрести адекватное языковое выражение и воплощение в том или ином значении, поскольку любой опыт уже скрытым образом содержит в себе значения, в которых он впоследствии воплотится. Такой подход объясняет возможность философского анализа транссемиотического опыта и именования его содержаний (так что такие категории, как присутствие, аура, холод/тепло и т. д., предстают осмысленными именно потому, что представляют собой определенные значения).
Однако, как мы попытались показать, смысл транссемиотического опыта состоит не столько в том, чтобы превратиться затем в какое-либо значение или толкование, но прежде всего в том, чтобы быть опытом, обладающим самостоятельным содержанием, переживание которого заверяет, что смысл не сводится к значению (а также что смысл коммуникации не сводится к обмену значениями). Во многом транссемиотический опыт и есть непосредственный опыт того, о чем пытаются вести разговор посредством языка; а то, что пытаются объяснить, схватить и истолковать, оказывается непосредственно предъявлено к проживанию в конкретном моменте интенсивности.
Наше рассуждение приводит к вопросу о смысле любого акта коммуникации и разговора, использующего уровень значения. Любое общение, претендующее на то, чтобы быть содержательным, интересным и осмысленным, на наш взгляд, инициируется желанием не только воспроизведения уже существующих и известных значений, но также постижения и удержания чего-то более сложного, неуловимого, ускользающего – желанием того, что собеседниками феноменологически переживалось бы как открытие . Исходя из этого желания и уровень значения в конечном счете стремится к тому, чтобы осуществить парадоксальную операцию и поименовать транссемиотический опыт. Очевидно, что язык больше всего интересует именно то, что выскальзывает у него из рук. С этой точки зрения мы могли бы перевернуть утверждение Г.-Г. Гадамера и постулировать, что скорее не опыт стремится к тому, чтобы быть выраженным в языке, но желание языка состоит в том, чтобы выразить любой опыт – в том числе (и прежде всего!) транссемиотический. В то же время транссемиотический опыт есть то, что по определению к языковым значениям сведено быть не может и что рождается в результате их преодоления.
В результате сталкиваемся с парадоксальным кругом. С одной стороны, цель языка состоит в том, чтобы поименовать транссемиотический опыт (а это означает, что (онто)логически транссемиотический опыт, будучи целью языка, предшествует языку), но, с другой стороны, транссемиотический опыт невозможен без языка (что подразумевает (онто)логическое предшествование языка транссемиотическому опыту). Вступление в общение есть вступление в этот круг и испытание на себе его парадокса. Онтологическое напряжение между уровнем значения и транссемиотическим опытом воплощается в колебании между их «эффектами». В противовес парадигме «дискурсивизма» [26], отождествляющей значение и смысл, полагаем, что смысл рождается как переживаемый человеком экзистенциальный опыт колебания между значением и транссемиотическим опытом, что подразумевает, что смысл невозможен без энергетической за-ряженности парадокса, раскрываемого в общении.
Ссылки и примечания:
-
1. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-00800.
-
2. Рыбаков В.В. Герменевтический опыт и непонимание // Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 173–178.
-
3. Рыбаков В.В. Человеческий мир: дискурсивная и трансдискурсивная интерпретация // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2015. № 6. С. 208–223.
-
4. Рыбаков В.В. Герменевтика Г.-Г. Гадамера и коммуникативный нонсенс // Научное мнение. 2015. № 12. С. 56–63.
-
5. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М., 2006. 184 с.
-
6. Там же. С.61.
-
7. Там же. С.140.
-
8. Там же. С.10.
-
9. Там же.
-
10. Там же.
-
11. Там же. С.66.
-
12. Там же. С.110.
-
13. Тамже.
-
14. Там же. С.16.
-
15. Там же. С.114.
-
16. Там же. С.116.
-
17. Seel M. Aesthetics of Appearing. Stanford, 2005.
-
18. Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М., 2010. С. 82.
-
19. Там же. С. 87.
-
20. Гумбрехт Х.У. Указ. соч. С. 109.
-
21. Там же.
-
22. Там же. С. 116.
-
23. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 24.
-
24. По поводу применения понятия «?-бытие», используемого Ж. Делёзом, к ситуации коммуникации, см. также нашу статью: Рыбаков В.В. Герменевтика Г.-Г. Гадамера и коммуникативный нонсенс.
-
25. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 479.
-
26. О «дискурсивизме» см. статью: Рыбаков В.В. Человеческий мир: дискурсивная и трансдискурсивная интерпретация.
Список литературы Модус присутствия и его содержание в персональной коммуникации
- Рыбаков В.В. Герменевтический опыт и непонимание//Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 173-178.
- Рыбаков В.В. Человеческий мир: дискурсивная и трансдискурсивная интерпретация//Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2015. № 6. С. 208-223.
- Рыбаков В.В. Герменевтика Г.-Г. Гадамера и коммуникативный нонсенс//Научное мнение. 2015. № 12. С. 56-63.
- Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М., 2006. 184 с.
- Seel M. Aesthetics of Appearing. Stanford, 2005.
- Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М., 2010. С. 82.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 24.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 479.