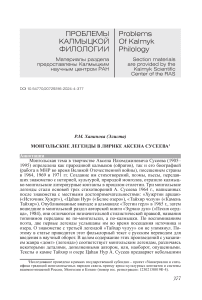Монгольские легенды в лирике Аксена Сусеева
Автор: Ханинова Р.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Монгольская тема в творчестве Аксена Илюмджиновича Сусеева (19051995) определена как прародиной калмыков (ойратов), так и его биографией (работа в МНР во время Великой Отечественной войны), посещением страны в 1964, 1969 и 1971 гг. Создание им стихотворений, поэмы, пьесы, передавших знакомство с историей, культурой, природой монголов, отразило калмыцко-монгольские литературные контакты в прошлом столетии. Три монгольские легенды стали основой трех стихотворений А. Сусеева 1964 г., написанных после знакомства с местными достопримечательностями: «Хужртин аршан» («Источник Хужрт»), «Цаhан Нур» («Белое озеро»), «Тайхир чолун» («Камень Тайхир»). Опубликованные вначале в альманахе «Теегин герл» в 1965 г., затем вошедшие в монгольский раздел авторской книги «ЗYркнэ дун» («Песня сердца», 1984), они отличаются незначительной стилистической правкой, названия топонимов переданы не по-монгольски, а по-калмыцки. По воспоминаниям поэта, две первые легенды услышаны им во время посещения источника и озера. О знакомстве с третьей легендой «Тайхар чулуу» он не упомянул. Поэтому в статье приводится этот фольклорный текст с русским переводом для введения в научный оборот. В целом содержание этих произведений с указанием жанра «домг» (легенда») соответствует монгольским легендам, различаясь некоторыми деталями, дополненными автором, или, наоборот, опущенными. Тексты о камне Тайхир и озере Цайан Нур А. Сусеев предваряет небольшими вступлениями, в которых делится своими впечатлениями о красоте местной природы, гостеприимстве хозяев, услышанной от них легенде об озере. Элемент чудесного, характерного для жанра легенды, в стихотворении «Хужртин аршан» обусловлен целебными свойствами природного источника. В стихотворении «ЦаИан Нур» богатырь Бухэ Сартагтай спасает мир от наводнения, заткнув исполинским камнем колодец, в котором прежде обитал белый бык; в результате образовалось чудесной красоты озеро. Третье стихотворение о камне Тайхир, контаминируя в себе элементы собственно легенды и мифа о гигантском мировом змее, прославляет другого богатыря Бухэ Бэлэгтэ, также защитившего людей от смертельной опасности, когда раздавил камнями змею. Все три текста имеют рамку с обозначением места и даты написания.
Монгольский фольклор, монгольская легенда, калмыцкая поэзия, фольклорная традиция, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149147202
IDR: 149147202 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-377
Текст научной статьи Монгольские легенды в лирике Аксена Сусеева
Монгольская тема в творчестве калмыцких писателей обусловлена различными факторами: прародина калмыков (ойратов), выходцев из Северо-Западной Монголии, добровольно присоединившихся в начале XVII в. к Российскому государству, родство монголоязычных народов, общность фольклора и письменной литературы, персональная биография автора, в том числе отмеченная пребыванием в Монголии, калмыцко-монгольские литературные контакты: обоюдные Декады и Дни СССР и МНР, тематика, переводы, публикации, издания [Мөңк заль 1967; Иньглт 1971; Иньгин дун 2014; Бадмаев 1981, 53–58; Лувсанвандан 1981, 110–117; Цеденова 2015, 80–82; Цеденова 2018, 127–135; Ханинова 2018, 104–118].
Среди калмыцких поэтов, обратившихся к монгольской теме, произведения Давида Кугультинова, Лиджи Инджиева, Морхаджи Нармаева, Анджи Тачиева, Михаила Хонинова, Боси Сангаджиевой, Тимофея Бембеева, Веры Шуграевой и др.
С Монголией биография народного поэта Калмыкии Аксена Илюмджи-новича Сусеева (1905–1995) связана еще со времен Великой Отечественной войны, когда он был направлен работать советником в армейскую газету «Улаан одон» («Красная звезда»), преподавал в военном училище, готовя кадры для монгольской армии. Спустя двадцать лет он посетил страну, создав стихи [Сусеев 1964, 3–5; Сусеев 1965, 11–14; и др.]. Писатель побывал в Монголии затем в 1969 и 1971 гг., продолжив в своем творчестве монгольскую тематику [Сусеев 1974, 3; Сусеев 1976, 3; Сусеев 1981, 31–34; 21–23; Сусеев 1990, 3; и др.].
Помимо стихотворений и поэмы «Моңһлын магтал» («Восхваление Монголии», 1981) А.И. Сусеев написал пьесу «Навеки с Советским Союзом», посвященную 40-летию Монгольской Народной Революции [Сусеев НАРК, ф. р-150, д. 3, оп. 7].
Монгольский цикл, состоящий из стихотворений, дун-песен, домг-ле-генд, йоряла-благопожелания, магтала-восхваления, магтала-поэмы, вошел в первый раздел сборника поэта «Зүркнə дун» («Песня сердца», 1984), посвященного 60-летию провозглашения Монгольской Народной Республики. Открывало книгу четверостишие из стихотворения «Зүркнə йѳрəл» («Сердечное благопожелание», 1981) с прославлением советско-монгольской дружбы и пожеланием ее развития на вечные времена: «Мана СССР Моңһл хойрин / Маш сəəхн иньгллт, / Мандлҗ һарсн нарн мет / Мѳңкинд менд бол-тха!» [Сусен 1984, 3]. Раздел был озаглавлен «Иньгллтин туск шүлгүд болн поэм» («Стихи и поэма о дружбе») [Сусеев 1984, 5]. Многие тексты датированы с указанием места и времени написания, при этом если год сокращенно обозначен по-калмыцки «җ.» («җил»), то месяц – уже по-русски (май, июнь, июль, янв.-март), некоторым текстам предшествует посвящение, например, Ю. Цеденбалу с 60-летием со дня рождения, или жанровое уточнение (йѳрəл-благопожелание, домг-легенда, дун-песня, поэм-поэма).
В своих заметках, статьях, воспоминаниях А. Сусеев рассказал о встречах с монгольскими политическими, военными, общественными и культурными деятелями, в частности об истории создания некоторых своих произведений.
Три монгольские легенды в лирике Аксена Сусеева 1960-х гг.
В стихотворном цикле 1960-х гг. три монгольские легенды отразили интерес автора к фольклору братского народа. Они относятся к топонимическим повествованиям о появлении тех или иных природных явлений и об их названиях, показавших связь человека с родным краем. Эти стихи «Хуҗртин аршан» («Источник Хужрт»), «Цаһан Нур» («Белое озеро»), «Тайхир чолун» («Камень Тайхир») в лирике калмыцкого поэта были кратко рассмотрены С.Н. Цедено-вой в статье «Монгольская тема в современной калмыцкой поэзии» [Цеденова 2018, 128–130]. Поскольку все эти стихи не переведены на русский язык, в статье дан подстрочный перевод цитат. Несмотря на то, что исследователь не обратился непосредственно к фольклорным первоисточникам, тем не менее, заключил: «Эти стихотворные произведения содержательно соответствуют аутентичным текстам легенд, что, безусловно, свидетельствует о бережном отношении поэта к монгольскому фольклору» [Цеденова 2018, 130].
Между тем А. Сусеев в своих воспоминаниях разных лет «Монголия в сердце моем» (1979) передал историю создания двух своих стихотворений на основе монгольских легенд об источнике Хужрт и озере Цаган Нур. Что касается творческой истории своего стихотворения о камне Тайхир, автор ничего об этом не сообщил.
Приведем вначале фрагменты воспоминаний калмыцкого поэта о том, как он познакомился с той или иной монгольской легендой, побывав в тех местах.
В 1964 году я побывал в МНР – через двадцать лет <…>
Рано утром 10 июля 1964 года я и секретарь Союза писателей МНР Ч. Чимид тронулись в путь и через 10–11 часов добрались до «Хужуртын рашан» (по-калмыцки «Хуҗртын аршан») – санатория, расположенного на речке Хужурта на высоте 1650 метров над уровнем моря в Убур-Хангайском аймаке. Народная легенда гласит, что давным-давно жил здесь бедный арат, охотник Шон-глай. Однажды он ранил в ногу оленя, который, прихрамывая, ушел от преследователя. На другой день Шонглай увидел раненого оленя, лежащего в воде, и решил не трогать его. Через несколько дней олень смог подняться и убежать, а на месте, где он лежал, охотник увидел грязь необычного цвета и запаха. Человек понял, что здешняя горячая вода и теплая грязь целебны. Он поставил на этом месте «ово» (возвышение из камней). Слух о целебном источнике обошел все сомоны. До революции ламы и нойоны ставили свои юрты рядом с источником и избавлялись от разных недугов. А потом народная власть превратила Хужуртын рашан в здравницу для трудящихся [Сусеев 1986, 62].
Писатель указал точную дату посещения памятного места, своего спутника – секретаря Союза писателей Монголии Чойжилына Чимида (1927–1980), подробно рассказал об истории целебного источника. Правда, не пояснил, услышал или прочитал эту народную легенду. Возможно, он узнал об этом при встрече, как в случае посещения в том же году Цаган Нура.
В красивейшем месте, на берегу горной реки Сомон гол на высоте 2700 метров над уровнем моря стоит поселок. Потухшие вулканы, каменные юрты, созданные самой природой, неописуемо красивое озеро Цаган Нур с островом посередине, где гнездятся лебеди, гуси, утки, – этот район Монголии поистине сказочной красоты!
Здесь мы услышали легенду о происхождении озера Цаган Нур. Жил старик со старухой. Одна-единственная корова была у них. Однажды старуха повела поить корову к колодцу. И вдруг из него выскочил огромный бык и увел корову, а вслед за быком из колодца хлынула вода, разлилась по всей долине, да так, что старик со старухой еле спаслись. Но вода все лилась и лилась. Наводнение уже угрожало всему живому на земле. Тогда рассердился монгольский богатырь Бухэ-Сар-Тагтай, отколол вершину горы Уран Мандал и закрыл ею колодец. Наводнение кончилось, образовалось озеро Цаган Нур [Сусеев 1986, 63].
В этом воспоминании также упомянуты конкретные географические координаты озера, восхитившего гостя своей красотой и топонимической легендой. Но и тут мемуарист вновь не уточнил, от кого услышал о происхождении данного монгольского гидронима. Озеро с таким же названием находится и в Калмыкии.
Все три стихотворения по мотивам этих легенд в альманахе «Теегин герл» («Свет в степи») представлены в следующей последовательности: «Хуҗртин аршан», «Цаһан Нур», «Тайхир чолун» [Сусеев 1965, 11–14]. Им предшествуют в подборке «Хальмг ду соңсвв…» («Послышалась калмыцкая песня…») и «Селенга гидг һол» («Река Селенга») [Сусеев 1965, 11].
Жанр обозначен не по-калмыцки (домг-легенда), а по-русски с усечением окончания – легенд. Есть некоторые различия в рамке текстов по сравнению с книжной публикацией. Если в первом тексте рамка идентична («Хуҗртин аршан, 1964 җ., июнь»), то во втором тексте обозначена иначе («МНР, Тарийат сомн, 1964, июнь») [Сусеев 1965, 13], ср. «Архангай, Тарийат сомон, 1964 җ., июнь» [Сусеев 1984, 21], как и в третьем тексте («МНР, Цецерлик, 1964, июль») [Сусеев 1965, 14], ср. «Архангай, Цецерлг, 1964 җ., июнь» [Сусеев 1984, 18].
В книге последовательность расположения легенд несколько иная: «Хуҗр-тин аршан», «Тайхир чолун», «Цаһан Нур» [Сусеев 1984, 13–21]. Трудно сказать, имеет ли такое расположение текстов какое-либо значение в указанных публикациях.
Что касается жанрового аспекта, у монголов «домог» – (1) легенда, сказание, предание; миф; рассказ; история; ±лгэр домог хорш. а) легенда; б) притча во языцех; хууч домог хорш. старое предание» [БАМРС 2001, II, 48], у калмыков «домг» – «легенда; сказание; предание; домог дун песнь-предание; домог түүк историческое сказание» [Калмыцко-русский словарь 1977, 206] (выделения принадлежат автору статьи, если не указано иное – Р.Х. ).
В.Т. Сарангов определял легенды (домг) как «устные рассказы, мифологического или религиозного характера, где основной движущей пружиной действия служит сверхъестественное» [Сарангов 2010, 104]. По мнению Д.Э. Басаева, «легенда, как и предание, имеет установку на достоверность, но отличается от него тем, что основой повествования в ней служит фантастическое явление, тогда как в предании обычно есть реальная основа» [Басаев 2009, 6].
Характеризуя топонимические легенды и предания, вошедшие в сборник калмыцкой несказочной прозы «Семь дней», Д. Басаев отметил: «История того или иного названия в них чаще всего передается без каких-либо развернутых исторических фактов или явлений» [Басаев 2004, 15].
В терминологическом плане легенда «(лат. legenda – то, что предназначено для чтения) – жанр фольклора и литературы, в котором с установкой на достоверность представлены чудесные события, небывалые обстоятельства, лица, предметы. Иными словами, в Л. соединяются историзм и наивная вера, фактология и утопия, повседневное и сверхъестественное. <…> В отличие от мифа, Л. не связана с обрядом и не сосредоточена на выражении архаических пластов сознания, хотя и может их затрагивать. По сравнению с преданием, Л. обладает большей обобщенностью и в этом смысле она ближе к сказке» [Каравашкин 2008, 107].
В альманахе «Теегин герл» первые два сусеевских произведения относятся к топонимическим легендам-гидронимам, третье – к топонимической легенде-орониму. Рассмотрим три стихотворения в таком порядке, учитывая приведенные воспоминания поэта об услышанных им монгольских легендах. Разница в двух публикациях касается незначительной стилистической правки.
Любопытно, что в своем рассказе о посещении местности автор указал монгольское название источника («Хужуртын рашан»), уточнив, что по-калмыцки это «Хуҗртын аршан». Речка Хужурта дала название источнику. По-монгольски лексема «хужиртай» имеет два значения: «1) содержащий соду (натуральную); 2) солончаковый» [БАМРС 2002, IV, 151], «рашаан» означает «аршан, целебная вода, минеральная вода; целебный минеральный источник; целебная минеральная вода» [БАМРС 2001, III, 58]. В калмыцком языке «хуҗр-та» – «солончаковый»; «аршан» – «аршан, целебный (минеральный) источник; целебная (минеральная) вода» [Калмыцко-русский словарь 1977, 607; 52].
Обратим внимание на то, что калмыцкий поэт не придерживался в названии своих стихотворений по мотивам монгольских легенд оригинальных топонимов («Хужуртын рашаан», «Цагаан Нуур», «Тайхар чулуу»), он привел их в калмыцком правописании.
«Хуҗртын аршан» начинается вступлением, в котором говорится об охотнике, поддерживающем огонь в очаге кизяком, кормящемся охотой, одевающемся в одежду из кожи, передвигающемся на коне, объезжающем селения, рассказывающем новости.
Основная часть стихотворения – история о бедняке-охотнике по имени Шонглай, жившем за двести лет до этого в Халхе. Однажды Шонглай отправился на охоту, чтобы поймать лису. Со склона горы он заметил у родника оленя, выстрелил из лука, стрела ранила ногу животного, которое ушло от погони. На следующий день Шонглай увидел того оленя, беспокойно лежащего в устье реки Хужирты: «Дарук нeг ѳдртнь / Дəкəд тер буһнь / Хуҗртын һолын экнд / Хуухлзад кевтснь үзгднə» [Сусеев 1965, 14]. Когда человек приблизился, удивился тому, что олень не испугался: лежал в воде, от которой поднимался пар: «Ɵѳрдəд күрəд ирхлə, / Ɵвəрц юмн – үргжəхш. / Усн дотр кевтнə, / Уснаснь ур һарчана» [Сусеев 1965, 14]. Шонглай пожалел раненого зверя, подумав, пусть лежит, обмоет рану, лечит ее, ведь если мог бы, тот поведал бы о своем страдании: «Кевттхə, шархан уһатха, / Келтə болхла зовлңган / Күүнд келх билəхн... / Кевтг, шархан эдгəг» [Сусеев 1965, 14]. Так он стал охранять оленя, защищая от других охотников. На седьмой день животное, поднявшись на ноги, убежало. Шонглай, сняв шапку, помолился божествам, спустился к тому месту, где лежал олень. Он увидел, как из земли горячая вода била фонтаном, попробовал воду, которая показалась ему целебной: «Һазрас халун усн / Һолһалад, гүүһəд бəəнə, / Авад амсч үзхлə, / Аршан болҗ медгднə» [Сусеев 1965, 15]. С тех пор монголы свои болезни и раны лечат водой, которую открыл Шонглай. Слух о горячей целебной воде прошел по всей Халха-Монголии, отдыхающих здесь с каждым годом прибавляется.
Стихотворение состоит из 14 катренов, структурированных в основной парной и сплошной анафорой, с внутренней речью охотника Шонглая. Сравнив с легендой из воспоминания автора, отметим общее и различия. Общее наблюдаем в канве истории о том, как был открыт источник с целебной водой. Различия: во-первых, олень лечился целебной водой неделю (сакральное число 7), а не несколько дней, как в легенде; во-вторых, поэт не указал на лечебную грязь; в-третьих, не сказал о возведении Шонглаем «обо» (возвышенности из камней) для поклонения духам предков и божествам; в-четвертых, вместо устройства «обо» охотник в стихотворении, сняв шапку, помолился божествам, поблагодарив их за спасение оленя; в-пятых, автор подчеркнул открытие человеком целебного источника, уточнив, что это вода Шонглая.
Образ бедного охотника в литературной легенде получил гуманное воплощение, связав человека и природу в гармоническом ракурсе: животное открыло охотнику целебный источник, а охотник спас оленя от неминуемой смерти из-за полученного ранения. Элемент чудодейственной воды («живой воды») определил один из жанровых признаков легенды, проецируя реальное название минерального источника в конкретной местности, тем самым объясняя происхождение гидронима.
Второе стихотворение «Цаһан Нур» включает уже 18 катренов. Монгольская топонимическая легенда повествует, как возникло «Белое Озеро», по-монгольски «Цагаан Нуур». Здесь также есть небольшое вступление, соединяющее прошлое и настоящее. Автор рассказал, как в гостинице «Зочид буу-дал» его привечали как гостя, угощали национальными блюдами, пели песни, между тем кратко сообщив легенду о Цаган Нуре.
Затем литературная легенда калмыцкого поэта следует за устным рассказом о том, как давным-давно жила одна бедная семья, у которой не было даже юрты, а была лишь одна-единственная корова. Автор пояснил, потому что у старика со старухой не было войлока, чтобы устроить жилище. Если в легенде просто говорится, что старуха повела поить корову к колодцу, то в стихотворении уточняется: колодец находился у подножия горы Хангай, т.е. вводится еще один топонимический ороним. Вдруг из колодца выскочил белый бык с острыми рогами, стал нюхать корову и повел ее прочь. Вслед за ним колодезная вода забурлила, вылилась и стала заливать земли – появились рыбы, утки, гуси, лебеди. Но прибывающая вода грозила бедой всему живому, могла затопив все вокруг. Калмыцкий поэт ввел в свое произведение образ астролога-зур-хачи, который изрек, что нужен отважный богатырь: «Зѳргтə баатр кергтə», – / Зурхач зар haphнa» [Сусеев 1965, 20]. В отличие от предыдущей легенды здесь действует не бедный охотник, а богатырь по имени Бүхэ Сартагтай. «Тогда рассердился монгольский богатырь Бухэ-Сар-Тагтай, отколол вершину горы Уран Мандал и закрыл ею колодец» [Сусеев 1986, 63], в сусеевском воспоминании имя богатыря пишется в три слова, в стихотворении – в два слова. «Моңһлын Бүхэ Сартагтай – / Маш чидлтə баатр, / Урн мандл уулыг / Уурнь күрч үгзрна. // Уулын ораһинь таслад, / Үүрҗ авад һарна, / Худгин буслсн амиг / Хад чолуһар бѳглнə» [Сусеев 1965, 21]. Здесь монгольский богатырь Бухэ Сартагтай, обла- дающий огромной силой, рассердившись, оторвал вершину горы Уран Мандал, понес и заткнул колодец камнем-утесом. Так образовалось Белое озеро, а богатырь Бухэ Сартагтай спас весь мир: «“Терх Цаһан нур” / Тиигҗ нег тѳр-смн. / Бүхэ Сартагтай баатр / Бүкл делкəг харссмн...» [Сусеев 1965, 21]. Поэт завершил свое произведение призывом – эту легенду переложить стихами, подарить от всего сердца отважным, умелым, любимым монголам, что, собственно говоря, и сделал. Второе стихотворение калмыцкого поэта по мотивам монгольской легенды также в целом соответствует ее содержанию, отличаясь некоторыми указанными деталями.
Третье стихотворение, основанное на монгольской легенде «Тайхар чу-луу», названо по-калмыцки «Тайхир чолун». Лексема «чолун» означает «камень». Монгольское название, по сути, соединило два синонима: «тайхар» – камень, «чулуу» – камень [БАМРС 2001, 180; 2002, 322]. У автора первое слово дано в измененном виде: не «тайхар», а «тайхир».
Обратимся к монгольской легенде.
ТАЙХАР ЧУЛУУ
Эрт цагт нэгэн аварга могой газраас цухуйн, хамаг амьтныг залгин гамшиг тарьж байх үед Бѳхбилэгт гэгч их хүчтэн Булган уулнаас Тайхар чулууг аван үүрч Цагаан даваагаар давж, нэгэн уулын оройгоос могойн толгой руу шидэн даржээ. Тэр могойг дарсан чулуу эхлээд Тархи чулуу нэртэй байсан нь хожим хувирч Тайхар чулуу гэх болжээ.
Бѳхбилэгт тэр чулууг үүрч явахдаа Шивэрт хэмээх аманд хэсэг зуур амар-сан гэнэ. Тэгээд чулуугаа үүрч босохдоо «Шүү шаа» гэж дуу алдан боссон учир уг газрыг Шүү шаа Шивэрт гэж нэрлэжээ.
Аварга могой дээрээсээ дарсан чулуун доороос хѳдлѳн гарах гэхэд нь, Бѳхбилэгт нум сумаа авч, чулуун дээр тавьсанд, хѳдлѳхѳѳ больжээ. Одоо ѳн-дѳр уулын орой дээрээс зун цагт Тайхар чулууг харахад, дээр нь нум сумны хэлбэрт дүрс ногоорон харагддаг гэнэ. Мѳн могойн сүүл цухуйсан газрыг хэсэг чулуугаар дарсныг Сүүл толгой гэж нэрлэжээ.
Хожим тэр аварга могойн зоо нуруун дээр нь Сайд вангийн хүрээг бай-гуулжээ. Хойд Тамирын хѳвѳѳнд урд тал нь эгцхэн, дээрээ ширээ шиг тэгшхэн хадан хошуу бий бѳгѳѳд Тавантээг гэж нэрлэх ажээ. Бѳхбилэгт аварга могойг дарсныхаа дараа түүн дээр сууж, Тамир голын усаар гараа угаан арнутгасан юм гэдэг. Түүнээс хойш тэр газрыг Бѳхбилэгтийн Тавантээг буюу Суудал гэж нэрлэжээ. Эдгээр газар Архангай аймгийн Ихтамир сумын нутагт бий» [Тайхар чулуу 2015, 455–456].
В комментарии к легенде отмечено, откуда взят текст, из сб. «Монгольская легенда», изданного в Улан-Баторе в 1984 г.: «Монгол домог. Эмхэтгэн болов-сруулж, удиртгал, тайлбар бичсэн Х. Сампилдэндэв. (УБ., 1984) номын 215-р талаас авав» [Памятники фольклора монгольских народов 2015, 599].
Приведем русский перевод легенды «Камень Тайхар», выполненный для нашей статьи кандидатом филологических наук С.В. Мирзаевой.
КАМЕНЬ ТАЙХАР
Давным-давно гигантская змея вылезла из-под земли и пожирала всех животных, силач по имени Бухбилегт взял Камень Тайхар с горы Булган, пересек перевал Цагаан и бросил его с вершины горы в голову змеи. Камень, раздавивший змею, сначала называли камнем Тархи (букв. мозг, голова), но позже он стал камнем Тайхар.
Некоторое время Бухбилегт, перенося этот камень, отдыхал в ущелье под названием Шиверт. Когда он поднимал камень, он выкрикнул «Шуу шаа», поэтому это место назвали Шуу шаа Шиверт.
Когда гигантская змея собиралась выползти из-под придавившего ее камня, Бухбилегт взял свои лук и стрелы и положил их на камень, и тогда змея перестала двигаться. Теперь, когда летом вы смотрите на камень Тайхар с вершины высокой горы, можно увидеть растительность в виде лука и стрел. Также место, где торчал хвост змеи, закрыли несколькими камнями, и теперь оно называется холм Сул (букв. хвост).
Позже на хребте гигантской змеи построили монастырь Сайд-вана. На горе, на северном берегу реки Тамир есть скалистый мыс с крутым фронтом и ровной площадкой наверху, который называется Тавантеег. Рассказывают, что Бухбилегт, раздавив в борьбе гигантскую змею, сел на нее и вымыл руки водой реки Тамир. С тех пор это место стало называться Бухбилегтин Тавантеег или Суудал (букв. место, где сидел). Эти места расположены в районе сумона Их-тамир Архангайского аймака [Камень Тайхар 2024].
Стихотворение «Тайхир чолун» так же, как и два предыдущих, имеет вступление, в котором автор повествует о том, как он увидел у подножия горы Булган, за городом Цецерлг, за Белым перевалом, среди деревьев на берегу Тамир гол необычный камень цвета песка, стоящий одиноко в окрестности. Затем следует изложение истории о появлении здесь этого камня.
Если легенда начинается с формульного зачина («давным-давно»), то поэт сразу описывает змею, добавляя свои детали о ее длине и языке: «…Җирн дуу-на ут, / Җид болсн келтə / Ик хар мoha / Ишкрҗ йовдг болна» [Сусеев 1984, 16]. «Длиной в 60 дун, с острым, как копье, языком, большая черная змея ползла, издавая свист». – Здесь и далее наш смысловой перевод. – Р.Х. ).
«Мера длины дун, дууна һазр трактуется в калмыцком как 1) уст. верста и 2) километр» [Батырева… 2021, 61]. «В калмыцко-русском словаре А.М. Позд-неева это понятие закреплено как “расстояние, на котором слышен крик человека, равное версте – 1,06 км” (Позднеев, 1911: 222)» (цит. по: [Батырева… 2021, 61]).
Таким образом, гигантская змея была длиной в 60 км. Гиперболическое подчеркивание опасности, исходящей от змеи, дополняется в стихотворении пояснением, что змея поедала животных – овец, коз, телят, заглатывая их по двое, по трое, отравляла людей, разбрызгивая свой яд, могла уничтожить все в окрестности реки Тамир. «Ик Тамирин тѳгəлңдкиг / Идҗ бархар йовдгҗ. <…> Хѳн, яман, туһлмудыг / Хошад-һурвадар зальгдг, / Хѳѳч, малч, адучнриг / Хор цацад алчкдг» [Сусеев 1984, 17].
Не находился человек, который мог бы, заарканив, убить змею, множившую мучения. В один жаркий день змея грелась на солнцепеке, из ее пасти брызгал огонь. Но вот наш монгольский прославленный богатырь Бухэ Бэлэг-тэ, отколов камень от горы, взвалил на себя и понес: «Моңһлын алдр баатр, / Мана Бүхэ Бэлэгтə... / Уулас чолу кемтлəд / Үүрəд авад ирнə» [Сусеев 1984, 17]. Кульминационный момент сражения человека с чудовищем: «Моһаг үрглҗ бəəтлнь / Моңһл баатр чолуһарн / Толһаһинь билҗлəд дарчкна. / ...Тернь – Тайхир чолун» [Сусеев 1984, 17]. Пока змея пугалась, монгольский богатырь, камнем размозжив ей голову, придавил. Так появился камень Тайхир. Когда у змеи оторвалась голова, ее хвост задвигался. И богатырь прижал ее хвост другим камнем. «Толһань тасрхла – сүүлəрн / Тер моһа кѳндрҗ, / Бүхэ Бэлэгтə одад / Бас чолуһар дарҗ» [Сусеев 1984, 17]. Эти два огромных камня на равнине с тех пор все время слагают магтал-величания монгольскому богатырю: «Ил тегш һазрт / Ик хойр чолун / Моңһл баатрин тускар / Магтал давтад бəəдгҗ» [Сусеев 1984, 17].
Сопоставляя эту монгольскую легенду и ее поэтическое воплощение калмыцким автором, отметим, что в целом содержание соответствует первоисточнику. Различается сокращением действий богатыря: нет описаний его отдыха в ущелье Шиверт, нет выкрика при поднятии камня, соответственно топонимического обозначения этого места Шуу шаа Шиверт, не говорится о магической функции лука и стрел, положенных героем на камень, из-за чего змея не смогла двигаться, нет уточнения о холме Сул (хвост) и места под названием Бухбилег-тин Тавантеег или Суудал, где сидел богатырь, умыв руки водой реки Тамир после поединка. А. Сусеев вычленил два камня, раздавивших голову и хвост змеи. При этом прием олицетворения в конце стихотворения, состоящего из 13 катренов, придает легендарному пересказу элемент чудесного, когда сама природа славит своего героя. И здесь в жанр легенды вводится упоминание другого жанра монголоязычных народов – магтала-восхваления.
Калмыцкий поэт сравнил гигантскую змею, лежавшую под камнем, с владыкой ада («Тайхир чолуна дорнь / Тамин эзнь кевтҗ»), актуализируя ее смертоносные действия, соотнеся с хтоническим существом подземного мира.
В монгольской легенде змея обозначена как «аварга могой». Аврага Мо-гой в мифологии монголоязычных народов – это гигантский змей: «Очевидно, является модификацией образа мирового змея, обитающего под землей или на дне моря (первоначально – мирового океана). По некоторым поверьям, заключен в подземной крепости; ряд топонимических преданий указывает происхождение скал (Дзайсан толгой, Тайхир чулу и др.) с заваливанием богатырем норы или горной пещеры, через которую некогда А.М. похищал людей и скот» [Неклюдов 1994, 28–29].
А. Сусеев не использовал калмыцкое определение «аврh моhа», ограничившись лексемой «моhа» (змея), но придав этому образу тоже мифологический аспект.
Заключение
Итак, среди стихотворений А. Сусеева на монгольскую тематику есть три легенды, две из которых услышаны поэтом во время поездки в Монголию весной-летом 1964 г. при посещении местных достопримечательностей. Публикации «Хуҗртин аршан», «Цаһан Нур», «Тайхир чолун» по мотивам легенд в альманахе «Теегин герл» («Свет в степи») в 1965 г. и авторской книге «Зүр-кнə дун» («Песня сердца», 1984) отличаются незначительной стилистической правкой и расположением их в той или иной последовательности. Все легенды имеют топонимическую направленность, отражают названия лечебного источника, горного ландшафта, озера. Эти топонимы даны автором не в монгольском правописании, а в калмыцком. Изложение легенды предваряет небольшое вступление, передающее впечатления поэта от увиденного и услышанного при встрече с монгольскими друзьями. Осталось невыясненным, как А. Сусеев познакомился с легендой о камне Тайхар. В целом содержание стихотворений со- ответствует указанному фольклорному источнику, различаясь теми или иными деталями, дополненными автором или, наоборот, не использованными.
Заметим, что сусеевское стихотворение «Богдо уул» [Сусеев 1990, 3], написанное после очередного посещения Монголии, не отражает местных легенд о названии этой священной горы, в то время как у калмыков есть легенды, созданные после прихода в российские земли, о переносе Богдо уул с прародины [Семь звезд 2004, 203–208].
Судя по всему, другими калмыцкими поэтами не были созданы стихи по мотивам монгольских легенд.
Таким образом, три стихотворения А. Сусеева, написанные на основе монгольских топонимических легенд, являют связь с устным народным творчеством братского народа, подтверждая калмыцко-монгольские литературные контакты прошлого столетия.
Список литературы Монгольские легенды в лирике Аксена Сусеева
- Бадмаев А. Дружба - Найрамдал // Теегин герл = Свет в степи. 1981. № 4. С. 53-58.
- Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: дис.... канд. филол. наук. Элиста, 2009. 175 с.
- Басаев Д.Э. Устная несказочная проза калмыков // Семь звезд: калмыцкие легенды и предания / сост., пер., вступ. ст., коммент. Д.Э. Басаева. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2004. С. 5-28.
- Батырева К.П., Бембеев Е.В., Мукабенова Ж.А. Калмыцкая мера длины: этнолингвистический аспект // Кочевая цивилизация: исторические исследования. 2021. № 3. С. 53-63.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. М.: Academia, 2001. Т. 2. Д-О. 436 с.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. М.: Academia, 2001. Т. 3. 0-Ф. 440 с.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. М.: Academia, 2002. Т. 4. Х-Я. 532 с.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Каравашкин А.В. Легенда // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 107-108.
- Лувсанвандан С. Эпоха и человек в современной монгольской литературе // Теегин герл = Свет в степи. 1981. № 4. С. 110-117.
- Неклюдов С.Ю. Аврага Могой // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. А-К. М.: Российская энциклопедия, 1994. С. 28-29.
- Сарангов В.Т. Фольклор калмыцкого народа: учебное пособие. Элиста: Изд-во Калмыцкого университета, 2010. 136 с.
- Ханинова Р.М. Монгольская тема в творчестве Михаила Хонинова // Монголоведение. 2018. № 2 (3). С. 104-118.
- Цеденова С.Н. О взаимосвязях монгольской и калмыцкой литератур // Mongolica - XV: сб. ст. СПб.: Петербургское востоковедение, 2015. С. 80-82.
- Цеденова С.Н. Монгольская тема в современной калмыцкой поэзии // Вестник Калмыцкого университета. 2018. № 39. С. 127-135.