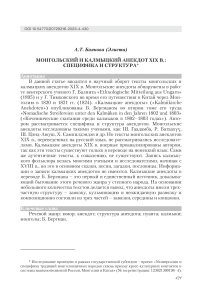Монгольский и калмыцкий анекдот XIX в.: специфика и структура
Автор: Баянова А.Т.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье вводятся в научный оборот тексты монгольских и калмыцких анекдотов XIX в. Монгольские анекдоты обнаружены в работе венгерского ученого Г. Балинта «Ethnologische Mitteilung aus Ungarn» (1895) и у Г. Тимковского во время его путешествия в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг. (1824). «Калмыцкие анекдоты» («Kalmukische Anekdoten») опубликованы Б. Бергманом во втором томе его труда «Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах»). Автором рассматривается специфика и структура анекдотов. Монгольские анекдоты исследованы такими учеными, как Ш. Гаадамба, Р. БатаахYY, Ш. Цэнд-Аюуш, Х. Сампилдэндэв и др. Но тексты монгольских анекдотов XIX в., переведенных на русский язык, не рассматривались исследователями. Калмыцкие анекдоты XIX в. впервые проанализированы автором, так как эти тексты существуют только в переводе на немецкий язык. Сами же аутентичные тексты, к сожалению, не существуют. Запись калмыцкого фольклора велась многими учеными и исследователями, начиная с XVIII в., но это в основном сказки, песни, загадки, пословицы. Информации о записи калмыцких анекдотов не имеются. Калмыцкие анекдоты в переводе Б. Бергмана - это первый и единственный источник, доказывающий бытование этого речевого жанра у степного народа. На основании небольшого количества текстов делается вывод, что анекдоты имели трехчастную структуру - завязку, кульминацию и неожиданную развязку и композиционно состояли из трех частей - завязки, середины и концовки.
Речевой жанр, юмор, анекдот, структура анекдота, пуанта, калмыки, монголы, б. бергман
Короткий адрес: https://sciup.org/149144368
IDR: 149144368 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-430
Текст научной статьи Монгольский и калмыцкий анекдот XIX в.: специфика и структура
Анекдот как особый речевой жанр, как вид юмористического дискурса является объектом изучения ряда наук. В современном языкознании анекдот изучается с различных позиций: в русле жанроведения [Карасик 1997,
Шмелева, Шмелев 2002, Курганов 1997], лингвистики [Raskin 1985, Attar-do 1994], психолингвистики [Седов 1980] и т.д.
В словаре терминов и понятий анекдот (греч. anekdotos – неопубликованный) определяется как «занимательный рассказ о незначительном, но характерном происшествии, особенно из жизни исторических лиц» [Литературная энциклопедия терминов и понятий 2001, 34]. В современном понятии под анекдотом понимается «небольшой шуточный рассказ с остроумной в своей непредсказуемости концовкой и нередко с острым политическим содержанием» [Литературная энциклопедия терминов и понятий 2001, 35].
В другом источнике анекдотом называют «небольшой одноэпизодный устный рассказ о необычном событии, ситуации, черте характера человека или его поступке, завершающийся неожиданной комической развязкой (в таком значении термин вошел в словоупотребление с середины XIX в.)» [Восточнославянский фольклор… 1993, 8].
Известный лингвист Е.Я. Шмелева определяет анекдот как «особый жанр русской устной речи», текст которого жесткую структуру: «определенным образом заданное, часто стереотипное начало, ограниченный набор персонажей, которые характеризуются определенными языковыми масками и клишированными деталями одежды, аксессуарами и пр., и, наконец, получаемый по определенным правилам и тем не менее неожиданный конец» [Шмелева, Шмелев 2002, 134].
Литературовед В.Б. Шкловский считает, что анекдот – это «история, состоящая из отдельных сообщений, слабо связанных между собой», современный анекдот он называет небольшой новеллой с развязкой [Шкловский 1990, 194].
В зарубежных работах анекдот не всегда рассматривается как комический текст. Например, в словаре Н. Уэбстера анекдотом считается короткий, занимательный рассказ о чем-то случившемся, обычно личного или биографического характера («a short entertaining account of something that has happened, usually personal or biographical»), в устаревшем значении – малоизвестный забавный факт, анекдот («(obsolete) a little-known amusing fact anecdote») [Websters new world 2005, 23].
Материалы исследования
Материалом исследования являются тексты монгольских анекдотов в записи венгерского монголоведа и тюрколога Г. Балинта, опубликованные в «Ethnologische Mitteilung aus Ungarn» [Balint 1895], два анекдота записаны Г. Тимковским во время его путешествия в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг. Десять анекдотов найдены в работе «Калмыцкие анекдоты» («Kalmükische Anekdoten»), опубликованных Б. Бергманом во втором томе его труда «Nomadische Streifereien unter den Kalmȕken in den Jahren 1802 und 1803» («Кочевнические скитания среди калмыков в 1802–1803 годах») [Bergmann 1804, 342–352]. Целью данной статьи является характеристика монгольских и калмыцких анекдотов с точки зрения жанровой принадлежности, систематизация калмыцких анекдотов, анализ особенностей структуры текстов калмыцких анекдотов Б. Бергмана.
Монгольские анекдоты XIX в.
Известный немецкий и американский антрополог, этнограф и китаевед Б. Лауфер в своей работе «Skizze der mongolischen Literatur», написанной в 1907 г. и переведенной на русский язык В.А. Казакевичем в 1927 г., первым отметил, что «монголы обладают также маленькими веселыми шуточными рассказами» [Лауфер 1927, 82], ссылаясь при этом в качестве примера на Г. Балинта. В «Ethnologische Mitteilung aus Ungarn» [Balint 1895, 71– 71] опубликованы три анекдота, записанные Б. Балинтом у монгольских кочевников, в котором объектом высмеивания становятся китайцы. Это не случайно, так как в XIX в. Монголия находилась под колониальным гнетом маньчжуркой династии Цин. Среди народа наблюдался рост протестных настроений, вплоть до вооруженных выступлений. Г. Балинт озаглавил эти короткие юмористические новеллы «Mongolische Anekdoten. Aus dem Volksmunde aufgezichnet und mitgeteilt». Один из анекдотов гласит: «Монгол и китаец ехали в пути, когда загремел гром и начался дождь. Так как китаец ехал впереди, а монгол сзади, в момент грома монгол от испуга так сильно ударил китайца по голове своей плетью, что тот свалился с лошади. Монгол слез с лошади и лег с выпученными глазами и открытым ртом, притворяясь мертвым. Пока он лежал, китаец подошел к монголу и сказал: “Ты не мог вынести удара молнии, меня же ударило три раза. Монгол, жалкая тварь! Эй, вставай, вставай!”. При этих словах монгол встал, придя в себя. “Смотри, – снова заговорил китаец, – я храбрый человек, три удара молнии не раскололи мне голову. Несчастный монгол, пойдем дальше!”. И с этими словами они пошли дальше» (переводы текстов осуществлены автором статьи) [Balint 1895, 70] .
Во втором анекдоте речь идет о том, что однажды двум путешественникам, китайцу и монголу, пришлось ночевать у кучи аргала, сложенной для зимнего костра. Ночью монгол, отчасти стоная, отчасти подражая волчьему рычанию, стал рвать зубами одежду китайца и кусать его за икры. Перепуганный китаец в ужасе укутал голову и стал умолять волка: «Вот плохой монгол, съешь его первым, а если ты останешься все равно голодным, то он отдаст даже свои голые ягодицы». Когда наступило утро, он поклялся небом и землей, что пока плохой монгол крепко спал, он забил девять волков до полусмерти [Balint 1895, 71]. Третий анекдот совершенно короткий по объему: «Как-то лама, много путешествовавший по свету, сказал мне: “Однажды умер осел в канаве, на него сел мангас, и вскоре из него вылезли мириады жуков-могильщиков, и это были китайцы”» [Balint 1895, 71].
Героями монгольских анекдотов являлись и китайские полководцы. Как пишет Б. Лауфер, «монголы повторяют маленькие анекдоты и историйки про китайских героев, которые они могли слышать из уст китайцев или усвоить при посредстве китайской переводной литературы» [Лауфер 1927, 82]. Так, Г. Тимковский, путешествуя по Китаю и Монголии, записал два анекдота о китайском полководце Чжугэ Ляне (Кунмин). В одном из анекдотов говорится о его смекалке. Во время одного из военных действий огромная река разделяла китайские войска с неприятелем. Кунмин приказал изготовить человеческие чучела из соломы, посадить их в лодки, зажечь фитили и пустить флотилию по реке. Враг, увидев плывущие лодки, стал метать в них стрелы до тех пор, пока все их колчаны опустели. Так Кунмин с войском переправился через реку, напал на неприятеля и легко одержал победу над ним [Тимковский 1824, 186–187].
У Б.Я. Владимирцова обнаружен анекдот о бадарчи (бадарч – бадар-чин, странствующий монах, сборщик пожертвований [Калмыцко-русский словарь 1977, 75]). Монголы иронически и с некоторым пренебрежением относились к ним, так как считали их обманщиками и лентяями. В анекдоте это ярко выражено: «Залаяла около одной юрты собака; мальчик, находившийся внутри, кричит своей матери: “Человек какой-то пришел!”; тогда мать ему отвечает: “Это не человек, – бадарчи”» [Влади-мирцов 1921, 117].
Калмыцкие анекдоты XIX в.
В русско-калмыцком словаре «анекдот» имеет два значения: 1. рассказ (ахр инəдтə келвр ‘короткий юмористический рассказ’, ахр шогта келвр ‘короткий шутливый рассказ’) и 2. происшествие (берк йовдл ‘исключительный (тяжелый) случай’) [РКС 1964, 22].
Тема калмыцкого анекдота мало исследована учеными. Весьма затруднительно найти и тексты ранних анекдотов у калмыков. В книге «Алтн чееҗтǝ келмрч Боктан Шаня» («Хранитель мудрости народной Шаня Боктаев»), где представлен репертуар талантливого сказителя, мы находим два анекдота, названные составителями шог (букв. ‘шутка’), их скорее можно назвать ахр шогта келвр (‘короткий шутливый рассказ’) [Алтн… 2010, 105]. Но эти два анекдота относятся к советскому периоду, так как некоторые персонажи имеют русские имена.
Самые ранние упоминания о калмыцком анекдоте мы находим у Б. Бергмана, совершившего путешествие в калмыцкие степи в 1802– 1803 гг. Как пишет Б. Лауфер, Бергман «сообщил десять калмыцких шуток, главным образом о воровских проделках» [Лауфер 1927, 82]. Сам же Б. Бергман озаглавил их «Kalmükische Anekdoten» [Bergmann 1804, 343–352]. Все 10 анекдотов пронумерованы и имеют краткие названия: 1. «Scharfes Gesicht», 2. «Scharfes Gehör», 3. «Gedächtnis», 4. «Aller Welts Neffe», 5. «Das bestrafte Selbstvertrauen», 6. «Der junge Betrüger», 7. «Das gestohlene Becken», 8. «Verwegenheit», 9. «Grausamkeit», 10. «Nachgier». Такое малое количество анекдотов не дает право на репрезентативность исследования, но позволяют нам иметь представление о таком явлении в фольклоре, как калмыцкий анекдот.
Калмыцкие анекдоты в записи Б. Бергмана имеют сходство с бытовыми сказками по сюжетной типологии и художественному содержанию. Классификация бытовых сказок в калмыцком фольклоре подробно освещена в работах калмыцких фольклористов [Джимгиров 1970, Мучкинова 1970, Басангова 2016, Надбитова 2016]. Так, среди записанных Б. Бергманом анекдотов можно выделить сюжет о хитрых и ловких людях, ворах, дураках. В анекдоте № 4 «Aller Welts Neffe» пройдоха-калмык, который из-за своих многочисленных озорных проделок ввел среди калмыков обычай безнаказанно красть у брата своей матери (у калмыков это был вполне легализованный закон «Зе бǝрдг йосн» (букв. «Закон о племянниках со стороны матери»), когда братья матери обязаны были выделять сообща своему племяннику имущество и скот; в случае, если племянник не получал законного наследства, то он мог своровать у дяди и не нес за это никакого наказания [Батмаев 2022, 79]), однажды ночью прокрался в кибитку одного калмыка и украл быка. Отведя животное в безопасное место, вор, уповая на быстроту своего коня, вернулся к кибитке обворованного калмыка, постучал в кибитку и на вопрос хозяина «Кто там?» ответил: «Я тот, кто всем племянник, я украл твоего сивого вола. И если ты хочешь вернуть его, доложи хану на ближайшем приветственном пиру».
Хозяин вола прибыл на праздник, схватил вора и привел его к хану, которому рассказал обо всем случившемся. Обвиняемый с улыбкой ответил: «Ваш хан легко увидит, что заявление этого человека необоснованно, так как ни один вор не мог бы говорить такие слова тому, у кого украл». Хан и весь совет сочли этот ответ достаточным и приговорили хозяина вола к паре грубых подзатыльников, которые он тут же получил перед ханом. Хитрость и находчивость вора привели не только к материальному урону, но и к моральным страданиям человека.
Воры в анекдотах применяют различные уловки. В анекдоте № 6 «Der junge Betrüger» речь идет о маленьком обманщике. К калмыцкому священнику, который занимался благотворительностью и подавал милостыню бедным людям, так часто приходил притворявшийся нищим человек, что он, в конце концов, возмутился и решил прогнать назойливого гостя. При этом он добавил, что у него нет ничего, кроме куска хлопчатобумажной ткани, и что он ждет лошадь, чтобы отвезти вещи на рынок. «Как, – сказал разбойник своему сыну, которого взял с собой, – разве наш вороной конь не годится для гелюнга?». Несмотря на то, что отец не владел ни вороными, ни какими-либо другими лошадьми, мальчик сразу догадался о намерениях отца и дал понять это своим ответом. «Наш вороной конь, – ответил сын, – выглядит достаточно кротко, но, возможно, он еще слишком молод для гелюнга». Ничего не подозревающему гелюнгу этот ответ показался настолько естественным, что он тут же передал свой кусок холста, чтобы привязать его к лошади, а сам занялся приготовлениями к путешествию. В итоге священник снова был обманут.
Как и в бытовых сказках, вор обладает ловкостью, сообразительностью и умением находить выход из, казалось бы, безнадежной для мошенника ситуации. Так, в анекдоте № 5 «Das bestrafte Selbstvertrauen» мошенник своими обманными проделками создал себе такую дурную славу, что каждый, увидев его, восклицал: «Осторожно! Это мошенник!». Два молодых человека, сидевшие на лошади, услышали это восклицание, но так положились на свое собственное благоразумие, что попросили самого плута разыграть их. «Я забыл свой дар дома, – сказал плут, – сейчас я поеду домой на вашей лошади и вернусь мигом обратно». Удивившись, приятели расступились, мошенник сел на лошадь и исчез вместе с ней.
Все 10 анекдотов можно условно разделить на две части: первую можно определить как короткий шутливый рассказ (ахр шогта келвр) и вторую как происшествие, случившееся в истории калмыков (берк йовдл).
Особенности структуры текстов калмыцких анекдотов Б. Бергмана
Анекдоты имеют четко заданную структуру [Шмелева, Шмелев 2002, 131]. Все 10 калмыцких анекдотов композиционно состоят из трех частей – начала, середины и концовки и имеют трехчастную структуру: завязку интриги, кульминацию и неожиданную развязку. В начале анекдота указываются временные или локальные координаты: время и место действия, определение участников (персонажей). В анекдоте № 6 «Der junge Betrüger» сказано: «Этот случай произошел очень давно. В Джунгарии это произошло» (Джунгарское ханство просуществовало с 1635 по 1758 гг.). В анекдоте № 3 «Gedächtnis» упоминается участие калмыков в Кубанском походе 1711 г., который был предпринят в ходе русско-турецкой войны 1710–1713 гг., когда калмыков послали для усмирения кубанских татар. Действия сюжета в калмыцком анекдоте происходят обычно в степи (анекдоты № 1, 5, 8, 9), кибитке (№ 2, 4, 10), в хуруле (№ 6), на реке (№ 3), на пиру (№ 7).
Главными героями анекдотов являются вор, обманщик, знатный калмык (зайсанг), священник. Персонажи нескольких анекдотов имеют имена – Асугийн Дорджи, Марука, Санджи Манджи. Возможно, что это были известные для того времени люди. Так, например, Асугийн Дорджи был героем многих военных походов. В частности, он был участником Кубанского похода 1711 г., в одном из анекдотов о нем говорится как о калмыцком Ахиллесе. Санджи Манджи был уважаемым священником и лучшим в округе лучником. Марука славился своими боевыми подвигами, отличился в Крымских походах калмыков в 1648 г.
В середине текста появляются некие «опоры, помогающие слушающему прогнозировать допустимые варианты развития и исхода сюжета» [Фефелова 2016, 768]: заблудившиеся в степи кочевники направляются в гору, послушав своего товарища, увидевшего вдали наездника на пегой лошади (анекдот № 1); воины-калмыки, ищущие место ночлега в степи, скачут в полночь в направлении, указанном одним из путников, так как его тонкий слух уловил голоса людей (№ 2); во время пира одному знатному калмыку пришла в голову мысль украсть медный таз, спрятав его в широкие штаны (№ 7); калмыцкий Ахиллес Асугийн Дорджи не захотел во время похода оставить свою изможденную лошадь и проводит зиму один на вражеской территории (№ 8) и т. д.
Наиболее сильной позицией в анекдоте является его конец, в котором содержится вся «соль» анекдота, его пуанта – «эффект обманутых ожиданий слушателя» [Шмелева, Шмелев 2002, 126]. По мнению Е. Курганова, «без пуанты анекдот просто невозможен. Действие закона обусловливает смешение в финале текста налаженной иерархии значений» [Курганов 1997, 34]. В калмыцких анекдотах закон пуанты наглядно виден. Их цель – сделать остроумное, иногда парадоксальное замечание (facete dictum) или неожиданное, остроумное действие (facete factum), которое часто контрастирует с сюжетом. Так, Асугийн Дорджи, благополучно перезимовав в стане врага, не только спас свою лошадь, но и приумножил свое состояние, захватив с собой восемь лошадей (№ 8). Пострадавший от вора, укравшего вола, хозяин не только лишается добра, но и еще получает наказание от хана (№ 4).
Вполне оправданы слова Е. Курганова о том, что «при всей своей остроте и пикантности, анекдот повествует о диком, страшном, не укладывающемся в рамки обычной логики, но по-своему характерном, имеющем определенное внутреннее оправдание» [Курганов 1997, 26]. Анекдот о Санджи Манджи очень точно, как бы изнутри, показывает нравы воинов-кочевников, лидеров общества, которых восхваляли и почитали. В анекдоте противостоят воин и зайсанг. Один выделяется в обществе личными качествами, второй, вероятно, не имеет заслуг, но имеет положение по рождению. Однажды он заметил проезжавшего мимо зайсанга с трубкой во рту. Санджи Манджи демонстративно потребовал выкурить эту трубку. Тот ответил таким тоном, что лучший в округе лучник схватил свой лук, наложил на него стрелу и выстрелил зайсангу прямо в сердце. Он взял дымящуюся трубку, выкурил ее, а затем снова вложил в рот покойного, воскликнув: «Теперь ты можешь курить!» (№ 10). Внимательно рассмотрев сюжет данного анекдота, зададим резонный вопрос: «Что же здесь смешного?». Но, как считает Е. Курганов, «анекдот … ни в коей мере не относится к области юмористики. Общая установка жанра заключается в том, что он стимулирует историческое или логико-психологическое любопытство, воскрешая быт, нравы эпохи, помогая постигнуть глубинные закономерности национального бытия» [Курганов 1997, 25–26]. Доверчивый священник, свирепый Марука, мужественный Асугийн Дорджи, находчивый монгол и даже коварный
Санджи Манджи – все это показательные бытовые типы, благодаря которым можно понять, исследовать душу, характер и силу народа.
Заключение
Рассмотрев и проанализировав калмыцкие анекдоты, записанные и переведенные на немецкий язык Б. Бергманом, можно утверждать, что калмыцкий анекдот как явление в фольклоре народа, как речевой жанр существовал в устном народном творчестве народа. Несмотря на малое количество текстов анекдотов, можно констатировать, что калмыцкие анекдоты имеют трехчастную структуру, соответствующую данному жанру, и композиционно состоят из начала, середины и концовки. К ним также применим закон пуанты в анекдоте.
О времени действия в анекдоте можно судить по отдельным фразам, которые, на первый взгляд, ничего не значат, но, если знать историю, то можно определить, когда произошло то или иное событие.
Тексты анекдотов у калмыков и монголов схожи по своей структуре, хотя и различны темы сюжетов.
В анекдоте обычно описывается запоминающееся, экстраординарное событие, которое запечатлено на мгновение и рассказывается в сжатые сроки. Героями анекдотов могут являться известные народу исторические личности (Асугийн Дорджи, Марука, Санджи Манджи – у калмыков; генерал Кунмин – у монголов), но в большинстве своем это безымянные персонажи, встречающиеся человеку в обыденной жизни и наделенные определенными чертами: хитрый мошенник, высокомерный зайсанг, находчивый вор, самоуверенные друзья-простаки и т. д.
К сожалению, трудно судить о языковых (лексических, морфологических, синтаксических) особенностях калмыцких анекдотов Б. Бергмана, так как текст не аутентичен, но, безусловно, автор обладал хорошим знанием калмыцкого языка, менталитета калмыков и специфики национального юмора. В целом калмыцкий анекдот как речевой жанр требует комплексного изучения с точки зрения фольклористики, литературоведения, лингвистики и т. д. Огромный пласт современных калмыцких анекдотов также до сих пор не стал объектом изучения гуманитарных наук. Типология текстов, специфика жанра калмыцкого анекдота является на сегодня широко открытой темой для исследования.
Список литературы Монгольский и калмыцкий анекдот XIX в.: специфика и структура
- Bergmann B. Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Teil II. Riga: bei J.G. Bartmann, 1804. 352 s.
- Алтн чееж;тэ келмрч Боктан Шаня (Хранитель мудрости народной Шаня Боктаев) / сост. Б.Б. Манджиева. Элиста: КИГИ РАН, 2010. 172 с.
- Басангова Т.Г. Бытовые сказки калмыков: опыт изучения и классификация // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2016. Т. 25. № 3. С. 180-187.
- Батмаев М.М. Калмыки в XVII-XVIII вв. События, люди, быт. Элиста: КалмНЦ РАН, 2022. 440 с.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. Т. 2: Д-О. М.: Academia, 2001. 536 с.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. Т. 4: Х-Я. М.: Academia, 2002. 532 с.
- Владимирцов Б.Я. Монгольский сборник рассказов из Pancatantra. Пг.: Академическая двенадцатая государственная типография, 1921. 163 с.
- Восточнославянский фольклор: словарь научной и народной терминологии. Минск: Наука и техника, 1993. 478 с.
- Джимгиров М.Э. О калмыцких народных сказках. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1970. 103 с.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Карасик В.И. Анекдот как предмет лингвистического изучения // Жанры речи. 1997. № 1. С. 144-153.
- Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб.: Академический проект, 1997. 123 с.
- Лауфер Б. Очерк монгольской литературы. Л.: Издательство Ленинградского Восточного института им. А.С. Енукидзе, 1927. 95 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. 1600 ст.
- Мучкинова Е.Д. Хальмг туульс (к вопросу о классификации) // Филологические вести. Вып. 2. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1970. С. 112-115.
- Надбитова И.С. Сюжетный состав калмыцких бытовых сказок // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. 2016. № 4. С. 145-150.
- Русско-калмыцкий словарь / под ред. И.К. Илишкина. М.: Советская энциклопедия, 1964. 803 с.
- Сампилдэндэв Х. Монгол аман зохиолын товчоон. Улаанбаатар: [б. и.], 2002. 132 х.
- СедовК.Ф. Основы психолингвистики в анекдотах. М.: Лабиринт, 1998. 64 с.
- Тимковский Г. Путешествие в Китай чрез Монголию в 1820 и 1821 годах. СПб.: Типография Медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1824. 388 с.
- Фефелова Г.Г. Композиционные и структурные характеристики текста анекдота // Вестник Башкирского университета. 2016. Т. 21. № 3. С. 768-771.
- Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Статьи - воспоминания - эссе. М.: Советский писатель, 1990. 544 с.
- Шмелева Е.Я., Шмелев АД. Русский анекдот: текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. 144 с.
- Attardo S. Linguistic Theories of Humor. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1994. 426 p.
- Balint G. Mongolische Anekdoten // Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. B. IV. Budapest: Buchdruckerei E. Boruth, 1895. P. 70-71.
- Raskin V. Semantik Mechanismus of Humor. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1985. 284 p.
- Websters new world. Essential vocabulary / by D.A. Herzog. Wiley: Collins Reference, 2005. 387 p.