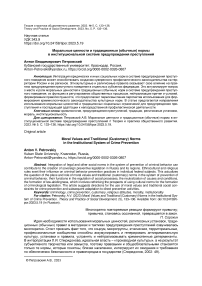Моральные ценности и традиционные (обычные) нормы в институциональной системе предупреждения преступлений
Автор: Петровский Антон Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Интеграция юридических и иных социальных норм в системе предупреждения преступного поведения может способствовать созданию суверенного профилактического законодательства на территории России и ее регионов. Этнокультурные и религиозные правила оказывают свое влияние на практики предупреждения преступного поведения в отдельных субъектах федерации. Это актуализирует вопрос о месте и роли моральных ценностей и традиционных (обычных) норм в системе предупреждения преступного поведения, их функциях в регулировании общественных процессов, нейтрализации причин и условий, формировании правопослушности, что предполагает переосмысление перспектив использования для формирования криминологического законодательства культурных норм. В статье предлагаются направления использования моральных ценностей и традиционных социальных ограничений для предупреждения преступлений и последующей адаптации к непосредственной профилактической деятельности.
Криминология, предупреждение преступлений, традиции, религиозные установки, мораль, институциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/149142611
IDR: 149142611 | УДК: 343.9 | DOI: 10.24158/tipor.2023.5.19
Текст научной статьи Моральные ценности и традиционные (обычные) нормы в институциональной системе предупреждения преступлений
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,
,
Многократно повторяемые реакции формируют привычку; привычка, становясь осознанной, превращается в закон.
П. Сорокин
Идея необходимости использования моральных ценностей, религиозных установок, традиционных (обычных) правил в методиках и тактиках предупреждения преступлений озвучивалась многократно. Стоит признать факт того, что социум, микрогруппы, этнические, территориальные, профессиональные сообщества способны аккумулировать и генерировать антикриминальную культуру, установки и правила, устранять и нейтрализовывать криминогенные детерминанты. В интерпретации Л.И. Спиридонова, идеальная власть – «производная культуры», а не результат субъективного творчества или замысла, поэтому правовыми и общеобязательными становятся только те нормы, которые понятны, близки населению, интегрируют их ожидания и требования по обеспечению безопасности и правопорядка в государстве (Cпиридонов, 2002: 49).
Степень общественной опасности деяний для разных групп населения обладает перцептуальным свойством, т. е. «серьезность» преступления зависит от точки зрения на него социума и общественных институтов (Шестаков, 2011: 14–15). Исходя из данного утверждения о приемлемых способах противодействия преступлениям и формах (мерах) превенции можно судить, принимая во внимание в том числе моральные и нравственные ценности определенных групп общества.
Для того чтобы предупреждение преступлений было эффективным, нужна «коммуникация» между юридическими и иными социальными нормами, которая бы избирательно поддерживала криминорезистентные проявления традиционной культуры и посредством традиций, моральных ценностей, религиозных установок устраняла либо нейтрализовала криминогенные детерминанты. Решение видится в институциональном подходе к построению криминологического (профилактического) законодательства в России. Институциональность (институционализм) представляет собой научную концепцию, объединяющую подходы, которые рассматривают систему юридических и иных социальных норм в процессе их деятельности, акцентируя внимание не на их формальных признаках, а на их способности эффективно порождать и регулировать общественные процессы, вызывать ответную реакцию общества (MacCornic, 2007; Morton, 1998). Криминологам необходимо провести изучение криминорезистентных моральных ценностей и традиционных (обычных) норм, присутствующих в российском обществе, результатом чего должна стать их конкретизация, а далее – имплементация в федеральное и региональное законодательство. Чтобы указанные правила не стали «мертвыми», надо наделить обеспечивающих их исполнение субъектов правом на государственное и потестарное принуждение (понуждение). Институционализация превратит эффективные социальные практики (сообщать о нарушениях правил дорожного движения, контролировать поведение несовершеннолетних и др.) в регулируемую, обеспеченную инфраструктурой, средствами, ресурсами деятельность инициативных субъектов по предупреждению преступлений.
В реализации криминологических норм, учитывая институциональный подход, участвуют номинальные и фактические субъекты. Первые представлены социальными группами или индивидуумами, на которых данные нормы или криминологические практики воздействуют опосредовано. Фактические субъекты – это социальные группы или индивидуумы, которые в силу нормативноправовых отношений, межличностных установок, традиций, обычаев следуют антикриминальным нормам поведения, реализуя профилактические практики. Однако проблема заключается в том, что для номинальных субъектов (населения страны и регионов) перечень моральных и нравственных норм, нейтрализующих и устраняющих криминальные детерминанты, четко не сформулирован, не пропагандируется представителями элиты, не постулируется как социально полезный.
Основываясь на этом утверждении, можно сделать вывод о том, что институциональность норм предупреждения преступного поведения будет представлять устойчивую, исторически сложившуюся, упорядоченную систему нормативных институтов, регулирующих отношения в сфере криминологической деятельности России, порождающих реальные правила поведения, которым подчиняется социальная действительность и благодаря наличию которых населению обеспечена эффективная защита жизни, здоровья, имущества, основных ценностей от криминальных посягательств (Добреньков, Кравченко, 2004: 180–181).
Зарубежной криминологии известны теоретические подходы, определяющие, что структура и динамика развития преступности зависят от доминирования в превентивных практиках определенных общественных институтов, где моделирующую роль играют ценности, институты и нормы социума (Зигмунт, Ветцелс, 2015: 80–84). В России можно найти немало этому подтверждений: как только в обществе сформирован антагонизм к определенному поведению, которое может продуцировать преступление, то сразу отмечается уменьшение сходных поведенческих проявлений. Так, антиалкогольная пропаганда 2010–2018 гг., изменения культуры потребления спиртных напитков, преимущественная тяга молодежи к здоровому образу жизни в совокупности с доступностью фитнес-центров привели к уменьшению потребления алкоголя с 15,7 л на человека в 2008 г. до 8,5 – 2019 г., а больных с диагнозом «алкоголизм» – с 2,08 млн до 1,26 млн чел.1
Общесоциальные меры, совмещенные с применением мер административной ответственности, уголовного наказания, привели к уменьшению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения: в 2016 г. было зафиксировано 22 145 подобных фактов, в 2017 – 21 650, в 2018 – 20 435, в 2019 – 19 308, в 2020 – 18 582, 2021 – 12 7932. Уменьшилось и количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения: в
2016 г. их было 395 229 чел., в 2017 – 352 062, в 2018 – 326 269, в 2019 – 298 432, в 2020 – 288 361, в 2021 г. – 262 452, в 2022 – 227 8971.
Исследования влияния стыда на индивида уже проводились за рубежом и позволяют сделать вывод о том, что страх причинения ущерба социальным связям или отношениям для человека, отождествляющего себя с этой общностью и получающего от принадлежности к этой социальной формации пользу, является сдерживающим фактором (Allen et al., 2017: 884–898). Действенность моральных и традиционных (обычных) норм как профилактических институтов можно отследить в официальной статистике МВД РФ, которая из года в год показывает низкий уровень преступности несовершеннолетних в Чеченской Республике2. Так, в структуре лиц, совершивших преступления на территории Чеченской Республики в 2016 г. их доля составляла 0,8 %, в 2017 – 0,3, в 2018 – 0,2, в 2019 – 0,1, в 2020 – 0,2, в 2021 – 0,1, в 2022 (2 чел.!) – 0,1 %. В то время как средний удельный вес несовершеннолетних преступников по Российской Федерации составил в 2017 г. – 4,4 %, в 2018 – 4,3, в 2019 – 4,2, в 2020 – 3,9, в 2021 – 3,4, в 2022 – 3,2 %3.
Поведение в одной и той же социальной (этнической) группе может быть расценено как опасное и преступное либо как полезное (одобряемое) в зависимости от того, какие моральноценностные нормы (шаблоны поведения) нарушались или выполнялись. Здесь можно привести в пример случаи с приобретением матерями больных детей сильнодействующих лекарств за рубежом и получением их по почте, что расценивалось правоохранительными органами как деяния, предусмотренные ст. 2291 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных ве-ществ»4. Следственным комитетом РФ возбуждались уголовные дела, но под давлением общественности, по ходатайству Генеральной Прокуратуры они прекращались. Другой пример: пришедшее из западной культуры движение отказа от детей (чайлдфри) не нарушает законодательные установки, но в целом подрывает традиционный институт семьи, влияет на демографические процессы и, возможно, инициировано политическими институтами враждебных государств, однако остается без внимания со стороны государства. Или так называемая проблема прав ЛГБТ, которая превратилась в политический инструмент воздействия на российскую власть со стороны Европейского союза. Вред этой идеологии заключается не в присутствии в российском обществе ее представителей (к слову, достаточно большом), а в лицемерном навязывании моды, в пропаганде этой формы сексуальных отношений, понуждении общества признать их нормой для всего населения. Уголовная репрессия в отношении защитников прав ЛГБТ превращает их в жертв бездушной машины при отсутствии постулируемых государством семейных установок, пропаганды материнства, агитации против разводов.
Если в структуре культурно-нравственных, этнических, корпоративных особенностей микрогрупп преобладает осознание полезности и продуктивности превентивных норм и практик, то и в реальной жизни представитель такой группы руководствуется этими нормами в своей деятельности, рассчитывая на поддержку группы. В качестве примера рассмотрим деятельность добровольных спасательных отрядов «Лиза Алерт». Появилось это движение правоохранительной направленности в 2010 г. по причине того, что органы внутренних дел и МЧС были не способны организовать эффективный поиск пропавших детей, престарелых, взрослых больных по элементарной причине – в результате отсутствия сил и средств. Так, погибшая в лесу вместе со своей тетей пятилетняя Лиза стала символом для жителей страны, желающих оказать помощь в поиске без вести пропавших людей5.
Современные правоохранительные технологии и профилактические практики оказываются рудиментарными не только ввиду своей неэффективности, но и вследствие изменения ценностей общества, где современный человек (человек постмодерна) отказывается от массового принятия бюрократических институтов, ставит в приоритет самовыражение и индивидуальный выбор, основанный на культурных и традиционных ценностях в индивидуальных или групповых практиках предупреждения антиобщественного поведения (Исмайылов, 2018: 8). Пример – ситуация с обеспечением экологической чистоты парков, лесов, побережья, пляжей, обочин дорог, которую невозможно улучшить только полицейским патрулированием или камерами наружного наблюдения, нужно привлечение инициативных граждан, ориентированных на обеспечение правопорядка и чистоты, наделение их соответствующими полномочиями.
В заключение хотелось бы обратить внимание на следующие неформальные правила, требующие включения в систему норм предупреждения преступного поведения. Среди них: 1) установки, образцы поведения, традиционные практики (ответственность старших в семье за поведение младших; субординация в отношениях начальника и подчиненного, послушание со стороны обучающихся и т. д.); 2) символы и культурные артефакты антикриминального характера; 3) этнокультурные особенности поведения (женские обязанности, мужские обязанности, моральный авторитет во внутрисемейных отношениях); 4) регуляторы потестарного внутрисемейного понуждения родителями детей, склонных к антиобщественным поступкам; 5) механизмы разрешения конфликтов посредством совета старейших мужчин либо лиц, обладающих качествами лидера и авторитетом; 6) процедуры поддержания порядка в коллективе (этносе, народности); 7) правила добросовестного и морально одобряемого поведения; 8) неформальные санкции, порождающие стыд, раскаяние, приносящие морально-материальные издержки, остракизм.
Список литературы Моральные ценности и традиционные (обычные) нормы в институциональной системе предупреждения преступлений
- Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: в 15 т. М., 2004. Т. 5. 1096 с.
- Зигмунт О.А., Ветцелс П. Институциональная теория аномии - эмпирическая проверка // Социологические исследования. 2015. № 4 (372). С. 78-87.
- Исмайылов Р.Н. Криминология в обществе постмодерна. СПб., 2018. 96 с.
- Спиридонов Л.И. Избранные произведения: Философия и теория права. Социология уголовного права. Криминология. СПб., 2002. 390 с.
- Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. СПб., 2011. 73 с.
- Allen S., Murphy K., Bates L. What Drives Compliance? The Effect of Deterrence and Shame Emotions on Young Drives' Compliance with Road Laws // Policing and Society. 2017. Vol. 27, iss. 8. P. 884-898.
- MacCornic N. Institution of Law: An Essay in Legal Theory (Law, State and Practical Reason). Oxford, 2007. 336 p.
- Morton P. An Institutional Theory of Law: Keeping Law in its Place. Oxford, 1998. 416 p.