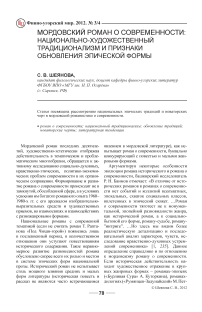Мордовский роман о современности: национально-художественный традиционализм и признаки обновления эпической формы
Автор: Шеянова Светлана Васильевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 3-4, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению национальных эпических традиций и новаторских черт в мордовской романистике о современности.
Роман о современности, национальный традиционализм, обновление традиций, новаторские черты, литературная тенденция
Короткий адрес: https://sciup.org/14722927
IDR: 14722927
Текст научной статьи Мордовский роман о современности: национально-художественный традиционализм и признаки обновления эпической формы
(г. Саранск, РФ)
Статья посвящена рассмотрению национальных эпических традиций и новаторских черт в мордовской романистике о современности.
-
• роман о современности; национальный традиционализм; обновление традиций; новаторские черты; литературная тенденция
Мордовский роман последних десятилетий, художественно-эстетически отображая действительность в тематическом и проблематическом многообразии, обращается к активному исследованию социально-духовных, нравственно-этических, политико-экономических проблем современности в их органическом сопряжении. Формирование и развитие романа о современности происходит не в замкнутой, обособленной сфере, а в условиях усвоения им богатого романного опыта 1960– 1980-х гг. с его арсеналом изобразительновыразительных средств и художественных приемов, во взаимосвязях и взаимодействиях с разножанровыми формами.
Национальные романы с современной тематикой (если не считать роман Т. Рапта-нова «Под Чихан-горой») появились лишь в послевоенный период, в количественном отношении они уступают повествованиям исторического содержания. Такое неравномерное развитие разновидностей романа обусловлено скорее всего их ролью и местом в системе эпических форм национальной прозы. Исторический роман не испытывает столь мощного влияния средних и малых форм литературы (историческая повесть и рассказ не являются часто встречающимся явлением в мордовской литературе), как испытывает роман о современности, буквально конкурирующий с повестью и малыми жанровыми формами.
Аргументируя некоторые особенности эволюции романа исторического и романа о современности, башкирский исследователь Р. Н. Баимов отмечает: «В отличие от исторических романов в романах о современности нет событий и коллизий всеохватных, эпохальных, схваток социальных классов, вплетенных в эпический сюжет. …Роман о современности тяготеет не к монументальной, эпопейной разновидности жанра, как исторический роман, а к социальнобытовой его форме, роману-судьбе, роману-"интриге". …Но здесь мы видим более реалистическую детализацию и последовательный анализ характеров, чувств, исследование нравственно-духовных устремлений современника» [1, 235 ]. Данное определение справедливо и по отношению к мордовскому роману о современности. Если историческая действительность находит художественное отражение в крупных жанровых формах – романах-эпопеях («Бурливая Сура» А. Куторкина), романах-дилогиях («Румянцев-Задунайский» М. Пет
рова, «Дважды рожденный» А. Щеглова), романах-трилогиях («Сын эрзянский» К. Абрамова, «Трудное счастье» М. Сайги-на, «Красный колосс» М. Петрова и др.), то роман о современности лишен эпопейно-сти и монументальности. Значение данной жанровой формы заключается в полном, убедительном, разностороннем, аналитическом взгляде на мир и человека в нем. Изображение общественно-личных связей человека, становления его характера под влиянием особенностей среды, быта, проникновение в глубины психологии героя, выявление его нравственно-этического стержня в контексте вневременных общечеловеческих проблем философского характера – все это обеспечивает эпической художественной мысли о современности популярность и востребованность в читательской среде.
Современные романы на тему дня «У любви краски свои» А. Брыжинского [2], «Перепелка – птица полевая» А. Доронина [5], «Ванечка» Е. Четвергова [9] продолжают жанрово-тематические традиции произведений предыдущих лет, среди которых – «Трава-мурава» И. Девина, «Ржаной хлеб» А. Мартынова, «Глубокие корни» и «Теплый ветер» М. Сайгина, «Лысая гора» и «Грушица у дороги» Т. Якушкина, «Птицы весенние» М. Бебана, «Поздняя весна» и «Теплое лето» В. Кижняева и др. В названных произведениях непреходящей темой являются социально-нравственные проблемы деревни, их можно назвать своеобразной художественной летописью сельского бытия. Следует сказать, что основной тематической направленностью в мордовской литературе в целом и в романе в частности традиционно выступает сельская, деревенская тематика.
Возникшее в русской литературе 60-х гг. ХХ столетия новое явление – «деревенская проза», которую А. П. Эльяшевич назвал знамением времени [10], – в мордовской литературе и в настоящее время остается на главенствующих позициях и намечает перспективные направления дальнейшего развития национальной художественной системы. Актуальность и востребованность темы деревни могут быть мотивированы тем, что писатели получили возможность смело подходить к эстетическому решению судьбоносных проблем национального бытия в прошлом и настоящем. Эта тема остро чувствует преемственность времен и поколений и способствует ее сохранению, она аккумулирует серьезные размышления писателей о национальных корнях, национальном менталитете и т. д.
Деревенская тема стала в русской и в других национальных литературах «не просто объектом изображения», но «загадкой исторического пути России, ее болью, ее муками совести, перекрестком путей в грядущее» [3, 54 ]. Она обнаружила в себе пласты такого общезначимого культурноисторического содержания, которые выводят ее далеко за пределы каких-либо тематических ограничений. Этот вывод подтверждается произведениями Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Астафьева, С. Залыгина, В. Быкова, Е. Носова, Б. Можаева, Ч. Айтматова, которым присуща ярко выраженная народность как художественная мера и позиция автора.
Проникновение «деревенской прозы» в мордовскую литературу и эволюцию в ней видные исследователи считают весьма благоприятной тенденцией, которая принесла «новый, широкий жизненный материал со всеми своими реалиями и коллизиями, обострила морально-нравственные поиски литературы, поставила вопрос об отношении к нравственным критериям, веками выработанным народом, духовным началам, гражданской преемственности и связи времен, усилила ее философичность» [8, 191 ].
Романы А. Доронина, А. Брыжинского, Е. Четвергова, являясь определенным органичным этапом в развитии деревенской темы в мордовской литературе, опираются на традиции всей литературы 1960– 1980-х гг. о современности и «деревенской прозы» в частности. Художественноэстетический опыт мастеров слова предыдущих поколений благотворным образом отразился на нравственно-этической и философско-психологической направленности произведений вышеназванных прозаиков. Говоря о преемственности поколений, тесной взаимосвязи традиций и новаторства в словесном творчестве, В. М. Макушкин
^р Финно–угорский мир. 2012. № 3/4 отмечает естественность и жизненность этого процесса: «Сила традиции – в гармоничном единстве с развивающимся миром. Она не исчезает и не разрушается, а на каждом определенном этапе развития приходит в соответствие с современными представлениями» [8, 158 ].
Возникшее в русской литературе 60-х гг. ХХ столетия новое явление – «деревенская проза» – в мордовской литературе и в настоящее время остается на главенствующих позициях и намечает перспективные направления дальнейшего развития национальной художественной системы.
В настоящее время в жанровой структуре мордовского романа о современности все сущее обретает свои качественные черты и многозначность. Романистика последних десятилетий изображает целостную картину национального бытия, формулирует общечеловеческие законы жизни. Акцентируя внимание на духовных ценностях отдельной личности, на людских взаимоотношениях, отражении традиционно-бытовой сферы, национальная романная форма создает художественную концепцию человека, во многом исходя из социально-исторического опыта народа, из его нравственно-этических представлений и общечеловеческих ценностей. Художественный характер при этом не только отражает ведущие тенденции своего времени, но и оценивает их, что ведет к усилению философско-этической и духовно-нравственной константы в романном повествовании.
Философскую направленность романной формы о современности следует понимать не как сухую констатацию известных философских истин, а как процесс их поиска, постижения. Этот поиск превращается в определенную историю жизни, насыщенную авторской фантазией и вымыслом, развивающуюся на глазах читателя, отчего у него возникает ощущение сопричастности к процессу поиска; позволяет запечатлеть неуловимое, неуверенное, едва намечающееся движение человеческой души; заставляет читателя составить собственное мнение и самому себе ответить на вопросы: в чем смысл человеческого бытия? В чем счастье человека? Сам автор не навязывает читателю единственно правильный вывод, но его личная позиция отчетливо «просматривается» сквозь маску незаинтересованности. Самой расстановкой сюжетных акцентов, размещением «силовых полей» содержания писатель создает в произведении ценностную атмосферу, показывающую (не прямо, но тем более убедительно), на чьей он стороне. Это четко наблюдается в романах А. Доронина, Е. Четвергова, А. Брыжинского.
По сравнению с романами 1960– 1980-х гг. в мордовском романе о современности последних двух десятилетий ощутимы изменения в жанровой системе, арсенале устоявшихся литературных форм, способах типизации персонажной сферы, в обращении к оригинальным средствам выразительности, происходит повышение интеллектуального и художественного уровня повествования. Авторы романов «Перепелка – птица полевая», «У любви краски свои», «Ванечка» изображают не узкомасштабные проблемы одного села, а глобальные социально-экономические изменения, происходящие в стране, преломляют их сквозь призму психологии действующих лиц, переживающих порой духовный кризис.
Творческие поиски современных мордовских романистов сопровождаются обновлением традиций и в области повествовательных форм. Социально-философское, лирико-психологическое начала вступают в романе в сложный синтез с публицистической, фольклорно-мифологической, сатирической тенденциями. Исследователь З. Кедрина, анализируя пути развития отечественного романа, указывает, что если предыдущие этапы характеризовались «стремлением к четкому обозначению (и даже дроблению) жанровых границ (роман-хроника, роман-эпопея, исторический, историко-революционный, семейный роман и т. д.), и вместе с тем роман четко разграничивается по тематическому признаку (деревенский роман, роман о рабочем классе, военный роман, морально-этический и т. п.), сегодня наблюдается расширение идейно-тематического содержания и тен- денция к своеобразной интеграции жанров» [6, 587]. Этот вывод справедлив и для мордовского романа рубежа XX–XXI столетий. В настоящее время в национальной литературе наряду с традиционными жанрами выделяются произведения, синтезирующие в себе разные формы – деревенский роман и семейный роман, социальный роман и роман-судьба и др. Активное проникновение в романное повествование лирикофилософского, духовно-психологического, нравственно-этического начал, расширяющих границы традиционного эпического жанра, рождающих гибридные и новые жанрообразования, призвано выразить эпическую емкость изображаемого, единство мира и человека.
Следует говорить о субъективизации повествования в романах последних десятилетий, проявляющейся не только в интересе писателя к личности, но и в изменении самого статуса повествования. Оно все больше утрачивает свой однонаправленный – от писателя к читателю – характер, из монолога автора превращается в диалог с читателем. Повествователь делится своим опытом и мыслями, а множество читателей пытаются разобраться в них и вынести самое важное для себя.
Читатель все чаще «приглашается» автором к участию в споре с героем, который нередко оказывается в сложных, драматических ситуациях. Далеко не каждый персонаж становится советчиком и спутником читателя, и уж тем более образцом для подражания. Данная тенденция плодотворна не только в художественном, но и в педагогическом отношении – «необразцовый, неположительный» в традиционном понимании герой и его проблематичная, «сомнительная», а порой и прямо неверная жизненная позиция побуждают в читателе активное отношение к жизни, непримиримость к недостаткам, развивают в нем проблемное мышление. Эта позиция ярко обозначена в романе Е. Четвергова «Ванечка» посредством образа главного героя.
Назовем еще одно явление, характерное для сегодняшнего романа, также служащее средством субъективизации повествования, – использование традиций натуралистической поэтики с ее подчеркнутым внима- нием к исследованию бытовой конкретики и интимно-психологической жизни личности. Происходят своего рода реабилитация повседневности как среды обитания героя, расширение поля зрения романного повествования в результате включения в него «запретных» ситуаций, табуизированных пластов сознания. А. Куторкин, пожалуй, единственный в национальной крупномасштабной прозе обращается к интимным сценам из жизни героев. Ни М. Сайгин, ни А. Мартынов, ни Т. Якушкин не берут на себя смелость «заглянуть» в интимную сферу персонажей. А. Доронин использует традиции неонатурализма при обрисовке женских образов – бабки Олды и Розы. В романе Е. Четвергова можно наблюдать ряд сцен, связанных с Кулей и Миколем, с Ванечкой и Натой.
Романное мышление проявляется в глубоком и многоаспектном показе пути исторической эволюции и нравственного прогресса личности. В поисках ответа на вопрос о том, как соотносится человеческая личность с событиями и обстоятельствами реальной действительности, романное сознание стремится создать углубленную, обогащенную, масштабную историю человеческой души, емкий национальный характер, отражающий противоречия и духовные искания эпохи. По романам А. Брыжинско-го, А. Доронина, Е. Четвергова проследим динамику общественных процессов и хронологию социальных изменений.
В середине 1980-х – начале 1990-х гг. (именно этот временной промежуток стал сюжетно-фабульной основой романа А. Брыжинского) начались сложные процессы внедрения изменений в экономику и в общественный строй страны. Данный период был временем зарождения рыночной экономики, индивидуального предпринимательства, малого бизнеса, вошел в историю как эпоха гласности и демократии. Происходящие в обществе политические и экономические сдвиги не могли не повлиять на микромир человека, его семьи. Независимо от сложных, противоречивых социальнополитических, финансово-экономических условий единственно необходимыми ценностями для человека, по мысли романиста, остаются духовность, семья, осознание от-
(Цр Финно – угорский мир. 2012. № 3/4 ветственности перед близкими, душевная щедрость, уважительное отношение друг к другу и т. д.
-
А. Доронин, обращаясь к событиям конца 1980-х – начала 1990-х гг., раскрывает историко-нравственную роль деревни в судьбе мордовского народа, выражающуюся прежде всего в том, что она способствует сохранению связи времен и поколений, приближает к природному – естественной среде обитания человека. В интерпретации А. Доронина деревня как основа национального бытия переживает глубокий кризис, который может привести к ее духовной и физической гибели. В «Перепелке…» содержатся серьезные размышления о национальных корнях, национальном менталитете, об экологии природы, выражается беспокойство по поводу утраты в мирской суете связи с национально-духовным опытом прошлого. Мысль автора проникнута глубоким драматизмом, вызванным осознанием оторванности ряда персонажей от гуманистических основ, земли, от первозданных истоков бытия.
Стремление к эпической свободе позволило Е. Четвергову расширить хронологические рамки повествования, охватывающие период с 1945 г. и по сегодняшний день. Через изображение истории одной семьи автор раскрывает негативные социальные процессы эпохи: распад села, скоропалительное разрушение колхозной системы, распространение алкоголизма, безработицы, отход от национальных традиций, запрет на преподавание родного эрзянского языка и обучения на нем. Эти слагаемые бытия и привели к духовному упадку и безнравственности общества. Авторские философские размышления подводят к умозаключениям о предназначении человека на Земле, смысле его бытия, о тех нравственных ценностях и духовных ориентирах, которые делают человека человеком.
Таким образом, романы последних лет можно рассматривать как попытку художественного обобщения жизни села 1980– 1990-х гг. и – шире – пройденного колхозной деревней пути с конца войны и до сегодняшнего дня. Они значительно обогащают систему эпических форм национальной прозы.
Список литературы Мордовский роман о современности: национально-художественный традиционализм и признаки обновления эпической формы
- Баимов, Р. Н. Судьба жанра: (Взаимодействие и развитие жанровых форм башкирской прозы)/Р. Н. Баимов. -Уфа: Башк. кн. изд-во, 1984. -320 с.
- Брыжинский, А. У любви краски свои: роман/А. И. Брыжинский. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2004. -432 с.
- Вильчек, Л. Ш. Пейзаж после жатвы: деревня глазами публицистов/Л. Ш. Вильчек. -М.: Сов. писатель, 1988. -320 с.
- Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе/Л. Я. Гинзбург. -Л.: Сов. писатель, 1971. -464 с.
- Доронин, А. Перепелка -птица полевая: роман/А. Доронин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. -380 с.
- Кедрина, З. Эстетическая функция публицистики/З. Кедрина//Советский роман. Новаторство. Поэтика. Типология. -М., 1978. -С. 585-609.
- Компанеец, В. В. Художественный психологизм в советской литературе (1920-е годы)/В. В. Компанеец. -Л.: Наука, 1980. -112 с.
- Макушкин, В. М. Обретение зрелости/В. М. Макушкин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1984. -224 с.
- Четвергов, Е. Ванине (Ванечка): роман/Е. Четвергов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2012. -204 с.
- Эльяшевич, А. П. Горизонтали и вертикали: Современная проза -от семидесятых к восьмидесятым/А. П. Эльяшевич. -Л.: Сов. писатель, 1984. -368 с.