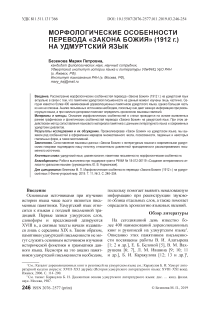Морфологические особенности перевода "Закона Божия" (1912 г.) на удмуртский язык
Автор: Безенова Мария Петровна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Рассмотрение морфологических особенностей перевода «Закона Божия» (1912 г.) на удмуртский язык актуально в связи с тем, что памятники удмуртской письменности на данный момент изучены лишь частично. Сегодня известно более 400 наименований дореволюционных памятников удмуртского языка, однако большая часть из них не описана. Анализ письменных источников необходим, поскольку они дают важную информацию при реконструкции языка, а при наличии датировки помогают определить хронологию языковых явлений. Материалы и методы. Описание морфологических особенностей в статье проводится на основе выявленных раннее графических и фонетических особенностей перевода «Закона Божия» на удмуртский язык. При этом задействован метод сопоставления языкового материала памятника с данными литературного языка и современных удмуртских диалектов. Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав «Закон Божий» на удмуртском языке, мы выявили ряд особенностей в оформлении маркеров множественного числа, посессивности, падежных и некоторых глагольных форм, а также местоимений. Заключение. Сопоставление языковых данных «Закона Божия» с литературным языком и современными удмуртскими говорами подтвердило нашу гипотезу относительно диалектной принадлежности рассматриваемого письменного источника.
Удмуртский язык, диалектология, памятники письменности, морфологические особенности
Короткий адрес: https://sciup.org/147217924
IDR: 147217924 | УДК: 811.511.131?366 | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.03.246-254
Текст научной статьи Морфологические особенности перевода "Закона Божия" (1912 г.) на удмуртский язык
Основными источниками при изучении истории языка чаще всего являются письменные памятники. Удмуртский язык относится к языкам с поздней письменной традицией. Первые записи удмуртских слов, словоформ и предложений датируются XVIII в., а связные тексты начали издаваться лишь с середины XIX в. Таким образом, памятники удмуртской письменности не могут служить основным источником изучения исторической фонетики и грамматики данного языка. Несмотря на это анализ памятников удмуртской письменности необходим, поскольку помогает выявить немаловажную информацию при реконструкции звукового облика отдельных слов, а также помогает определить хронологию языковых явлений.
Обзор литературы
На сегодняшний день известно более 400 наименований дореволюционных книг и рукописей на удмуртском языке1. Описанию этих памятников письменности посвящены работы В. И. Алатырева [1; 2 и др.], Е. Б. Беловой [5], В. М. Вахрушева [6; 7], Л. М. Ившина [9; 10; 11 и др.], Б. И. Каракулова [12; 13 и др.]2,
В. К. Кельмакова [15 и др.]3, В. В. Наполь-ских [21; 22]4, И. В. Тараканова [25; 26 и др.]5, Т. И. Тепляшиной [27; 29; 30 и др.], А. Ф. Шутова [33], Ш. Чуча [34; 35] и некоторых других ученых. Однако большая часть памятников удмуртской письменности на данный момент еще не описана.
Материалы и методы
В данной статье мы рассмотрим морфологические особенности перевода «Закона Божия»6 (1912 г.) на удмуртский язык, опираясь на выявленные графические и фонетические изоглоссы данного памятника письменности, которые были подробно проанализированы в нашей предыдущей работе «К особенностям перевода “Закона Божия” (1912 г.) на удмуртский язык: графика, орфография, фонетика» [4]. Описание морфологических особенностей проводится методом сопоставления языкового материала памятника с данными литературного языка и современных удмуртских диалектов. По возможности также затрагиваются вопросы происхождения морфологических маркеров с целью выявления инновационного либо архаичного характера особенностей, отраженных в переводе «Закона Божия» на морфологическом уровне.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате подробного анализа переводного текста «Закона Божия» нам удалось выявить ряд морфологических особенностей, посредством которых язык анализируемого памятника письменности отличается от современного литературного языка и ряда удмуртских диалектов.
Множественное число имен существительных в тексте «Закона Божия» образуется с помощью суффиксов -ос и -ёс , аналогичных литературным, однако в употреблении этих показателей в памятнике мы выявили некоторые особенности.
А. Маркер -ёс присоединяется к основам на согласные: аръ ёс [ arjos ] ʻгодыʼ – литер. аръ ёс , нылъ ёс [ nyljos ] ʻдевочкиʼ – литер. нылъ ёс , оскысь ёс лэ́н [ oskys'joslen ] – литер. оскись ёс лэн и др. В трех случаях данный маркер выступает после основ с финальной гласной7: бече ёс ы́ з [ bečejosyz ] диал. ʻего подругиʼ – литер. бече oс ыз ( бече ʻродственникʼ), молитва ёс [ mol'itvajos ] ʻмолитвыʼ – литер. молитва ос , нылкыш-но ёс ʻженщиныʼ – литер. нылкышно ос . Кроме того, в одной словоформе встречается параллельное употребление маркеров -ос и -ёс 8 : буква ос [ bukvaos ] ~ буква ёс [ bukvajos ] ‘буквы’ - литер. буква ос .
Б. Аффикс -ос присоединяется к основам на гласные: тыло-бурдо о́ с [ ti̮loburdoos ] ʻптицыʼ – литер. тылобурдо ос , чиньы ос ы́ з ʻего пальцыʼ – литер. чиньы ос ыз , книга- ос ты ʻкнигиʼ – литер. книга ос ты и др. Данный маркер употребляется и после основ, оканчивающихся на кириллическую букву i . Однако, учитывая закономерности употребления гласной i в тексте анализируемого памятника, которые были описаны в нашей предыдущей работе [4, 8–9 ], можно предположить, что маркером множественного числа в подобных словоформах выступает аффикс - j'os : адямi 6c ~ адямi ос [ ad'ami jos ] ‘люди’ - литер. адями ос (также адямi ос тЫl [ ad'ami jos ty ] ‘людей’ - литер. адями ос ты / адями ос ыз , адямi ос лэ́н [ ad'ami jos len ] ‘у людей’ - литер. адя-ми ос лэн , адямi ос лэсь [ ad'ami jos lesr] ‘от
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ людейʼ – литер. адями ос лэсь , адямi ос лы́ [ ad'ami jos ly ] ʻлюдямʼ – литер. адями ос лы ), кизилi о́с [ kiz'il'i jos ] ʻзвездыʼ – литер. кизи-ли ос , кi ос сэ́ ~ кi ёс сэ́ [ ki jos se ] ʻего рукиʼ – литер. ки ос сэ , пi ос ты́ [ pi jos ty ] ʻптенцовʼ – литер. пи ос ты / пи ос ыз .
Образование форм множественного числа от имен существительных с финальной гласной основы с помощью маркера -jos встречается и в некоторых современных говорах удмуртского языка. Подобные формы представлены в отдельных говорах периферийно-южного диалекта, в частности в буйско-таныпском и татыш-линском, а также спорадически встречаются в некоторых других южных говорах9. Аналогичное явление отмечается и в говорах северного наречия, а именно: в косинском говоре нижнечепецкого диалекта, где данные формы имеют системный характер, а также спорадически (в основном в речи представителей старшего поколения) в нижнечепецких и среднечепецких говорах (за исключением балезинского)10.
На сегодняшний день существуют различные гипотезы, объясняющие происхождение маркера множественного числа в пермских языках [16, 36 ; 18, 108 ; 36, 152 ; 37, 182–183 и др.]. Однако, несмотря на различные подходы, ученые сходятся во мнении, что в составе показателя множественного числа изначально был согласный j , который «в словах с основами на финальный гласный в результате ослабления позиции й в интервокальном положении преобразовался в -ос »11. Таким образом, употребление показателя -jos для образования форм множественного числа от основ как на согласные, так и на гласные можно отнести к архаичным явлениям, отраженным в памятнике.
При выражении отношения принадлежности единичного объекта единич- ному обладателю в тексте памятника параллельно с общеудмуртскими посессивными формантами с ы-вой огласовкой функционируют и-вые маркеры: аи́з [ajiz] ʻего отецʼ – литер. айыез, Аизлы́ [ajizli̮] ʻего отцуʼ – литер. айыезлы; муми́з ~ му-миз ʻего матьʼ – литер. мумыез, Мумизлэ́н ʻу его материʼ – литер. мумыезлэн, Мумизлэ́сь ʻот его материʼ – литер. мумы-езлэсь, Мумизлы́ ʻего материʼ – литер. му-мыезлы, Мумидлэ́н ʻу твоей материʼ – литер. мумыедлэн.
Подобные формы зафиксированы Л. П. Карповой в северноудмуртских говорах. При этом, как отмечает ученый, такие аффиксы могут употребляться лишь с терминами ближайшего родства: сев. мум-и ʻмама мояʼ; сч., нч. ай-и ʻотец мойʼ; вч. буб-и ʻотец мойʼ и др.12 Своеобразием данных лексем является то, что «все имена в номинативе в непосессивной форме имеют конечную -и , т. е. -и является фактически конечным гласным»13. Функционирование данных форм в говорах северного наречия подтверждается и материалами словаря Ю. Вихманна, ср.: mumi (G, U), mumi (G), mumy (M, J, MU) ʻсамка (животных); матьʼ; mumiqε (G) ʻмоя матьʼ; mumiz ajiz (G) ʻего мать и отецʼ14.
Аккузативные формы множественного числа в современном удмуртском языке образуются с помощью синонимичных маркеров -ты , -ыз . В памятнике при образовании данных форм во всех случаях употребляется аффикс - ты : висисьёс ты́ ʻбольныхʼ – литер. висисьёс ты / висись-ёс ыз , пiос ты́ ʻптенцовʼ – литер. пиос ты / пиос ыз , синтэ́мъёс ты ʻслепыхʼ – литер. синтэмъёс ты / синтэмъёс ыз и др.
По данным диалектологов, вариант -ты представлен в современных северноудмуртских диалектах15, бесермянском наречии [19, 76; 28, 174–176], а также в некото- рых срединных говорах: прикильмезских [8, 105], средневосточных16. В говорах южного наречия и южной части срединных говоров удмуртского языка, напротив, подобные формы образуются с помощью маркера -ыз17.
Оба варианта аккузативных показателей множественного числа учеными возводятся к прапермскому периоду [17, 118 ], поскольку «при литературном суффиксе аккузатива единственного числа -öс ( кöин-öс ʻволкаʼ, кöинъяс-öс ʻволков (акк.)ʼ) в диалектах коми языка зафиксированы и т -вые формы, например, в удорском диалекте: -то / -до ( вдвйэс-тд ~ вбвйэз-дö ʻконейʼ), ижемском -tö / -te ( mijantö , mijante ʻнасʼ, tijantö , tijante ʻвасʼ)»18.
В тексте памятника встречаются формы приблизительного иллатива, оформленные аффиксом -не : Архiерей не́ ~ Архiерей не ʻк архиереюʼ – литер. архиерей доры , Архiерейёс не́ ʻк архиереямʼ – литер. архиерейёс доры ; калыкъёс не́ ʻк народамʼ – литер. калыкъёс доры ; начальникъёс не́ ʻк начальникамʼ – литер. начальникъёс доры . Как видим, подобные формы не характерны для литературного языка, а также абсолютного большинства удмуртских диалектов, в которых они соответствуют сочетаниям существительного в номинативе с послелогом доры ʻк, ко (послелог на вопрос куда? )ʼ.
На данный момент формы вторичных пространственных падежей, в число которых входит приблизительный иллатив, диалектологами отмечены в бесермян-ском наречии [19, 72–74 ; 28, 184 ], в среднечепецком [14, 62 и др.] и нижнечепецком [31, 285–286 ]19 диалектах северного наречия удмуртского языка. Подобные иллативные формы в свое время были зафиксированы в глазовском диалекте и Вихманном, ср.: mumizńε (no) aqizńε (G) ʻк ее матери и ее отцуʼ20.
PHILOLOGY
Элемент -н'- маркеров вторичных пространственных падежей, как отмечают ученые, возник в диалектах удмуртского языка «на базе послелогов с основой дин'- ʻу, около, при, возлеʼ, которая, в свою очередь, возникла от имени существительного дин' ʻоснование, комель; близость, околицаʼ»21. При этом, хотя в коми-пермяцких диалектах также зафиксированы формы вторичных пространственных падежей [3, 138–141 ], по мнению большинства ученых, они возникли в период самостоятельного развития каждого из пермских языков [17, 23 ; 20, 44 ; 23, 103–111 ].
Пролативные формы в памятнике образуются с помощью маркеров ети- ( мѣста ети́ з ʻпо его местуʼ – литер. места етӥ з ), -ыти- ( интӥос ыти́ з ʻпо его местамʼ – литер. интыос тӥ з ). Показатели, представленные в памятнике, в первую очередь, отличаются от соответствующих им литературных вариантов мягким согласным т . Подобные варианты представлены в современных среднечепецких и нижнечепецких говорах северного на-речия22, а также в бесермянском наречии [28, 196–198 ]. Во-вторых, пролативные формы множественного числа в памятнике оформляются показателем -ыти в соответствии с литературным -тӥ . Аналогичный «вокалический» вариант данного маркера встречается в некоторых северноудмуртских говорах и бесермянском наречии удмуртского языка23.
Н. В. Кондратьева отмечает, что в удмуртском языке «пролативный маркер -ети / -эти , -ыти , -ти образовался в общепермский период, и, с точки зрения диахронии, состоит из уральского аблатива на * -tV и финно-угорского латива на * -j » [17, 101 ]. Поэтому уместно предположить, что вариант с мягким согласным т , выявленный нами в памятнике,
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ имеет относительно позднее происхождение.
Аккузативные формы личных местоимений второго лица множественного числа в анализируемом тексте оформляются маркером -ды : милемды́ ʻнасʼ – литер. милемды / милемыз . Подобные формы в целом характерны для говоров северной диалектной зоны, в то время, как в южных говорах они оформляются суффиксом -зы 24. Оба варианта аккузативных форм, по мнению Г. Н. Федюневой, восходят к прапермскому периоду, поскольку широко представлены во всех пермских языках и диалектах [32, 64 ].
Инструментальные формы личных местоимений первого и второго лица единственного числа в памятнике осложнены притяжательными суффиксами: монэны́ м ʻ(со) мноюʼ – литер. монэн / монэным , тонэны́ д ʻ(с) тобойʼ – литер. тонэн / то-нэныд . Схожие расширенные формы личных местоимений представлены в современных северноудмуртских говорах, бесермянском наречии, а также в отдельных срединных говорах25.
Основа усилительно-личных местоимений множественного числа ась- , к которой присоединяются показатели лица и числа, в анализируемом памятнике, в отличие от современного литературного языка и большинства удмуртских диалектов, преобразуется в ач- : ачиме́с ~ ачимес ʻмы самиʼ – литер. асьмеос . Подобные формы с основой ач- в целом характерны для всех современных говоров северного наречия удмуртского языка26.
Отдельные морфологические маркеры, образующие различные формы от глаголов I спряжения, в тексте перевода «Закона Божия» характеризуются ы -вой ини-циалью в соответствии с литературным и -вым вариантом. К таковым относятся:
-
а) суффикс возвратного залога: кыл ыськ е́м ~ кыл ыськ э́м ʻоказывается, послышалосьʼ – литер. кыл ӥськ ем / кыл ӥськ емез , лыдзь ыськ е́ ʻчитаетсяʼ – литер. лыдӟ иськ е , пиль ыськ ыльля́м ʻони,
оказывается, разбилисьʼ – литер. пил иськ- иллям / пил иськ иллямзы и др.;
-
б) показатель глагольных форм настоящего времени первого и второго лица единственного и множественного числа: сёт ысько́ д ʻдаешьʼ – литер. сёт ӥсько д , лыдзь ысько́ м ʻчитаемʼ – литер. лыдӟ исько м / лыдӟ исько мы , ум йы́ бырцк ыськ е ʻне молимсяʼ – литер. ум йыбырск иськ е и др.;
-
в) маркер форм прошедшего неочевидного времени третьего лица множественного числа: оск ыльля́м ʻони, оказывается, поверилиʼ – литер. оск иллям / оск ил-лям зы , тодма льля́м ʻони, оказывается, узналиʼ – литер. тодма ллям / тодма л-лям зы и др.;
-
г) суффикс причастия настоящего времени: оск ы́ сь ʻверующийʼ – литер. оск ись , пыр ысь ʻвходящийʼ – литер. пыр ись , ул ысь ʻживущийʼ – литер. ул ӥсь и др.
Употребление ы -вых вариантов этих показателей в целом характерно для говоров северной диалектной зоны, которая охватывает северное наречие и часть срединных говоров удмуртского языка. При этом принято считать, что ы -овые маркеры более архаичны по сравнению с и -выми вариантами, которые возникли «в результате изменения первичного ы перед палатальными согласными в и »27.
Для текста памятника характерен аналитический способ образования отрицательных форм неочевидного прошедшего времени с помощью препозитивной неизменяемой частицы ӧвӧл ʻне; нетʼ, например: öвöл сiе́м ʻон, оказывается, не съелʼ – литер. сиымтэ / сиымтэез / öвöл сием / öвöл сиемез, öвöл дӥсьтыльля́мзы ʻони, оказывается, не осмелилисьʼ – литер. дӥсьтӥллямтэ / дӥсьтӥллямтэзы / öвöл дӥсьтӥллям / öвöл дӥсьтӥллямзы, öвöл шэдтыльля́м ʻони, оказывается, не нашлиʼ – литер. шедьтӥллямтэ / шедьтӥллямтэзы / öвöл шедьтӥллям / öвöл шедьтӥллямзы и др. Такой тип образования отрицательных форм неочевидного прошедшего времени представлен во всех северноудмуртских диалектах28; для южноудмуртских говоров, напротив, характерен синтетический способ29, а в бе-сермянском наречии, как и в современном литературном языке, встречаются и синтетический, и аналитический способы [19, 123; 28, 232].
В «Законе Божием» в соответствии с литературным маркером деепричастия -тозь функционирует особый вариант -чёзь ( -тчозя- ): луы чёзь ʻдо становленияʼ – литер. луы тозь , луы тчозя́ з ʻдо его становленияʼ – литер. луы тозя з . Подобный вариант встречается и в современных говорах северного наречия, при этом он более характерен для современных среднечепецких и нижнечепецких говоров30. По мнению Кельмакова, вариант -ччоз' ( -чоз' ) возник «в результате контаминации суффиксов -тоз' и -ӵӵож (~ -ччож )»31, в свою очередь -ӵӵож учеными возводится к послелогу ӵож или ӵоже ʻв течениеʼ [24, 306 ]; следовательно, данный маркер по происхождению также имеет инновационный характер.
Заключение
Итак, в тексте перевода «Закона Божия» на удмуртский язык на морфологическом уровне прослеживаются особенности как архаичного, так и инновационного характера. Все они представлены в современных северноудмуртских говорах, что подтверждает нашу гипотезу о диалектной принадлежности перевода исследуемого памятника, согласно которой в его основе лежит диалект, территориально совпадающий сегодня с понинским подговором среднечепецкого диалекта северного наречия удмуртского языка [4, 45 ].
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вч. – верхнечепецкий говор северного наречия удмуртского языка диал. – диалект, диалектный литер. – литературная форма, литературный язык нч. – нижнечепецкий диалект северного наречия удмуртского языка сев. – северное наречие удмуртского языка сч. – среднечепецкий диалект северного наречия удмуртского языка
B – бесермянский диалект
G – глазовский диалект
J – елабужский диалект
M – малмыжский диалект
MU – малмыжско-уржумский диалект U – уфимский диалект
Список литературы Морфологические особенности перевода "Закона Божия" (1912 г.) на удмуртский язык
- Алатырев В. И. Первая научная грамматика 1775 года и развитие удмуртского языкознания // 200 лет удмуртской письменности. Ижевск, 1976. С. 15-36.
- Алатырев В. И. Об авторстве первых чувашской, удмуртской и марийской грамматик // СФУ. 1977. № 3 (XIII). С. 208-215.
- Баталова Р. М. Коми-пермяцкая диалектология: моногр. Москва, 1975. 252 с.
- Безенова М. П., Кондратьева Н. В. К особенностям перевода "Закона Божия" (1912 г.) на удмуртский язык: графика, орфография, фонетика // Урало-алтайские исследования. 2019. № 3 (34). С. 7-52.
- Белова E. Б. Развитие кириллического изображения аффрикат // Первой удмуртской грамматике 225 лет: сб. ст. Ижевск, 2002. С. 98-105.
- Вахрушев В. М. Первая удмуртская грамматика и развитие удмуртской лингвистики // Вопросы удмуртского языкознания. Ижевск, 1975. Вып. 3. С. 3-23.
- Вахрушев В. М. Формирование и развитие удмуртского литературного языка // 200 лет удмуртской письменности. Ижевск, 1976. С. 37-43.
- Загуляева Б. Ш. Прикильмезские говоры удмуртского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1980. 16 с.
- Ившин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии в XVIII - первой половине XIX века. Екатеринбург; Ижевск: УрО РАН, 2010. 236 с.
- Ившин Л. М. Рукописи русско-удмуртских словарей Г. Е. Верещагина // Восточно-европейский научный вестник. 2018. № 2. С. 54-58.
- Ившин Л. М. Еще раз к вопросу о времени публикации первых книг на удмуртском языке // Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13, № 2. С. 216-222.
- Каракулов Б. И. Язык удмуртского перевода Евангелий, изданных в 1847 году // Коренные этносы севера Европейской части России на пороге нового тысячелетия: История, современность, перспективы: материалы науч. конф. Сыктывкар, 2000. С. 467-469.
- Каракулов Б. И. Удмурт литературной кыллэн сюресэз: XVIII-XXI дауръёс (История удмуртского литературного языка: XVIII-XXI века). Ижевск: Удмуртия, 2006. 208 с.
- Карпова Л. Л. Среднечепецкий диалект удмуртского языка: Образцы речи: моногр. Ижевск, 2005. 581 с.
- Кельмаков В. К. Об "орфографии" первопечатного Евангелия от Матфея на "сарапульском наречии" удмуртского языка // Вестник Удмуртского университета. 2007. № 5. С. 17-24.
- Кондратьева Н. В. Словоизменение имени существительного в удмуртском языке (грамматические категории падежа и числа): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Ижевск, 2011. 48 с.
- Кондратьева Н. В. Формирование падежной системы в удмуртском языке. Ижевск: Удм. ун-т, 2011. 154 с.
- Лыткин В. И. К происхождению суффикса множественного числа зjos в удмуртском языке // На удмуртские темы: сб. ст. Москва, 1931. Вып. 2. С. 101-111.
- Люкина Н. М. Фонетико-морфологические особенности языка лекминских и юндинских бесермян. Ижевск: Ин-т компьютер. исслед., 2016. 200 с.
- Максимов С. А. Вторичные пространственные падежи в удмуртском языке: эволюция исследования и терминологии, причины формирования // Урало-алтайские исследования. 2018. № 1 (28). С. 33-48.
- Напольских В. В. Дважды забытый (Д. Г. Мессершмидт - первый исследователь удмуртского языка и культуры) // Арт. 1998. № 4. С. 146-156.
- Напольских В. В. К вопросу о диалектной базе удмуртского словника Ф. И. фон Штраленберга // Linguistica Uralica. 2002. № 1. С. 33-49.
- Некрасова Г. А. Система L-овых падежей в пермских языках: происхождение и семантика. Сыктывкар: Коми науч. центр УрО РАН, 2002. 168 с.
- Серебренников Б. А. Историческая морфология пермских языков. Москва: Изд-во АН СССР, 1963. 391 с.
- Тараканов И. В. О первой научной грамматике удмуртского языка // Записки. Ижевск, 1959. Вып. 19. C. 149-166.
- Тараканов И. В. Первой грамматике удмуртского языка 190 лет // СФУ. 1965. № 3 (I). C. 229-230.
- Тепляшина Т. И. Памятники удмуртской письменности XVIII в. / АН СССР. Ин-т языкознания. Москва, 1965. Вып. 1. 324 с.
- Тепляшина Т. И. Язык бесермян. Москва: Наука, 1970. 288 с.
- Тепляшина Т. И. Об удмуртско-русском словаре Захария Кротова // СФУ. 1971. № 2 (VII). C. 129-139.
- Тепляшина Т. И. Морфологические диалектизмы в словаре Захария Кротова // Вопросы удмуртского языкознания. Ижевск, 1973. Вып. 2. С. 224-226.
- Тепляшина Т. И. О новых удмуртских падежах // Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI: Dissertationes sectionum: Phonologica et morfologica, syntactica et semantic. Turku, 1981. C. 285-292.
- Федюнева Г. В. Первичные местоимения в пермских языках. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 426 с.
- Шутов А. Ф. Первым удмуртским книгам - 150 лет // Linguistica Uralica. 1997. № 3 (XXXIII). C. 215-217.
- Csúcs S. Egy 18. századi votják nyelvemlék // NyK. 1983. № 2 (85). Ol. 311-320.
- Csúcs S. A votják nyelv a 18. században // NyK. 1984. № 1 (86). Ol. 63-80.
- Kövesi M. A permi nyelvek ősi képzői. Budapest: Akademiai Kiado, 1965. 432 old.
- Uotila T. E. Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1933. 446 s.