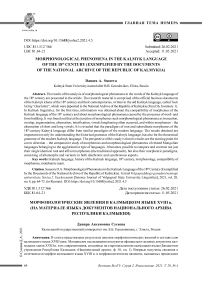Морфонологические явления в калмыцком языке XVIII в. (на материале языка документов Национального архива Республики Калмыкия)
Автор: Сусеева Д.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты анализа морфонологических явлений в составе слов калмыцкого языка XVIII века. Материалом исследования послужили официально-деловые документы калмыцких ханов XVIII в. и их современников, созданные на старописьменном калмыцком языке (Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Национальный архив», ф. 36, оп. 1). Впервые получены сведения о сочетаемости морфем калмыцкого языка XVIII в. и морфонологических явлениях, вызванных процессами словообразования и формообразования. Установлено, что на стыке морфем происходили такие морфонологические явления, как усечение, наложение, наращение, чередование, интерфиксация, удлинение гласных, а внутри морфем – чередование кратких и долгих гласных. Обнаружено, что парадигмы корневых и служебных морфем калмыцкого языка XVIII в. отличаются от таких парадигм современного калмыцкого языка. Перспектива данного исследования видится в том, что его результаты могут стать базой для сопоставительного изучения морфонологических явлений родственных монгольских (агглютинативных) языков: не только единичных идентичных корневых и аффиксальных морфем, но и их морфемных парадигм, состоящих из алломорф и вариантов как в диахроническом, так и синхронном аспекте.
Калмыцкий язык, история калмыцкого языка, XVIII век, морфонология, сочетаемость морфем, морфемный шов.
Короткий адрес: https://sciup.org/149138087
IDR: 149138087 | УДК: 811.512’366 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.4.5
Текст научной статьи Морфонологические явления в калмыцком языке XVIII в. (на материале языка документов Национального архива Республики Калмыкия)
DOI:
Вопросы морфемики монгольских языков до сих пор остаются малоизученными в языкознании. В грамматиках современных монгольских языков такой раздел отсутствует (см., например: [Грамматика калмыцкого языка..., 1983; Орчин цагийн монгол хэл, 2010]). Мы согласны с Д.Ш. Харанутовой, что пока недостаточное внимание уделяется словообразовательной морфемике в новейших работах по словообразованию бурятского языка [Харанутова, 2012]. Одну из первых попыток теоретического осмысления морфемики и морфонологии современного монгольского языка с позиций теоретической лингвистики предпринял С.А. Крылов. Он старается привлечь внимание исследователей современного монгольского языка к решению таких актуальных задач, как выявление природы морфонологии, принципов выделения морфем, сути звуковых чередований, их типологии и т. д. [Крылов, 2004]. Заслуживает также внимания работа Г.А. Дырхеевой и О.С. Ринчинова, которые впервые описали морфемный состав слов на материале языка художественных произведений одного из бурятских писателей [Дырхеева, Ринчинов, 2005].
Первые сведения о морфонологии современного калмыцкого языка появились в связи с изучением словообразовательных гнезд [Су-сеева, 1985]. В настоящее время накоплен большой исторический и современный материал для того, чтобы в калмыцком языкознании морфемику выделить в особую дисциплину наряду с фонологией, лексикологией, сло- вообразованием, морфологией и синтаксисом. Как нам представляется, морфемика калмыцкого языка должна состоять из четырех разделов: учение о морфеме (морфемика в узком смысле); учение о сочетаемости морфем (морфотактика, или, как говорил Ю.С. Маслов, «учение о синтаксисе морфем»); учение о явлениях морфемного шва (морфонология); учение об исторических процессах в морфемном составе слова [Сусеева, 2011, с. 30–60].
Для изучения проблемных вопросов, касающихся морфемного состава слова и структуры производных слов калмыцкого языка, процессов словообразования и формообразования в истории калмыцкого языка и его современном состоянии, актуально описание явлений, возникающих на стыке морфем, однако в работах лингвистов этому вопросу уделяется недостаточно внимания. Цель данной статьи – охарактеризовать типы изменений на морфемном шве с учетом нового языкового материала.
Материал и методы
Явления, сопровождающие соединение морфем, впервые рассматриваются на новом материале, хранящемся в Бюджетном учреждении Республики Калмыкия «Национальный архив». Объект исследования составляют производные слова, зафиксированные в официально-деловых письмах калмыцких ханов XVIII в. и их современников. Эти документы созданы на старописьменном калмыцком языке, называемом тодо бичиг «ясное письмо». Предмет изучения – морфемный состав слов, сочетаемость морфем, структура производных слов и грамматических словоформ.
В работе мы опираемся на теорию морфем, которая отражена в трудах отечественных лингвистов (см.: [Бодуэн де Куртенэ, 1963; Земская, 1973; Кубрякова, Панкрац, 1983; Лопатин, 1977; Лопатин, Улуханов, 1970а; 1970б; Панов, 1968, 1970; Редькин, 1970; Реформатский, 1970а; 1970б; 1970в; Тихонов, 1996; и др.]). Морфема понимается как минимальная значимая единица языка, реализуемая в словах и словоформах в виде морфов. «Совокупность морфов, выступающих в различных словоформах, составляет морфему, если эти морфы являются по отношению друг к другу алломорфами или вариантами» [Лопатин, Улуханов, 1970а, с. 32]. Морф – это минимальная значимая единица слова и словоформы [Лопатин, Улуханов, 1970а, с. 30–31].
Следовательно, термином «морфонология» мы называем один из разделов морфе-мики, который изучает изменения морфем, происходящие в составе слов при словообразовании и формообразовании, и рассматриваем морфонологические явления, сопровождающие как словообразование, так и формообразование.
Морфемы, участвуя в образовании слов и грамматических форм, в определенных позициях часто подвергаются изменениям. Место, где сочетаются морфемы в составе слов и словоформ, в современных работах принято называть либо «границей морфем», либо «морфемным швом», либо «стыком морфем». При установлении морфемных границ в составе слова мы учитываем рекомендации М.В. Панова, который впервые предложил различать три понятия: «морфемный состав слова», «структура производного слова» и «чле-нимость слова» [Панов, 1968].
Границу между морфемами в составе слов обозначаем традиционно графическим знаком «-» (дефис), например: эм - ч «лекарь» < эм «лекарство»; гер - ин «дома» < гер «дом»1.
Результаты и обсуждение
При сочетании морфем наблюдаются изменения, во-первых, на границе морфем, например: зун «лето» > зус-л/х «летовать» (черед.2 н/с); негн «один» > неж^ -ад «по од- ному» (усечение звука н и черед. г/^); во-вторых, внутри сочетающихся морфем, например: нарн [нарън] «солнце» > нарн-а [нарн-а] «солнца», где появляются две морфы одной морфемы нарън- / нарн-.
В XVIII в. служебные морфемы имели твердорядные и мягкорядные алломорфы, ср.:
-
– окончание исход. пад.: - ааса // -оосо // -ээсэ // -еес // -иисэ // -уусу // - YY с р, например:
-
(1) Чагдоржаб эндэ бида мэнду, тэндэ Ай-дархани кинас мэнду бийиза. Йэкэ цаhаан хаан а-аса йоун зангги байини (Сусеева, 2003, с. 78: из письма Чагдоржба, сына хана Аюки, астраханскому воеводе М.И. Чирикову, апрель 1714 г.) – Чагдоржаб здесь со всеми здоров, надеюсь, что и астраханский князь здоров. От русского царя есть какие-либо вести? ( йэкэ цаhаан хан «русский царь» > йэкэ цаhаан хаан-ааса «от русского царя»);
-
(2) Чагдор Жаб егбе. Эндэ бида мэнду, тэн-дэ та мэнду бийиза. Урдаки занги унэн болбо, hурбан тумэн цэриг лаб ирэбэ. Цэригээн мордуул-жи илгэй та. Хаанай баригдагсан элчи эжилийин кеб ее г ею со цэриг дотор оосо орhожи ирибэ (Су-сеева, 2003, с. 76: из письма Чагдоржаба М.И. Чирикову, апрель 1714 г.) – Чагдоржаб послал. Мы здесь все здоровы, надеемся, что и Вы там здоровы. Прежние новости оказались правдой. Действительно, прибыло войско в 3 тысячи человек. Поднимайте свое войско и присылайте. Плененный посланник хана [Аюки] бежал с берега Волги, изнутри войска... ( кеб ее. «берег» > коб ев -г- ев. со «с берега»; дотор «нутро» > дотор-оосо «изнутри»);
– окончание дат. пад.: -ду // -д f // -ту // -т , например:
Алломорфы калмыцкого языка XVIII в. практически полностью совпадают с алломорфами современного монгольского языка, но не совпадают с алломорфами современного калмыцкого языка. Ср.: совр. монг. язык: исход. пад. - аас // - оос // - ээс // - еес [Онорбаян, 2004, х. 212]; калм. язык XVIII в.: - ааса // -оосо // -ээсэ // -ее сe ; совр. калм. язык: - ас // - 9с . Появление таких алломорф было вызвано сингармонизмом. Язык документов XVIII в. показывает, что гласные служебных морфем чаще всего дублировали гласную первого слога корневой морфемы. Ср.:
-
– а в корне и аффиксе: hурбан х аа лh -аар «тремя дорогами»;
-
– э в корне и аффиксе: тэнгг-ээсэ йабук-сан хазанай элчи «с Дона прибывший казанский посланник»;
-
– о в корне и аффиксе: хобон-оосо занг-ги байину «есть ли вести с Кубани»;
-
– e в корне и аффиксе: эжилийин кобш-г- ее. се «с берега Волги».
Окончание дат. пад. в XVIII в. имело четыре алломорфы: - ду // -ду // -ту // -ту. Ср.: у г баса элчийин аман-ду бэй «еще есть устное сообщение у посланника», Сэрийин кел- ду ирэбэ би «я прибыл к озеру Сэри»; айдар-хани байар-ту е гб е «астраханскому боярину вручил», Михалии-т у бичиг егбе «дал письмо Михаилу». В современном калмыцком языке две алломорфы - д // - т .
По морфологической классификации языков мира калмыцкий язык относится к агглютинативным языкам, в них «структура слова прозрачна, т. к. границы морфем отчетливы; на стыках морфем, как правило, не возникает значительных звуковых изменений, а возникающие связаны с явлением т. наз. стяжения и носят единичный характер» [Лингвистический..., 1990, с. 17]. По результатам нашего исследования такая характеристика структуры слова не соответствует калмыцкому слову.
Результаты сравнительного изучения калмыцкого языка XVIII и XX вв. показывают, что в калмыцком языке сформировалась система изменений морфем, связанных со словообразованием и формообразованием, которая порождала модификацию морфем и непрозрачность границ между ними.
В XVIII в. при образовании слов и грамматических форм на морфемных швах возникали разнообразные изменения звуковой оболочки морфем. Нами были обнаружены следующие: сингармонизм, усечение, наложение, наращение, интерфиксация, удлинение гласных, чередование. Их наличие подтверждается и новыми опубликованными документами [Русские переводы..., 2013]. Совокупность явлений на морфемном шве в словах калмыцкого языка XVIII в., как можно уверенно сегодня утверждать, отличается от подобной совокупности в современном калмыцком языке. Охарактеризуем явления, возникающие на морфемном шве (на границе морфем и внутри морфем), в словах калмыцкого языка XVIII века.
Сингармонизм возникал при сочетании основ (корневых морфем) с аффиксами, когда гласные аффиксов «подстраивались» артику-ляционно или акустически под гласные предшествующих основ (корневых морфем). Есть два вида сингармонизма: полный и неполный. Полный сингармонизм характеризуется тем, что в служебных морфемах при сочетании их с основой появляются такие гласные, которые по звучанию полностью совпадают с гласными основы (корня). Например, Хобон-оосо Ха-рам-ааса зангги байину «с Кубани и Крыма есть ли новости?»; Чагдоржаб 0 г-б0 «Чаг-доржаб вручил»; Элчи ц у рум табуула 0 т в р-к0н илгэ «быстро пошли посланника Цюрю-ма с пятью (сопровождающими)». Неполный сингармонизм отличается тем, что гласные служебных морфем соответствуют гласным основы (корня) лишь по рядности. Например, твердорядные: цаhан хаан-ду бичиг «письмо царю», зун Харам-ду одуксан «летом ходивший в Крым»; мягкорядные: манай харо-ул баса F зэжи ирэ-бэ «наш караул тоже, увидев, вернулся», дари хорhолжи али йэкэ бол-хоорни 0гу -кт ун «если есть много, то дайте пороху и свинца».
В языке XVIII в. в результате сингармонизма появилось большое количество алломорф. Так, у форм исход. пад. было 5 частнот-ных алломорф: - ааса // -ээсэ // -иисэ // -оосо // -ее се . Например: кеб ее-г- ев с0 «с берега», дотор- оосо «изнутри», мэск YY г- ээсэ «из Москвы», элч- иисэ «от посланца», улус- ааса «от людей». У форм оруд. пад. было 7 алломорф: -ээр // -аар // -иир // -оор // -ее р // -уур // - YY р. Например: уг- ээр « словом», зарлиh- аар «по закону», куч- иир «силой», ебе с- 0вр «сеном», онгhоц- оор «лодкой», кун YY с-уу рэн «со своей провизией».
Усечение происходило при соединении двух морфем, когда предшествующая морфема в сочетании с последующей морфемой утрачивала один или два конечных звука, как в русском языке [Земская, 1973, с. 137–140]. Усечение связано с понятием основы исходной (или начальной) формы слова. В наших исследованиях исходной формой любого слова мы называем ту , которая является «словарной»: у существительных – форма им. пад.
ед. ч., а у глаголов – инфинитив. Например, нэ-мэшийин нойо- й-ги к у ргэнэй гэнэй «говорит, что сопровождает немецкого князя» (им. пад. нойон «князь» > вин. пад. нойо- й-ги «князя»); цэригээн морд -уул-жи илгэйта «посылайте в поход свое войско» ( мордо- ху «выступать в поход» > морд -уул-ху «отправить в поход» > морд -уул-жи «выступая в поход»).
Наложение наблюдалось, когда начальный звук последующей морфемы накладывался на конечный звук предыдущей морфемы, например: Арбан цаhаан беес аба «взял десять (кусков) белой бязи». В этом предложении форма аба «взял» образована от корневой основы аба- глагола аба -ху «брать; захватить» с помощью окончания прошедшего времени - ба . В данном случае произошло наложение окончания, состоящего из двух звуков – ба , на два конечных звука корневой морфемы - ба - ( а ба- + - ба > а баба > аба ), что и привело к появлению формы аба .
Наращение возникало при соединении морфем, когда в начале последующей морфемы появлялся звук, идентичный конечному звуку предшествующей морфемы. Ср.: Тэн г-г ээсэ йабуксан хазанай элчи «шедший с Дона казанский посланник» ( Тэнг «Дон» > Тэн г - г э-эсэ «с Дона»); йэкэ цаhаан хани зарли гh аар «указом великого государя» ( зарлиг «указ» > зарли г - h аар «указом»). В приведенных контекстах содержатся грамматические формы, при образовании которых имели место случаи наращения падежных окончаний, а именно г-г : тэн г - г ээсэ «с Дона» (исход. пад.), г-h : зар-ли г - h аар «указом» (оруд. пад.).
Интерфиксация обнаруживалась на морфемных швах, когда между сочетающимися морфемами вставлялись «буферные звуки», устраняющие нехарактерные для калмыцкого языка сочетания звуков, например: хотоноосо ирэксэн элчиги уйис р кийин бай-ар hурбан к IT -г-эр к у рг YY лжи «яицкий комендант хивинского посла с тремя людьми проводил»; цаhаан хаани закаа-h-аар «Указом великого государя». В этих примерах представлены грамматические формы, образованные при участии интерфиксов: куугэр «человеком» (форма оруд. пад. от сущ. куун «человек» > куу- г -эр «человеком»); закааhаар «указом» (форма оруд. пад. от сущ. закаа «указ» > закаа- h -ар «указом»). В качестве
«буферных» звуков на морфемных швах выступают чаще всего [г] и [h], которые устраняли нетипичные для калмыцкого языка сочетания звуков типа IT э ( к IT -г- э р «человеком»), ааа ( зак аа -h- а р «указом»). В редких случаях могли выступать и другие звуки, например звук [б]: почит оо - б - о р хойор кYY ил-гэйэ гэжи бэлэй та «вы обещали, что с почтой пошлете двух человек» (форма оруд. пад. от сущ. почитоо «почта» > почитоо- б -ор «почтой»). Интерфиксация в калмыцком языке XVIII в. относится к числу самых продуктивных явлений на морфемном шве, хотя количество интерфиксов было ограниченным.
Удлинение гласных на морфемном шве происходило, когда предшествующая морфема оканчивалась на гласную, а последующая морфема начиналась с такой же гласной. Например, такое явление наблюдается при образовании разделительных деепричастий с помощью суффикса - од // -эд // -ид , ср.: кэкY «делать» > к э - + - э д > к ээ д «сделав», гэкY «сказать» > г э -+- э д > г ээ д «сказав » , болоху «быть» > бол о -+- о д > бол оо д «будучи » , оло-ху «найти» > ол о -+- о д > ол оо д «найдя», ба-риху «поймать» > бар и -+- и д > бар ии д «поймав». В результате переразложения конечный гласный таких основ отошел к суффиксу, что привело к возникновению вариантов суффикса разделительного деепричастия с двумя одинаковыми гласными, которые стали восприниматься как долгие, ср.: бол- оо д «будучи», ол- оо д «найдя», бар- ии д «поймав», ир- ээ д «придя», орh- оо д «сбежав», ор- оо д «войдя» и др. Появилась непрозрачность границ между морфемами, как в словах типа г ээ д «сказав » . В современном же калмыцком языке для образования соответствующих форм разделительных деепричастий используется интерфиксация: кэ- h-э д «сделав», ги- h - 9 д «сказав», что позволяет сохранять прозрачность морфемного состава слов.
Памятники XVIII в. показывают, что две одинаковые гласные были возможны на морфемных швах не только при образовании разделительных деепричастий, но и при образовании других грамматических форм, а также слов. Условия их возникновения стандартны: предшествующая основа оканчивалась на гласный, а служебная морфема начиналась с такой же гласной.
«Алгоритм» появления двух одинаковых гласных на морфемных швах в калмыцком языке XVIII в. ставит под сомнение известную теорию о наличии долгих гласных фонем в калмыцком языке (см., например: [Грамматика калмыцкого языка..., 1983, с. 14–24]). Эта ошибочная теория бытует в калмыцком языкознании, к сожалению, до настоящего времени. Как показывает наш материал, так называемые «долгие» гласные представляют собой продукт соединения морфем, характеризуют морфемный шов и на различение смысла слов и морфем не влияют, а двойное написание гласных в корневых морфемах, как свидетельствует язык изучаемых нами документов XVIII в., – это лишь графическая передача ударных гласных. Так, многие однослоговые существительные в им. пад. ед. ч. писались с одной краткой гласной, а в косвенных падежах с двумя гласными, поскольку на них падало ударение, например: хОн «овца», но х ее.н-дэ «овце», хее-h-эр «овцой»; хан «хан», но х аа н-дэ «хану», х аа н-ар «ханом», х аа н-ур «к хану», х аа н-аса «от хана» и т. д. В старописьменном калмыцком языке ( тодо бичиг ) во всех заимствованных словах из русского языка ударные гласные передавались двойным написанием, ср.: закаа < закон, кантуур < контора, синоод < синод, кинаас < князь, бишнеубка < вишнёвка (вино), боодки < водка, сухайири < сухарь, Ибаан < Иван, Бароу-наш < Воронеж и др. [Хараева, 2014, с. 43–94]. В калмыцком языке XVIII в. была обнаружена значительная группа слов, заимствованных из русского языка, обладавших функциональным тождеством, но различавшихся по написанию (впервые об этом: [Хараева, 2014]). Например, слово губернатор встречается в калмыцких документах XVIII в. в 19 вариантах, ср.: губурнаад // губарнаатор // гувармаа-тар // губермеетер // кубирмаатор // гувур-наатар и др. В большинстве вариантов слова губерн а тор в калмыцком языке ударная гласная передается двойным написанием [Ха-раева, 2014, с. 109].
Чередование появлялось, как правило, в рамках морфологической парадигмы, например: н // й (им. пад. балгасу н «город» > вин. пад. бал-гасу й ги «город»; г // ж ( ни г / эн «один» > ни ж- ээд «по одному»); с // ш (им. пад. оро с «русский» > вин. пад. оро ш- и «русского»); г // h
(им. пад. нуту г «владение» > исх. пад. нуту h- ааса «из владения»); аа // а ( х а н > х аа н-аса «от хана»); FF // F ( з у г «сторона» > з yy г-эсэ «со стороны»).
Заключение
Результаты исследования показали, что на стыке морфем в составе слов калмыцкого языка XVIII в. представлены морфонологические явления разных типов. Они сопровождали словообразовательные и формообразовательные процессы. Фонологические изменения в составе морфем тесно связаны с такими явлениями на морфемном шве, как сингармонизм, чередование, усечение, наращение, наложение, интерфиксация, чередование (кратких и долгих гласных), удлинение гласных, что в совокупности создавало своеобразный «инструмент» для образования алломорф (и вариантов) одной морфемы.
Объем парадигм морфем калмыцкого языка XVIII в. не совпадает с объемом парадигм морфем современного калмыцкого языка. Обнаружено, что калмыцкий язык XVIII в. по морфемной парадигматике более близок современному монгольскому языку, чем современному калмыцкому языку, если сравнивать их идентичные морфемы и их алломорфы, ср.: суффикс многократного причастия: калм. язык XVIII в.: -даг / -дог / -д 9 г / -дэг ; совр. калм. язык: только - дг ; совр. монг. язык: - даг / -дог / -д 9 г / -дэг и т. п.
Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на грамматический строй калмыцкого языка XVIII в., а именно с позиции историко-сравнительного языкознания, когда калмыцкий язык изучается в разных аспектах на материале текстов разных эпох – уникальном письменном наследии, хранящемся в Национальном архиве Республики Калмыкия.
Материал и принципы его описания, представленные в статье, могут послужить базой для изучения и описания исторической грамматики калмыцкого языка диахронического типа. Кроме того, они открывают возможности для развития нового направления в изучении родственных монгольских и тюркских языков: для сравнения и сопоставления родственных языков можно ис- пользовать не только одиночные идентичные корни и аффиксы (традиционный подход), но и их парадигмы, состоящие из алломорф и вариантов морфем, существовавших в языке в определенные эпохи его развития (новый подход).
Список литературы Морфонологические явления в калмыцком языке XVIII в. (на материале языка документов Национального архива Республики Калмыкия)
- Бодуэн де Куртенэ И. А., 1963. Избранные труды по общему языкознанию : в 2 т. М. : Изд-во АН СССР. 2 т.
- Грамматика калмыцкого языка. Фонетика и морфология, 1983. Элиста : Калмыц. кн. изд-во. 336 с.
- Дырхеева Г. А., Ринчинов О. С., 2005. Морфологическая структура слова в бурятском языке: лингвостатистическое описание (на материале художественного текста). Улан-Удэ : Изд-во Бурят. науч. центра СО РАН. 97 с.
- Земская Е. А., 1973. Современный русский язык. Словообразование. М. : Просвещение. 304 с.
- Крылов С. А., 2004. Теоретическая грамматика монгольского языка и смежные вопросы общей лингвистики. В 6 ч. Ч. 1. Морфемика, морфонология, элементы фонологической трансформаторики (в свете общей теории морфологических и морфонологических моделей). М. : Вост. лит. 479 с.
- Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г., 1983. Морфонология в описании языков. М. : Наука. 119 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь, 1990 / под ред. В. Н. Ярцевой. М. : Сов. энцикл. 683 с.
- Лопатин В. В., 1977. Русская словообразовательная морфемика. М. : Наука. 315 с.
- Лопатин В. В., Улуханов И. С., 1970а. Введение в морфемику // Грамматика современного русского литературного языка. М. : Наука. С. 30–36.
- Лопатин В. В., Улуханов И. С., 1970б. Словообразование // Грамматика современного русского литературного языка. М. : Наука.
- С. 37–45.
- Онорбаян Ц., 2004. Орчин цагийн монгол хэлний г з й. Улаанбаатар : Монгол улсын боловсролын их сургууль. 349 х.
- Орчин цагийн монгол хэл, 2010. Улаанбаатар : Монгол улсын боловсролын их сургууль. 446 х.
- Панов М. В., 1968. Изменение членимости слов // Русский язык и советское общество : Социолого-лингвистическое исследование. В 4 кн. Кн. 2. Словообразование современного русского литературного языка. М. : Наука. С. 214–216.
- Панов М. В., 1970. О значении морфологического критерия для фонологии // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии : очерк : хрестоматия. М. : Наука. С. 368–373.
- Редькин В. А., 1970. Альтернации (чередования фонем) // Грамматика современного русского литературного языка. М. : Наука. С. 463–485.
- Реформатский А. А., 1970а. Введение // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии : очерк : хрестоматия. М. : Наука. С. 14–34.
- Реформатский А. А., 1970б. О соотношении фонетики и грамматики (морфологии) // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии : очерк : хрестоматия. М. : Наука. С. 398–421.
- Реформатский А. А., 1970в. Язык, структура и фонология // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии : очерк : хрестоматия. М. : Наука. С. 516–523.
- Русские переводы XVIII века писем калмыцких ханов и их современников: тексты и исследования, 2013 / Д. А. Сусеева [и др.]. Элиста : Калмыц. гос. ун-т. 744 с.
- Сусеева Д. А., 1985. Словообразовательный словарь калмыцкого языка. Элиста : Калмыц. кн. изд-во. 245 с.
- Сусеева Д. А., 2011. Грамматический строй калмыцкого языка XVIII века: морфонология и морфология (на материале писем калмыцких ханов и их современников). Элиста : КИГИ. 199 с.
- Тихонов А. Н., 1996. Русская морфемика // Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. М. : Школа-Пресс. С. 655–701.
- Хараева А. Т., 2014. Русские заимствованные слова в калмыцком языке XVIII века. Элиста : Калмыц. гос. ун-т. 223 с.
- Харанутова Д. Ш., 2012. Словообразование бурятского языка. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. госун-та. 269 с.