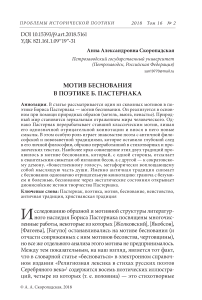Мотив беснования в поэтике Б. Пастернака
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из сквозных мотивов в поэтике Бориса Пастернака - мотив беснования. Он реализуется в основном при помощи природных образов (метель, вьюга, ненастье). Природный мир становится зеркальным отражением мира человеческого. Однако Пастернак перерабатывает ставший классическим мотив, лишая его однозначной отрицательной коннотации и внося в него новые смыслы. В этом особую роль играет знакомство поэта с античной философской и новозаветной традициями, которое оставило глубокий след в его личной философии, образно переработанной в стихотворных и прозаических текстах. Наиболее ярко совмещение этих двух традиций проявилось в мотиве беснования, который, с одной стороны, отсылает к евангельским сюжетам об изгнании бесов, а с другой - к сократовскому демону, «божественному голосу», метафорически воплощающему собой мыслящую часть души. Именно античная традиция снимает с беснования однозначно отрицательную коннотацию: гранича с безумием и болезнью, беснование через экстатические состояния открывает дионисийские истоки творчества Пастернака.
Пастернак, поэтика, мотив, беснование, неистовство, античная традиция, христианская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147226160
IDR: 147226160 | УДК: 821.161.1.09“19”-31 | DOI: 10.15393/j9.art.2018.5161
Текст научной статьи Мотив беснования в поэтике Б. Пастернака
Исследованию образной и мотивной структуры литературного наследия Бориса Пастернака посвящены многочисленные работы, некоторые из которых [Жолковский], [Якобсон], [Фатеева], [Faryno] останавливались на мотиве беснования (и отчасти сопряженных с ним мотивов бесовства, чертовщины), но все же отдельного анализа этого мотива не предпринималось. Между тем показательным, на наш взгляд, является тот факт, что в словарной статье «бесноваться» в электронном справочном издании «Религиозная лексика в стихах русских поэтов Серебряного века»1 содержится восемь поэтических иллюстраций, четыре из которых (т. е. половина) — это стихотворные строки Пастернака. Эпитет «бесноватый» в словаре проиллюстрирован тоже восемь раз, и пять (больше половины!) поэтических примеров — пастернаковские. Эта частотность указывает на значимость мотива беснования в поэтике и философии Пастернака.
С точки зрения христианской церкви, бесноватость или беснование — одержимость человека бесами, демонами. Согласно Евангелию и житиям святых, беснование человека становилось наказанием со стороны Бога за его особо тяжкие грехи. Так, православный мыслитель Игнатий Брянчанинов рассуждал:
«Скорби вразумляющие посылаются от Бога тем, которых Он хочет помиловать, а отверженным посылаются скорби сокрушительные и решительные, наиболее на самом конце жизни, как-то или скоропостижная смерть, или лишение рассудка и тому подобное»2.
Если же обратиться к этимологической составляющей слов «беснование» и «бесноватость», необходимо указать, что это калька с древнегреческого: δαιμονισθείς от гл. δαιμονιζόμαι — «обожествляться» и δαιμονάω «находиться во власти (мстящего) божества, быть одержимым, безумствовать, неистов-ствовать»3. Древнегреческое существительное δαίμων («божество, демон») не несет в себе однозначно отрицательной коннотации. На ранних этапах становления античной религии представления греков о мире выстраивались в систему пандемонизма — весь мир представлялся наполненным демонами, природными духами и душами умерших предков. Четкой границы между ними не определялось. Например, слова δαίμων и θεός могли применяться к одним и тем же сущностям4. Однако с течением времени слово δαίμων стало приобретать дополнительные значения, которые начали развиваться по самостоятельным путям. Так, например, Гесиод говорил о том, что демоны — души умерших людей Золотого века, они отделены от бессмертных богов и смертных людей и выполняют некую посредническую роль между первыми и вторыми5. Начиная с Сократа и Платона формируется мысль, что у каждого человека есть свой демон (у римлян он получил название genius — «гений»), обладающий своим характером, который с рождения и до смерти сопровождает человека, определяя его судьбу.
Именно такое понимание демона находим в письме молодого Пастернака к своему другу К. Локсу от 28 января 1917 г.: «Содеянное — непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решенья своей судьбы и потом отменяешь их, уверенный в возможности их восстановления; годы заигрывания со своим δαιμον’oм — миновали»6.
Знаменитый демон Сократа, описанный в диалогах Платона, послужил основой для рождения теории единого абсолютного божества и противостоящих ему духовных сущностей. «Когда развитая религиозно-философская мысль признала достойным поклонения единственно лишь абсолютно доброе, — отмечал Вл. Соловьев, — весь эллинский пантеон должен был быть исключен из сферы истинного божества; все олимпийцы превращались в демонов, в духов обмана и зла» [Соловьев: 374]. Под влиянием христианства произошла трансформация значения слова δαίμων, которое приобрело однозначно отрицательную смысловую окраску7.
Обращение к древнегреческому тексту Библии показывает, что при очень редком использовании слова δαίμων и производных от него в Ветхом Завете8 оно достаточно часто встречается в Новом Завете. Так, учительные и пророческие новозаветные книги дают теологическую трактовку демонам, возводя их к языческим богам. Наиболее подробно на этом останавливается апостол Павел, в Первом Послании к Коринфянам утверждающий: «ἃ θύουσιν δαιμονίοις καὶ οὐ θεῶι θύουσιν. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ δύνασθε, τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων»9 («…что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» — 1 Кор. 10:20–21). По замечанию П. В. Челышева, «в целом, ап. Павел смотрит на языческих богов (идолов) как на злых духов, как на падших ангелов, демонов, которые отклонили человека от познания истинного Бога и заполнили его сердце вредными, ничтожными, нечистыми и губительными фантазиями и делами» [Челышев: 88]. В Откровении Иоанна демоны также причисляются к языческим богам, воплощенным в виде безмолвных идолов, и злым (πονεροί), нечистым (ἀκάθαρτοι) духам, которые сбивают неокрепшие в вере души с пути к истинному Богу: «καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν» («Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить» — Откр. 9:20). Между тем, все использования производных от δαίμων в исторических книгах Нового Завета связаны с вселением в человека бесов и их изгнанием Христом или его учениками. При этом во всех четырех Евангелиях изгнание бесов ставится в один ряд с излечением тяжелого недуга. Таким образом, новозаветная традиция уравнивает беснование с болезнью душевной (безумием, сумасшествием), являющейся в свою очередь симптомом болезни духовной.
Пастернак обращается к одному из таких исцелений в стихотворении «Магдалина I», объединяя версии о том, что Мария Магдалина была некогда одержима бесами (Лк. 8:2; Мк. 16:9)10 и что она была грешницей / блудницей, раскаявшейся под влиянием Иисуса Христа в своей греховной жизни и уверовавшей в Бога (Лк. 7:37–50). Греческий текст Евангелий («ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει») образует своеобразную этимологическую закольцованность с первой строфой стихотворения, где «демон» в первой строке соотносится с эпитетом «бесноватая»:
«Чуть ночь, мой демон тут как тут, За прошлое мое расплата.
Придут и сердце мне сосут Воспоминания разврата, Когда, раба мужских причуд, Была я дурой бесноватой И улицей был мой приют» (4, 544–545).
Композиционно первая строфа отсылает нас к прошлому лирической героини, наполненному грехом («раба мужских причуд»), неприкаянностью и бесприютностью («улицей был мой приют»). Однако это прошлое мучительно возвращается каждую ночь, захватывая собой настоящее, утверждая свою вневременность («чуть ночь» = постоянно, всегда). Бесы из Магдалины изгнаны, но демон остался. Демон Магдалины (недаром она характеризует его « мой демон») — это определенная персонификация греха, который наполнял собой прошлую жизнь героини, от которого она была избавлена Христом (ср.: «прощаются тебе грехи» — Лк. 7:48, «вера твоя спасла тебя» — Лк. 7:50), но который не устает напоминать о себе, терзая душу Магдалины «воспоминаниями разврата», вызывая у нее образы преисподней («…что значит грех, // И смерть, и ад, и пламень серный» — 4, 545). Эта «дурная бесконечность» [Орлова: 116] прерывается появлением в монологе Магдалины адресата — Иисуса Христа, выступающего в роли Учителя, Спасителя и… вечности:
«О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель, Когда б ночами у стола Меня бы вечность не ждала, Как новый, в сети ремесла Мной завлеченный посетитель» (4, 545).
Присутствие в ночи демона и Христа — поэтическая интерпретация противостояния дьявола и Бога, и полем этого противостояния становится человеческая душа, которая, вырываясь из бездны греха, постигая глубину крестных страданий, обретает высший смысл: «Я до воскресенья дорасту» (4, 546).
В русской православной традиции греческое δαίμων «демон» было заменено на славянское «бес», в язычестве обозначавшее злого бога, а в русском православии, соответственно, — противника Бога, дьявола. Этот славянский корень и стал словообразующим для «беснования» и «бесовства», а если продолжить словообразовательную цепочку, то и для «бешенства». Главным признаком этих состояний является потеря разума (ср.: грубое просторечное «дура» по отношению к бесноватой
Магдалине). В связи с этим семантическое поле расширяется далее: беснование — бешенство — безумие — болезнь . Христианское понимание душевной болезни непременно связано с понятием греха: «Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной повреж-денности человеческой природы. Выделяя в личностной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее организации, святые отцы различали болезни, развившиеся “от естества”, и недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствиями поработивших человека страстей» [Григорьев: 10].
Однако в художественной философии Пастернака эта семантическая цепочка продолжается еще одним смысловым звеном, казалось бы, не имеющим с ней ничего общего: беснование — бешенство — безумие — болезнь — творчество. Ниже мы проследим ход этой трансформации.
Мотив болезни — один из устойчивых в творчестве Пастернака. И зачастую этот мотив имеет значение не болезни телесной, а болезни духовной. Так, в одном из стихотворений цикла «Занятье философией» с характерным названием «Болезни земли» описывается состояние природы перед грозой. Нанизывая один на другой медицинские термины, относящиеся к инфекционным заболеваниям (бациллы, стафилококки, столбняк), Пастернак саму грозу характеризует при помощи симптомов бешенства:
«Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны» (курсив мой. — А. С. ) (1, 133).
Развивается мотив болезни в одноименном цикле:
«Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без устали (курсив мой. — А. С. ). По кровле катятся, бодрят, Бушуют, падают в бесчувствии.
Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает: «Не его ль?»
(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?)» (1, 176).
Здесь навязчивые психические состояния перекликаются с неспокойствием природы, охваченной смерчами, буранами, метелями. Вообще, бешенство, беснование напрямую коррелируются с природными стихиями и прежде всего — с метелью11:
«В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги Ступала нога, в бесноватой округе (курсив мой. — А. С. ), Где и то, как убитые, спят снега <…>».
Это начало стихотворения «Метель», которое исследователи единодушно вписывают в определенный литературный контекст, в качестве основного его источника определяя стихотворение А. С. Пушкина «Бесы». В нем «создан символический образ мира, сбившегося с пути, и воссоздано состояние души, охваченной трагическими страстями. Вьюга символизирует Судьбу, силы, враждебные человеку, управляющие его жизнью. Это иррациональные силы, дьявольские по своей сути» [Скороспелова, Чаглыян: 42].
Интертекстуально пастернаковское стихотворение может быть соотнесено с романом Ф. М. Достоевского «Бесы», романом-пророчеством, образно предсказавшим трагические последствия «революционного беснования» [Бердяев: 74]. Символическое название романа, его эпиграфы, отсылающие к классической русской литературе (стихотворение Пушкина «Бесы») и евангельскому тексту (Евангелие от Луки) указывают на многоуровневость и глубину духовной болезни, поразившей общество. «В романе есть “бесы” и “бесноватые” (одержимые бесами), причем зачастую их роли неразделимы: есть ситуации, в которых “одержимые” сами становятся “бесами”, искушают других. Герои бесятся и беснуются» [Захаров]. Зловещая атмосфера пастернаковского стихотворения создается при помощи нанизывающихся друг на друга мотивов вихревого беснования, заговора, грозящей опасности. Эта атмосфера зеркально отражает нигилистическое беснование, охватившее маленький городок в романе Достоевского.
Кроме того, мотив метели — центральный в поэме А. Блока «Двенадцать», где «в метельную снеговую купель погружаются <…> “двенадцать” героев, отрекающихся от Христа»
[Есаулов: 500]. Христианский подтекст (имеющий фольклорно-балладный характер в стихотворении Пушкина и идейнофилософский — у Достоевского и Блока) в пастернаковском стихотворении определяется в том числе и из чернового варианта названия — «Сочельник»12.
«Метель», написанная в 1915 г., становится претекстом главного литературного детища Пастернака — романа «Доктор Живаго», одна из первых сцен которого содержит описание метели:
«Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались как бесноватые и ложились на дорогу» (4, 7).
Картина беснующейся природы, данная глазами маленького Юры Живаго, становится символическим воплощением катастрофических изменений в истории: природный мир принимает на себя проекцию мира человеческого. Революционные сцены в романе часто своим фоном имеют бушующую, ненастную погоду (например, известная романная сцена чтения Юрием Живаго революционного манифеста во время все нарастающей снежной вьюги). Природа оттеняет возникший в мире людей революционный беспорядок, приводящий к социальному, идеологическому, этическому хаосу. Во многом такая трактовка вписывается в традиции русской литературы и публицистики, обращающихся к философско-художественному осмыслению стихии русской революции через миф о бесовстве (подробнее об этом см.: [Магомедова]).
Однако, по Пастернаку, беснующаяся, бешеная, неистовая природа не является средоточием демонической, бесовской силы. Ее наполняет и ею руководит высший замысел, заложенный в основании бытия13. Постичь этот замысел возможно, вслушиваясь и вглядываясь в окружающий мир, устроенный по законам Творца небесного, и становясь творцом своего мира. Поэтому еще одной темой, пронизанной мотивом беснования, становится тема творчества, обращение к которой прослеживается у Пастернака с самых первых его шагов в поэзии. Поиск своего поэтического «я» начался с опоры на предшествующую поэтическую традицию, у основания которой стояли Пушкин и Лермонтов. Характерно, что этим авторам
Пастернак посвятил свои ранние циклы: эпиграф книги «Сестра моя — жизнь» (1917) отсылает читателя к Лермонтову14, Пушкину же посвящен цикл «Тема с вариациями» (1923):
«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн. Был бешен шквал (курсив мой. — А. С .). Песком сгущенный, Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал Его, и, чем-то возмущенный, Он злобу на себе срывал» (1, 171).
Природная стихия бушующего моря противопоставлена внешнему спокойствию Пушкина, внутри себя переживающего душевные потрясения. Однако умение поэта читать «Евангелья морского дна» (1, 173) дает ему возможность усмирять свои внутренние бури путем воплощения их в поэтические тексты.
Упоенность творческим процессом сродни не безумию, которое предполагает потерю ratio («разум»), а бешенству — экстатическому состоянию15, когда разум заглушается лавиной нахлынувших чувств. Например, в «Замечаниях к переводам из Шекспира» Пастернак отмечал: «Серьезнейшее, нешуточное, трагическое и вещественное искусство Шекспира родилось из ощущения успешности и силы во время этих ранних дурачеств, полных взбалмошной изобретательности, дерзости, предприимчивости и смертельного бешеного риска» (курсив мой. — А. С. ) (5, 86).
Для Пастернака характерно употребление определений «бешеный», «бешено» по отношению к работе, выполняемой в срочном порядке. Приведем примеры подобной характеристики из его переписки:
«Я бешено тут тружусь и половину (42 печатные страницы мелкого английского шрифта) вчерне уже перевел» (9, 335);
«…может быть вчерне докончу первого Генриха, которого бешено гоню, чтобы в январе у меня не получилось прорыва» (9, 382);
«А теперь я с такою же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гетевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман…» (9, 541);
«…до вечера (как когда-то Фауста) перевожу Кальдерона. Но, наверное, только бешеная работа и реальна. Когда я работаю не спеша с прохладцем, мозги мои спят, я ничего не чувствую, не замечаю» (10, 539).
Поэтически эти мысли у раннего Пастернака выражены в стихотворении «Определение творчества» (1919):
«Разметав отвороты рубашки, Волосато, как торс у Бетховена, Накрывает ладонью, как шашки, Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.
И какую-то черную доведь,
И — с тоскою какою-то бешеной, К преставлению света готовит Конноборцем над пешками пешими»16 (1, 133).
Бешенство творчества сопоставимо с природной стихией (буря, метель, вьюга, буран и т. д.). Но творчество, рождаемое внутри поэта, проводит его через душевные терзания к созданию текста. Природная стихия, являясь частью мироздания, содержит в себе в том числе и созидающее начало, сконцентрированное в едином Творце, по воле которого происходит эта «лепка мира». Бог-Творец становится для Пастернака наивысшим образцом поэта17. И здесь несомненна этимологическая связь, возводящая слово «поэт» к греческому ποιητής — с его исходными значениями «мастер, производитель, создатель, творец»18.
При этом «бешеным» может быть не только поэтическое творчество. «Бешенство» характерно для любого творчества, в том числе, например, для актерского:
«Едва допущенный Шопен
Опять не сдержит обещанья
И кончит бешенством взамен (курсив мой. — А. С. )
Баллады самообладанья» («Наступленье зимы» — 2, 235).
Или:
«То же бешенство риска (курсив мой. — А. С. ),
Та же радость и боль
Слили роль и артистку, И артистку и роль.
Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков» («Вакханалия» — 2, 183).
Однако это творческое бешенство имеет в качестве своего первоистока глубинные природные основы. Недаром цитируемое выше стихотворение «Наступленье зимы» после описания пейзажа заканчивается строками о бешенстве музыки Шопена, вторящей тому, что происходит в природе. А образ артистки, слившейся со своей ролью, в «Вакханалии» завершается серией сравнений, относящих нас к природному миру:
«Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века, Как играют овраги, Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино, Как играть без отказа Иногда суждено» (2, 183–184).
Поэма «Вакханалия» своим названием тоже отсылает нас к «беснованию», но уже в античном его проявлении19. Буйство природных стихий и человеческих страстей умиряется в финале поэмы образом спящих ночных цветов:
«Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья, Творившегося час назад. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки. На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего» (2, 187).
Образы этого стихотворения можно интерпретировать так: болезни земли (непогода, вьюга, метель) прошли точно так, как закончилась людская вакханалия (шум премьеры, ночные гости, любовная страсть). Наступившие тишина и чистота содержат в себе исконную, первозданную причинность, которая содержится в природе, но остается непостижимой для человека. По замечанию А. Якобсона, «в “Вакханалии” христианская и вакхическая линии пересекаются в своей естественной общей точке, страстнόй, — смерть и воскресение; а кроме того, вакхическое начало вводит в поэму стрáстную театрально-карнавальную игру, которая завершается очистительной игрой природы — цветов, земли, воды» [Якобсон: 67].
Сближение беснования и творчества в философии искусства / эстетике поэзии Пастернака имеет под собой, на наш взгляд, и античную традицию. В письме от 1 июля 1958 г. Вяч. Вс. Иванову Пастернак писал:
«Мне близок Платоновский круг мысли относительно искусства (и исключение художников из идеального общества, и соображение, что οὐ μαινóμενοι20 не должны переступать порога поэзии), нетерпимость Толстого и даже, как вид запальчивости, иконоборческие варварские замашки писаревщины. Все это мне близко в сильном видоизменении» (10, 349).
Форма μαινόμενοι является формой причастия от глагола μαίνομαι, который, согласно словарю И. Х. Дворецкого, имеет значения «быть в исступлении, бесноваться, буйствовать, неистовствовать, свирепствовать»21. К этому глаголу восходит существительное μανία22 — «сумасшествие, душевная болезнь, безумие»; второе его значение, используемое у Платона, — «исступление, вдохновение, восторженность». Подробно на анализе пастернаковской трактовки этого философского понятия Платона мы останавливались раньше (см.: [Скоропадская]). Здесь же отметим, что в мировоззрение Пастернака органично вписались мысли о необходимости безумия / неистовства поэта: но это безумие не болезнь ума (= малоумие, безумие, сумасшествие), а освобождение разума от оков рациональности, «выход за границы здравого смысла, когда бытие открывается иррациональным, сверхразумным бытием» [Мусин: 71], что можно уподобить дару богов23. Устами Сократа в диалоге «Федр» Платон так объясняет необходимость поэтического исступления: (245а) «Кто же без неистовства (ἄνευ μανίας24), посланного Музами, подходит к порогу творчества (ἐπὶ ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται) в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых (ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἡ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσθη)»25.
Μανία, столь противоречиво выведенная Платоном в его диалогах, в пастернаковской философии искусства стала, с одной стороны, одним из источников устойчивого осознания творчества как болезни, а с другой — непременным условием творческого акта, выходящего за рамки рационального и разумного.
Обращение Пастернака к мотиву беснования являются художественно-философским переплетением двух традиций: античной, видящей в бесновании (от δαίμων) и неистовстве (от μανία) одно из ярких проявлений поэтической природы, и христианской, трактующей беснование как одержимость бесами, духовную болезнь, посланную в виде наказания Богом. Так или иначе, эти традиции сливаются в единое представление о природе творчества как болезни, но болезни, ведущей через страдание / страсть к осознанию первооснов бытия и проекции этого осознания на творческий акт.
«После того как земля поколение это покрыла,
В благостных демонов все превратились они наземельных
«αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ᾽ ἐκάλυψε, — τοὶ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων, οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα»
Дата поступления в редакцию: 02.02.2018
Список литературы Мотив беснования в поэтике Б. Пастернака
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. -М.: Издание К. Солдатенкова, 1865. -Т. 1.-796 с.
- Бердяев Н. Духи русской революции//Из глубины: Сборник статей о русской революции. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -С. 55-89.
- Гаспаров М. Л., Подгаецкая И. Ю. «Сестра моя -жизнь» Бориса Пастернака. Сверка понимания. -М.: РГГУ, 2008. -Вып. 55: Чтения по истории и теории культуры. -192 с.
- Григорьев Г. И. Православная психотерапия -фундаментальная основа духовно ориентированной психотерапии в форме целебного зарока//Вестник психотерапии. -2009. -№ 31. -С. 10-45.
- Гурова Е. П. Образы «божьих людей» в русской прозе 1860-х -1880-х годов: дис. … канд. филол. наук. -Пермь, 2016. -247 с.
- Дубшан Л. Близнец Демона//Звезда. -2000. -№ 9. -С. 177-182.
- Есаулов И. А. Мистика позднего Блока и начало советской литературы//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. -Вып. 7. -С. 491-512 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2686 (05.01.2018).
- Жолковский А. К. Экстатические мотивы Пастернака в свете его личной мифологии (комплекс Иакова/Актеона/Геракла)//Жолковский А. К. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. -М.: Новое литературное обозрение, 2011. -С. 92-115.
- Захаров В. Н. Эмблема романа: Россия и Христос//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 18 т. -М.: Воскресенье, 2004. -Т. 9. -С. 544-555 . -URL: http://www.ippo.ru/ipporu/article/emblema-romana-rossiya-i-hristos-vn-zaharov-o-roma-202613 (05.01.2018).
- Магомедова Д. М. Миф о «бесовстве» в литературе и публицистике 1917-1921 гг.//Collegium. -2017. -№ 1 . -URL: http://reading-hall.ru/publication.php?id=21377#_ftn1 (05.01.2018).
- Мусин М. З. Неистовый у врат поэзии//Соловьевские исследования. -2015. -№ 3 (47). -С. 67-79.
- Орлова Т. Д. Стихи о Магдалине в контексте «Доктора Живаго»//Новый филологический вестник. -2012. -№ 4 (23). -C. 115-124.
- Сальваторе Р. Эволюция поэтического языка Б. Пастернака (на материале стихотворений «Мельницы» и «Бальзак»)//Slověne. -2014. -Т. III. -№ 1. -С. 171-192.
- Скоропадская А. А. Платоновская философская терминология в восприятии Б. Пастернака (на примере терминов μαινόμενοι и μανία)//Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы: материалы II международного научного конгресса. -Симферополь, 2017. -С. 152-156.
- Скороспелова Е. Б., Чаглыян Ш. К. Семантика и функции мотива метели в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2016. -Т. 2. -№ 4. -С. 41-44.
- Смирнов И. П. Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака. -СПб.: СПбГУ, 1995. -192 с.
- Соловьев Вл. Демон//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. -СПб., 1893. -Т. 10. -С. 374-377 . -URL: https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Файл:Encyclopedicheskii_slovar_tom_10.djvu&page=380 (05.01.2018).
- Фатеева Н. А. Пастернак и Пушкин: путь к прозе//Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности. -М.: КомКнига, 2007. -280 с.
- Челышев П. В. Боги и демоны античной мифологии//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2016. -№ 1 (ч. 1) -С. 85-89.
- Шешунова С. В. Национальный образ мира в русской литературе (П. И. Мельников-Печерский, И. С. Шмелев, А. И. Солженицын): автореф. дис. … канд. филол. наук. -Дубна, 2006. -44 с.
- Якобсон А. «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака//Интернет-сайт творческого объединения «Иерусалимская Антология» . -URL: https://www.antho.net/library/yacobson/pdf/bacchanalia.pdf (05.01.2018).
- Faryno J. Поэтика Пастернака («Путевые записки» -«Охранная грамота»). -Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien, 1989. -316 c.