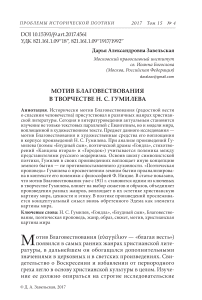Мотив благовествования в творчестве Н. С. Гумилева
Автор: Завельская Дарья Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Исторически мотив Благовествования (радостной вести о спасении человечества) присутствовал в различных жанрах христианской литературы. Сегодня в литературоведении актуальным становится изучение не только текстовых параллелей с Евангелием, но и модели мира, воплощенной в художественном тексте. Предмет данного исследования - мотив Благовествования и художественные средства его воплощения в корпусе произведений Н. С. Гумилева. При анализе творческого наследия Гумилева (поэмы «Блудный сын», поэтической драмы «Гондла», стихотворений «Канцона вторая» и «Городок») учитывается полемика между представителями русского модернизма. Освоив школу символистской поэтики, Гумилев в своих произведениях воплощает иную концепцию земного бытия - не противопоставленного духовности. «Поэтическая проповедь» Гумилева о просветленном земном бытии проанализирована в контексте его полемики с философией Ф. Ницше. В статье показано, что мотив Благовествования уже с 1911 г. становится одним из ключевых в творчестве Гумилева, влияет на выбор сюжетов и образов, объединяет произведения разных жанров, воплощает в их эстетике христианскую картину мира, ценности и этику. В поэтике произведений прослеживается концептуальный смысл вновь обретенного Эдема как элемента картины мира.
Н. с. гумилев, "гондла", "блудный сын", благовествование, поэтическая проповедь, жанр, образ, сюжет, мотив, христианская картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14749042
IDR: 14749042 | УДК: 821.161.1.09“18”, | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4561
Текст научной статьи Мотив благовествования в творчестве Н. С. Гумилева
Мотив Благовествования (εὐαγγέλιον — «благая весть») появился в самых ранних жанрах христианской литературы, в дальнейшем он обогащался дополнительными значениями в церковных и в светских произведениях. Свидетельство о Воскресении и избавлении от первородного греха легло в основу христианской культуры в целом. Изучение ее должно опираться на строгие исследовательские принципы, учитывающие в том числе генезис и семантику жанровой поэтики в культурно-историческом аспекте (см. об этом, напр.: [2, 20]).
В истории русской литературы мотив Благовествования нашел свое выражение и в проповедях, и в агиографии, и в светских летописных текстах, и в знаменитом «Поучении Владимира Мономаха». Параллельно с этим пластом национальной словесности развивалась церковная литургическая поэтика, воспринятая из византийской традиции через церковнославянские тексты.
Воздействие Благой вести на русскую культуру совершенно справедливо отмечено В. Н. Захаровым как универсальное и смыслообразующее: «Благая весть, воспринятая с Крещением Руси, образовала Русскiй Мiръ» [4, 31]. Оно подразумевает и многообразие выразительных средств, и различие авторских подходов.
Современная концепция, жестко поляризующая секулярный и сакральный сегменты культуры, нередко создает ощущение, что церковная и светская эстетика формировались в разных сферах. Однако секуляризация литературы полностью не реализовывалась никогда, даже в период официального государственного богоборчества, и свидетельствует об этом не только присутствие в светских жанрах тех или иных религиозных мотивов, но и сущностная роль евангельского и литургического смысла в организации «внутренней формы» светских текстов. Но как реализовывать подлинно научную, не случайную и не субъективную интерпретацию этой роли?
В процессе преобразований культуры и науки на постсоветском пространстве возник подход, который можно назвать «экзегетическим»: поиск в произведениях светской литературы интертекстовых и мотивных параллелей с вероучительными текстами и догматами и интерпретация произведений на основе данных параллелей. Но может ли подобный метод быть признан правомерным в контексте исторической поэтики, если исследователь выстраивает прямые соответствия между священными текстами в их богословском осмыслении и сущностью образа в светском произведении без учета историко-культурной трансформации и других факторов, влияющих на стилистику и актуальную семантику конкретного текста?
Разумеется, отыскание в светской литературе параллелей со Священным Писанием и святоотеческими трудами необходимо включать в литературоведческий анализ, но остается актуальной задача продемонстрировать место и роль выявленного соответствия в светском художественном произведении. Влияние Евангельского текста на культуру в целом и литературу в частности необходимо изучать не только в плане обнаружения прямых или косвенных текстовых параллелей, но и как первичный содержательный фактор, образующий широкую многовариантность форм и мотивов. Значимое воздействие этого фактора должно прослеживаться в целостной системе конкретного произведения или общей картине мира, присущей конкретной культурной сфере.
«Экзегетический» подход применялся и к творчеству Н. С. Гумилева (см., напр.: [5, 372]), однако необходимо сопоставить вероучительные мотивы со сложным комплексом литературных исканий эпохи в области формы и смысла.
В 1911 году Гумилев совместно с группой единомышленников организовал первый «Цех поэтов», положивший начало направлению акмеизма, более ранний вариант названия которого — «адамизм».
Серьезного внимания заслуживает тот факт, что основным камнем преткновения между символистами и основателем «адамизма» стала его поэма «Блудный сын» (1912), прочитанная еще в общем творческом кругу (см. об этом: [15, 361]).
Можно признать вполне обоснованным мнение В. Шубин-ского о сути расхождения Гумилева с влиятельным символистом Вяч. Ивановым: «Что-то неуловимое вставало между ними — относящееся скорее к человеческой и творческой природе обоих, чем к идеям» [15, 316]. И вот это «неуловимое» мы гипотетически можем соотнести с новым ощущением бытия, которое уже в поэме «Блудный сын» поэт передавал органично и целостно, в том числе через концептуальный смысл поэтики утраченного и вновь обретенного Эдема как элемента картины мира. По мнению О. Пороль, именно библейские мотивы в лирике Гумилева позволяют преодолеть «раздвоенность символизма» и означают «стремление к целостности» [11, 29]. Но в чем была сущность этого единства?
Символисты в своем понимании «вертикали» противопоставляли, вслед за немецкой классической философией и романтизмом, «идеальное» и «реальное» как аналог «небесному» и «земному», что, однако, не совпадало во многих аспектах с христианским вероучением.
Освоив школу символистской поэтики, Гумилев в «Блудном сыне» предлагает иную концепцию «земного»: отец встречает сына щедрыми дарами и пиром, но еще ранее сам отчий дом предстает как плодоносное и возделанное пространство.
Традиционная экзегеза (в том числе и в литургике Недели о блудном сыне) этой притчи подразумевает возвращение к Богу через покаяние; возвращение, в определенном смысле, к утраченному райскому блаженству и единству с Отцом Небесным: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15:20–24). Дары и блага должны в любом случае восприниматься как свидетельство Божьей щедрости. А воспоминание героя поэмы соотносится с мотивом возвращенного рая:
И в горечи сердце находит усладу: Вот сад, но к нему подойти я не смею, Я помню… мне было три года… по саду Я взапуски бегал с лисицей моею.
Я вырос! Мой опыт мне дорого стоит, Томили предчувствия, грызла потеря… Но целое море печали не смоет
Из памяти этого первого зверя1.
В данном случае Евангельский сюжет не просто задан как тема испытаний и покаяния, но развернут в эмоционально и ценностно насыщенных образах: герой вернулся в изобильный и радостный Эдем, где дитя когда-то свободно играло с хищным зверем.
Уже из этого видно, что отличие нового литературного течения от символистов не сводилось лишь к предпочтению «земного» и «вещественного», — сами представители акмеизма не сходились в философской интерпретации природных, натуралистических образов. Библейские мотивы позволяют выявить ценностно-мировоззренческие установки Гумилева в единстве с эстетическими принципами (см. об этом: [14, 118–119]).
Проследим последовательное развитие мотива Благове-ствования в творчестве Гумилева. Определенное смысловое родство с поэмой «Блудный сын» в переживании земного бытия как высшего дара просматривается в одной из его последних пьес — поэтической драме «Гондла» (опубл. 1917). И хотя в пьесе присутствует полярность «дня и ночи», земной и небесной жизни, свойственная романтизму и преобразованная символизмом, — это не основная оппозиция. Основная: «людям-волкам» (викингам) противостоят «люди-лебеди», то есть ирландцы, христиане. Об этом идет речь еще в эпиграфе:
В Исландии <…> столкнулись в IX веке две оригинальные, нам одинаково-чуждые культуры — норманнская и кельтская <…>, встретились скандинавские воины-викинги и ирландские монахи-отшельники, одни вооруженные — мечом и боевым топором, другие — монашеским посохом и священной книгой (2, 52).
Заглавный герой, ирландский королевич Гондла, христианин и песнопевец, чужд всему окружению, в котором вынужден пребывать, — скандинавским язычникам, проповедующим силу и своевластие как «мораль земли». Принятый (формально) викингами в их королевстве как наследник престола, он отвергаем за христианскую веру и «слабость». Гондла действительно горбат и немощен и, на первый взгляд, ничего не может противопоставить «людям-волкам». Однако, отказываясь от поединка после жестокого обмана и оскорбления, он возлагает надежду на пение, проповедующее иную, «лебединую», т. е. христианскую правду:
Лютню, лютню! Исчезнет злословье, Как ночного тумана струи, Лишь польются мои славословья, Лебединые песни мои (2, 67).
Подлинным оружием поединка в понимании героя должна стать поэтическая проповедь , просветляющая сердца и взывающая к иному этическому закону, выводящая противостояние на духовный уровень.
В пьесе герой несколько раз переходит именно к такой поэтической форме, близкой торжественно-просветленному песнопению, первый раз — в диалоге с невестой:
Значит, правда открылась святым, Что за бредами в нашей крови И за миром, за миром земным Есть свободное море любви.
Серафимы стоят у руля Пестропарусных легких ладей, А вдали зеленеет земля В снеговой белизне лебедей.
Сердце слышит, как плещет вода, Сердце бьется, как птица в руке, Там Мария, Морская Звезда, На высоком стоит маяке (2, 59).
Позже, уповая на силу слова, он обращается уже к одному из викингов:
Поднимаются тонкие шпили (Их не ведали наши отцы) — Лебединых сверкающих крылий Устремленные в небо концы. И окажется правдой поверье, Что земля хороша и свята, Что она — золотое преддверье Огнезарного Дома Христа (2, 61–62).
В данных фрагментах отчетливо звучит мотив «святости» земного мира, но лишь в той мере, в которой на земле осуществляется провозвестие новой жизни — «моря любви», данного
Христом. В этом «море» преображенная земля становится «кораблем светлокрылым» (2, 89), а образы моря и морского пути в творчестве Гумилева всегда обладали философско-бытийным смыслом [7, 109].
Ни в одном из этих монологов Гондлы нет ни очевидной параллели, ни косвенной реминисценции, относимой к тексту Евангелия. Благовествованием можно считать саму суть его слов; воспевание бытия в его вновь обретенной одухотворенной цельности для героя и есть — деяние .
Ближе к финалу христианские воины появляются, показывая не меньшую физическую силу, нежели у викингов, при этом обнаруживая и то, чего нет у «людей-волков», — подлинную силу духа: «Лебединые клювы сильны» (2, 84).
Несомненно, противопоставление викингов и христиан в данной пьесе знаменует отход Гумилева от приверженности идеям Ф. Ницше. Некоторые сюжетные элементы отчетливо демонстрируют полемичность относительно книги немецкого мыслителя «Антихрист. Проклятие христианству», которая в русском переводе В. А. Флеровой (1907) была смягченно названа «Антихристианин» (см. об этом: [5])2, хотя оригинальное название именно “Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum”. Противопоставить антихристианской проповеди Ницше нужно было нечто весомое, онтологически насыщенное. Такой насыщенной формой и становятся песнопения королевича Гондлы, разворачивающие картину бытия, преображенного Христом.
Биографический контекст создания пьесы представлен в последней редакции книги В. Шубинского «Зодчий» [15, 464–469], однако сложно сказать, был ли знаком поэт с работами по ирландской гимнографической традиции. Это — тема отдельного исследования, но стоит заметить, что природные образы в этой традиции значат очень много, равно как и сама музыкально-поэтическая форма, начиная с легендарного «Крика оленя» (см. об этом: [9]), известного также под названиями «Мольба оленя» или «Щит св. Патрика».
Стоит упомянуть влияние на образную систему и сюжет «Гондлы» одного из малоизвестных произведений Г. Х. Андерсена — сказки «Дочь болотного царя» (“Dynd-Kongens Datter”, 1858)3. Однако ее героиню Хельгу, воспитанную у викингов, юный христианин приводит к вере, полностью освобождая от двойственности «дня и ночи»4, тогда как в произведении Гумилева Лера (Лаик) подхватывает лишь один из мотивов христианских песнопений своего брата и уплывает в неведомую даль с песней о любви.
В двойственном образе героини обнаруживается не только сложность взаимоотношений Гумилева с Ларисой Рейснер, к которой поэт в письмах обращался Лери (см. об этом: [1, 26–27], [15, 469–470]), но и скрытая полемика с ее мировоззрением, в котором «социалистическая идеология органично сочеталась с ницшеанской этикой и эстетикой» [15, 457].
Но в данном контексте важнее, какую именно альтернативу Гумилев противопоставляет ницшеанской «земной» философии: это не чистая ментальная бесплотность, но та же земля, однако более светлая и целостная. В определенном смысле это спор с самой концепцией христианства в «Антихристе», которая описана как отравляющее радость, бесплодное и безвольное учение (см. об этом: [5; 18, 32, 37, 45, 61, 71, 74, 79, 94]). В поэтической драме Гумилева предстает совершенно иное христианство — не враждебное людям, не уничтожающее силу духа, но дающее силу слабым; не отрекающееся от реальности, но озаряющее ее.
По мнению философа Ф. Степуна, «подлинен тот человек и, прежде всего, только тот художник, для которого истина — не отвлеченно стоящая перед ним идея, а кровь и плоть его духовно-душевно-телесного существа» [13, 681]. Такая подлинность воплощена художественным построением пьесы: все образы и сюжетные линии сходятся в финальном аккорде духовной победы «лебединого» начала над «волчьим». Христианский королевич гибнет, открывая бывшим приверженцам дикой свирепости новый смысл силы — способность к самоотречению и преодолению смерти:
Конунг
Гондла добыл великую славу И великую дал нам печаль.
Снорре
Да, к его костяному составу Подмешала природа и сталь.
Груббе
Я не видел, чтоб так умирали
В час, когда было все торжеством.
Лаге
Наши боги поспорят едва ли
С покоряющим смерть Божеством (2, 90).
Новую ценностную установку поэта подтверждает присутствие сходных мотивов в стихотворении «Канцона вторая», над текстом которого Гумилев работал уже после завершения «Гондлы»: стихотворение вошло в сборник «Костер» (1918) и почти одновременно было опубликовано в «Ниве» (№ 30).
Уже с первых его строк священный смысл земного бытия становится одним из главных мотивов:
Храм Твой, Господи, в небесах, Но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, И на липах птицы поют.
Точно благовест Твой, весна
По веселым идет полям, А весною на крыльях сна Прилетают ангелы к нам (1, 221).
Вся природа здесь — свидетельство о Боге и красоте Его творческой воли. Весна благовествует пасхальное обновление. Помимо этого, в «Канцоне» обнаруживается еще один близкий «Гондле» мотив «праведного пения»:
Если, Господи, это так, Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак, Что я волю понял Твою (1, 221).
Собственно, Благовествование христианского королевича в пьесе выражено таким пением, в котором Гумилев видел свое призвание и следование культурной традиции, нередко отождествляя трагический путь вымышленного героя-поэта с собственной судьбой (см. об этом: [8, 98–99]).
В рукописном варианте «Канцоны» (так называемый «Лондонский альбом» Гумилева), опубликованном затем в сборнике «К синей звезде» (см. об этом: [12, 575]), смысловое родство с пьесой предстает еще отчетливей через образ, связующий небо и землю:
Переброшен к нам светлый мост (1, 527).
В том же сборнике «Костер» было опубликовано стихотворение «Городок», написанное в 1916 году. Оно впервые появилось в альманахе «Солнце России» (1916, № 317 (11), 12 марта) без заглавия и вызвало негодование А. Блока, чьи резкие пометы на полях сборника говорят о принципиальном неприятии поэтизации «мещанского быта» (см. об этом: [3, 382–385]).
Совершенно справедливо Ю. В. Зобнин видит в творчестве Гумилева данного периода отход от хилиастического мировоззрения [5; 368–369, 371]. Мотив Благовествования, дважды повторенный в стихотворении «Городок», соответствует аналогичному мотиву в «Гондле» и «Канцоне второй»:
На базаре всякий люд,
Мужики, цыгане, прохожие, — Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие (1, 211).
И в финальной строфе:
Крест над церковью взнесен,
Символ власти ясной, Отеческой, И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой (1, 211).
Слово Божие Гумилев намеренно встраивает в житейский, «площадной» контекст, акцентируя этим уже явленную Весть, перед которой малое не может быть «низким» и для воплощения которой необходимо служение, а не разрушение.
Стихотворение «Городок» было опубликовано до окончания работы над «Гондлой». Мотив колокольного Благовеста в нем обладает тем же значением, что и в пьесе:
Слышу, слышу, как льется победный, Мерный благовест с диких высот, То не колокол гулкий и медный — Лебединое сердце поет (2, 62).
Только в «Гондле» поет не колокол, а «лебединое», то есть христианское сердце. Оно, по сути, вещает об обновленном мире после искупления. Эта перекличка проясняет смысл «человечьей жизни» в «Городке»: земное залито небесным светом, а не противопоставлено небесам. В невинном, благословенном свыше пространстве жизнь духовна, потому что осмыслена взаимной радостью, плодоносностью простых повседневных дел. В тексте определенно проявляются черты идиллии — в ее полновесном этическом значении, тождественном Эдемскому образу отчего дома и сада в «Блудном сыне» (см. об этом подробнее: [3, 19–22]).
Как верно отметили Л. Г. Кихней и Е. В. Меркель, «реабилитируя быт, акмеисты сформировали новую картину мира, согласно которой все бытие представало как некая органическая целостность, уровни которой тождественны друг другу. И художник, не выходя за пределы чувственной реальности, может постичь законы мироустройства» [6, 135]. Но для русской литературы такая целостность в контексте христианского мировосприятия не становится чем-то принципиально новым. Она просматривается, начиная с древнерусских текстов («Поучение Владимира Мономаха», «Слово на антипасху или в новую неделю по Пасхе» свт. Кирилла Туровского, «Слово о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава» и др.), проходит сквозь различные жанры, включая отечественную агиографию, лирику Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, а позднее — А. К. Толстого, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского.
Можно предположить, что Гумилев стремился «обновить» именно эту традиционную модель мировосприятия новыми поэтическими средствами, акцентируя мотив Благовествова-ния в своем понимании «адамизма».
Проблема следования традиции осложнена тем, что в указанных произведениях Гумилев не стремился подражать средневековому гимну и канцоне или вариантам идиллических жанров, сознательно отказываясь от популярной в то время стилизации, но воспроизводил их внутреннюю семантику / смысловые структуры.
Таким образом, именно мотив Благовествования на определенном этапе творчества Гумилева становится одним из ключевых: влияет на выбор сюжетов и образов, связывает произведения разных жанров, создает христианскую картину мира, воплощает ценности и этику.
Возможно, именно этим объясняется «сладость даже трагической жизни как торжества бытия над небытием» в произведениях Н. Гумилева [7, 101].
С. 31–33.
Дата поступления в редакцию: 20.08.2017
Список литературы Мотив благовествования в творчестве Н. С. Гумилева
- Воробьева Н. Ю. Надменная Лера и печальная Лаик в поэме Н. Гумилева «Гондла»//Русская речь. -2010. -№ 1. -С. 25-27.
- Есаулов И. А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. -Вып. 9. -С. 5-23 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962763.pdf (30.07.2017).
- Завельская Д. А. Мотив культурной памяти и идиллический дискурс у Бунина, Гумилева и Ивана Савина//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: литературоведение, журналистика. -2017. -№ 1. -С. 17-27.
- Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. -Вып. 9. -С. 24-37 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962964.pdf (30.07.2017).
- Зобнин Ю. В. Николай Гумилев. -М.: Вече, 2013. -480 с.
- Кихней Л. Г., Меркель Е. В. Аксиология повседневных вещей в поэтике акмеизма//Вестник Томского государственного университета. Филология. -2015. -№ 1 (33). -С. 129-136.
- Куликова Е. Ю. «Дальние небеса» Николая Гумилева: Поэзия. Проза. Переводы. -Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья», 2015. -272 с.
- Куликова Е. Ю. Тезаурус смерти в лирике Николая Гумилева//Вестник Удмуртского университета. -2016. -Т. 26. -Вып. 6. -С. 94-102.
- Милкова Е. Крещение Ирландии и Ирландская Церковь V-IX веков//Альфа и Омега. -1995. -№ 7 . -URL: http://aliom.orthodoxy.ru/arch/007/007-milk.htm (30.07.2017).
- Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства. -СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1907. -94 с.
- Пороль О. А. Библейский мотив пути в лирике акмеистов//Вестник Оренбургского государственного университета. -2012. -№ 11 (147). -С. 29-32.
- Степанов Е. Е. Поэт на войне. Николай Гумилев, 1914-1918. -М.: Прогресс-Плеяда, 2014. -847 с.
- Степун Ф. А. Сочинения. -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. -1000 с.
- Филатов А. В. Содержание понятия «адамизм» и состав адамического мифа Н. С. Гумилева//Stephanos. -2017. -№ 3 (23). -С. 117-125.
- Шубинский В. Зодчий. Жизнь Николая Гумилева. -М.: АСТ: CORVUS, 2015. -736 с.