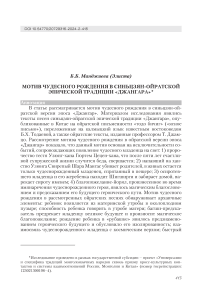Мотив чудесного рождения в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
Автор: Манджиева Б.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив чудесного рождения в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Материалом исследования явились тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные в Китае на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо»), переложенные на калмыцкий язык известным востоковедом Б.Х. Тодаевой, а также ойратские тексты, изданные профессором Т. Джамцо. Рассмотрение мотива чудесного рождения в ойратской версии эпоса «Джангар» показало, что данный мотив основан на исключительности событий, сопровождающих появление чудесного младенца на свет: 1) пророчество тестя Узюнг-хана Гюртем Цецен-хана, что после пяти лет счастливой супружеской жизни случится беда, свершается; 2) напавший на ханство Узюнга Свирепый Шара Мангас убивает родителей, в живых остается только чудеснорожденный младенец, спрятанный в пещере; 3) осиротевшего младенца и его жеребенка находит Шигширги и забирает домой, нарекает сироту именем; 4) благопожелание-йорял, произнесенное во время имянаречения чудеснорожденного героя, явилось магическим благословением и предсказанием его будущего героического пути. Мотив чудесного рождения в рассмотренных ойратских песнях обнаруживает архаичные элементы: ребенок появляется из материнской утробы в околоплодном пузыре; способность ребенка говорить в утробе матери; багши-предсказатель предрекает младенцу великое будущее и произносит магическое благопожелание; рождение ребенка в «рубашке» явилось предзнаменованием героического будущего и обусловило его изолированность; взаимосвязь чудеснорожденного младенца с космическим верхом; быстрый рост; наречение героя богатырским именем; обладание физической силой и магической неуязвимостью. Чудеснорожденный герой архаического эпоса, являющийся хранителем очага и защитником рода-племени, хозяином несметных стад и обширных кочевий своего отца, трансформируется в центральный образ героического эпоса «Джангар», властелина бумбайской страны, утверждающего богатырское имя героическими подвигами.
Эпос «джангар», синьцзян-ойратская версия, калмыцкая версия, текст, песнь, мотив, чудеснорожденный герой, архаические элементы
Короткий адрес: https://sciup.org/149146238
IDR: 149146238 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-415
Текст научной статьи Мотив чудесного рождения в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
Мотив чудесного рождения является одним из широко распространенных мотивов в сказочно-эпической традиции разных народов. Изучению данного мотива посвящены труды отечественных фольклористов: В.Я. Проппа [Пропп 1976], В.М. Жирмунского [Жирмунский 1962; 1974], Е.М. Мелетинского [Мелетинский 2006], С.Ю. Неклюдова [Неклюдов 2004; 2019] и др. В калмыцкой фольклористике изучению мотива чудесного рождения посвящены исследования А.Ш. Кичикова [Кичиков 1992; 1976], Т.Г. Борджановой [Борджанова 1978], Б.Э. Мутляевой [Мутляева 1978; 1982], Е.Э. Хабуновой [Хабунова 2006], Э.Б. Овалова [Овалов 2004; 2008], Б.Б. Манджиевой [Манджиева 2022; 2023], Б.Б. Горяевой [Горяева, Убушиева 2022], Д.В. Убушиевой [Убушиева 2019; 2020], Ц.Б. Селеевой [Селеева 2019; 2020] и др.
В.Я. Пропп, исследуя мотив чудесного рождения в сказках, рассматривает его главнейшие формы: 1) непорочное зачатие; 2) зачатие от плода; 3) рождение от наговоров; 4) рождение от выпитой воды; 5) рождение как возвращение умершего; 6) рождение из печки; 7) рождение от съеденных останков; 8) рождение от рыбы; 9) сделанные люди [Пропп 1976, 205–237].
В.М. Жирмунский отмечает, что мотив чудесного зачатия и рождения героя эпоса в наиболее архаических формах связан с первобытными представлениями о партеногенезисе (т.е. девственном зачатии), восходящими к эпохе материнского рода [Жирмунский 1974, 224].
С.Ю. Неклюдов на основе обобщения опыта описания сюжетной структуры монгольского эпоса В. Хайссига [Heissig 1979], Л. Тудэв [Ту-дэв 1982], А.Ш. Кичикова [Кичиков 1978], Т.Г. Борджановой [Борджано-ва 1978] выделил 29 элементов содержательного состава рассматриваемых традиций. Основываясь на перечне мотивов, предложенном Н.Н. Поппе, В Хайссигом, Ч. Бауденом и другими исследователями, ученый составил каталог мотивов с общими рубриками: «Рождение героя»; «Чудесные помощники, советчики»; «Враги»; «Обман»; «Чудесные свойства и хитрости героя»; «Брачные испытания»; «Женитьба»; «“Симпатический” объект-репрезентант»; «Поражение»; «Сокрытие (~ временное сокрытие) человека / тела»; «Чудесные средства (разные)»; «Спасение, оживление, исцеление»; «Борьба и победа»; «“Дополнительный” конфликт и его разрешение» [Неклюдов 2019, 68–72].
Целью данной статьи является рассмотрение мотива чудесного рождения героя в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». Материалом исследования являются тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные Народным издательством Синьцзяна в Китае в 1986–2000 гг. на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») [Жангар 1986–2000] и переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой [Джангар 2005–2008], ойратские тексты, изданные профессором Т. Джамцо в 2005 г. [Жангар 2005], а также в сравнительно-сопоставительном аспекте привлечены тексты калмыцкой версии «Джангара» [Җаӊһр 1978; Джангар 2020].
В синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» мотив чудесного рождения героя присутствует в таких песнях, как « Үзң Алдр хан өргәлгсн бөлг » («Песнь о женитьбе Узюнга славного хана») [Жангар 2005, 39–56], « Үзӊ алдр хаанд үр заягсн бөлг » («Песнь о том, как Узюнгу славному хану был ниспослан сын») [Жангар 2005, 118–137] и « Җаңһр гидг нериг олсн бөлг » («Песнь о том, как было найдено имя Джангар») [Манджиева 2023, 476–482], « Алдр Җаӊһр хөмөстәдән өнчн хоцргсн бөлг » («Песнь о том, как славный Джангар в двухлетнем возрасте остался сиротой») [Жангар 2005, 79–92].
Мотив чудесного рождения героя в ойратской версии эпоса «Джангар» разработан в архаичном сюжете о поиске суженой и женитьбе героя («Песнь о женитьбе Узюнга славного хана») [Жангар 2005, 39–56]. Согласно сюжету песни, Узюнг-хану приснился сон: «Будто через дымоход солнце вошло, а в дверь вошла луна» [Джангар 2005, 40]. Узюнг-хан, раскрыв сон с помощью Шигширги и его супруги, отправляется в страну Гюртем Цецен-хана, чтобы засватать его дочь и жениться. Однако Гюртем Цецен-хан отказывает Узюнгу выдать свою дочь, мотивируя это тем, что жениху, как претенденту на руку невесты, надо в течение трех лет подготовиться к состязаниям и выиграть их [Джангар 2005, 48]. Получив отказ, Узюнг-хан вступает в противоборство с будущим тестем и, разгромив его войско, отправляет ему свои требования. Хан-отец, предрекая неблагополучие супружеской жизни («пять лет будут счастливы, а на шестой год случится беда»), вынужден был покориться Узюнг-хану и отдать свою дочь [Джангар 2005, 50]. После пяти лет счастливой жизни, когда Узюнг-хан отправляется к кузнецу, чтобы изготовить пять видов оружия для своего будущего сына, его супруга рожает наследника. На шестой год супружества, после рождения сына, пророчество Гюртем Цецен-хана сбывается: на ханство Узюнга нападает Свирепый Шара Мангас. В живых остается только новорожденный младенец, спрятанный в пещере [Джангар 2005, 56].
Исходная ситуация в песне «Үзӊ алдр хаанд үр заягсн бөлг» («Песнь о том, как Узюнгу славному хану был ниспослан сын») [Жангар 2005, 118–137] связана с бездетностью супругов. Согласно сюжету, Узюнг-хан женился на красавице Урме. Прошел год, а Урма так и не забеременела. Прошло два года, а ребенка у них так и не было. Хан и его жена были очень расстроены. Хатун Урма молилась солнцу, но все было тщетно. В конце третьего года Узюнг-хан позвал во дворец старого пастуха, у которого было девятнадцать детей. Хан спросил, в чем секрет его многодетности. Старик сказал, что наблюдает за случкой лошадей, затем возвращается домой, чтобы полежать с женой, в этом и есть секрет его многодетности. Однажды весенним утром, когда табуны лошадей пришли на луг, хан и его супруга отправились понаблюдать за ними и увидели случку жеребца с кобылицей. Хан и хатун прибежали во дворец и в тот же день занимались любовью. Более месяца спустя хатун Урма поняла, что она беременна. Узюнг-хан был очень рад долгожданной вести, он заказал для сына пять видов оружия и украсил свой дворец девятью видами сокровищ [Жангар 2005, 132–133].
Мотив чудесного рождения в рассматриваемых песнях синьцзян-ой-ратской версии «Джангара» имеет общие элементы:
-
1) ребенок появляется из материнской утробы в околоплодном пузыре « көк һолһа » (в толстой оболочке, как прямая кишка животного) [Джангар 2005, 54; Жангар 2005, 134];
-
2) ребенок, находящийся в околоплодном пузыре, разговаривает: « Аав мини яһла? / Ээҗ мини, эс бәәнү чи? / Әрнәд бәәгсн кевтә болв би, / Арһ юн билә? – гиҗ гинә. // Где мой отец? / Мать моя, ты здесь? / Не могу я выбраться, / Как мне быть?» [Джангар 2005,54]; « Сүнэсү хәәрлх аав мини яһла? / Сүнэсү көкүлх ааҗа (ээҗ) мини яһла? // Где мой отец, что защитит мою душу? / Где моя мать, что накормит меня грудью?» (перевод здесь и далее – автора статьи) [Жангар 2005, 134];
-
3) роженица со свитой пытаются вызволить ребенка из околоплодного пузыря: « Ханжалар хадрҗ ядад, / Чинҗүрәр цоолҗ ядад, / Сүкәр чавчхд күрәд, зогсв гинә . // Кинжалом проткнуть не могли, / Острой пикой с короткой рукоятью пробить не смогли, / Хотели топором рубить, остановились, говорят» [Джангар 2005, 54]; « Ханжалар һолһаһнь хадрҗ гинә, / Хадрад, хадрад, хаһрх уга гинә, / Җинҗәләр һолһаһнь киглҗ гинә, / Кигәд, кигәд, цоордг уга гинә. // Кинжалом проткнуть пытались, говорят, / Вонзали, вонзали, не смогли проткнуть, / Острием короткого копья околоплодный пузырь протыкали, / Кололи, кололи, не смогли проколоть, говорят» [Жангар 2005, 134];
-
4) мать ребенка вместе с приближенными обращаются к багши-пред-сказателю, чтобы вызволить новорожденного из оболочки [Джангар 2005, 54; Жангар 2005, 134];
-
5) багши-предсказатель, погадав на голубом камне, ниспосланном Хурмаста-тенгрием, предрекает младенцу великое будущее и произносит благопожелание: « Шораһас нигт буйн кишгтә, / Шорһлҗнас өнр алвт нутгта, / Шар нарн доркиг эзлдг, / Сән эрин шарин хан болтха! // Пыли гуще добродетели счастья преисполненный, / Муравьев многочисленнее подданных имеющий, / Под желтым солнцем всем владеющий, / Пусть станет ханом лучших из мужчин желтой веры!» [Джангар 2005, 55]. Когда багши-предсказатель произнес благопожелание, оболочка раскрылась;
-
6) ребенок родился с чудесными признаками: « Күүкн хар шулмиг дарн / Көл доран ишкгсн, / Эр хар шулмигдарн / Элкн деерни зәмлн суугсн, / Хойр далынни хоорнд / Тосн торлг күрңг улан меңгтә, / <...> Сүр сүлдтә көвүн һарв гинә . // Женщину черную шулму подавляя, / Ногою раздавить готовый, / Мужчину черного шулму подавляя, / На печени, ноги скрестив,
восседающий, / Меж двух лопаток его / Красное родимое пятно выделялось, / <...> Могуществом и величием наделенный мальчик родился, говорят» [Джангар 2005, 55; Жангар 2005, 135];
-
7) рождение ребенка в «рубашке» (прочном околоплодном пузыре) явилось хорошим предзнаменованием его героического будущего, поэтому багши-предсказатель велит содержать младенца в защищенном от посторонних глаз укромном месте: « Хаш цаһан хадын нүүрт / Хәәҗ туң олдш уга / Хармслын гер бәрәд асрв. // На лицевой стороне белой скалы, / В защищенном от посторонних глаз месте, / Неприметное жилище построив, заботой окружили [младенца]» [Джангар 2005, 55; Жангар 2005, 135–136].
В синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» ребенок, находящийся в околоплодном пузыре, умеет разговаривать. Способность ребенка говорить в утробе матери относится к наиболее архаичному мотиву, который также встречается в тюрко-монгольском эпосе. Исследователь Ю.И. Чап-тыкова отмечает, что умение говорить во чреве матери основано на древних мифологических сюжетах, которые известны в хакасском эпосе «Хара Хусхун»: «Сын Алтын-Сарачи уже в утробе слышит горькую скорбь матери об отце его и ее решение уйти из жизни вместе с супругом. Он подает матери голос из утробы, прося ее остаться жить, и обещает ей вернуть отца к жизни» [Чаптыкова 2020, 67]. Архаичный мотив встречается и в якутском олонхо «Могучий Эр Соготох», где герой, будучи в утробе престарелой матери, умеет говорить [Могучий Эр Соготох 1996, 91].
В калмыцкой версии эпоса «Джангар» с необыкновенной стальной пуповиной рождается наследник хана Джангара Шовшур. Отцу, чтобы перерезать пуповину своего младенца, потребовался его чудесный меч, именуемый Билгин Шарбанг . Стальная (бронзовая, каменная) пуповина представляет собой одно из вместилищ «жизни-души» ( әмн-сүмсн ) персонажа. По мнению Е.Э. Хабуновой, «мифологическим следом, показывающим архаические представления древнего человека о мироустройстве, о роли и месте человека в нем, можно считать то, что отпавшей пуповине приписывается небесное происхождение <...>. Предки калмыков считали, что жизнь даруется небом, а его продуцирующая сила проецируется на землю через гору – “пуп земли” “gazrin kiisen”. <...> У монголов существует обычай почитания камня, под которым была оставлена отпавшая пуповина. Калмыки место рождения человека называют “unsn gazr”, т.е. то место, где отпала пуповина» [Хабунова 2006, 37]. В эпической картине мира, в частности в героическом эпосе «Джангар», гора представляется осью и объединяет все вертикальные сферы. Гора маркируется как «пуп земли» и «как изначальный и центральный космический объект» [Неклюдов 1998, 516].
Изолированное содержание чудеснорожденного героя синьцзян-ой-ратской версии «Джангара» в окружении гор, внутри пещеры ассоциируется с материнской утробой и восходит к «древним воззрениям о скалах как священных тотемических центрах и отражает существование культа скал у предков» [Чаптыкова 2020, 67].
В песне « Бамин Улан Хоӊһр Дорӊһин Догшн Хар Маӊһсиг даргсн бөлг » («Песнь о том, как Бамин Алый Хонгор одержал верх над Свирепым
Дорногин Хара Мангасом») синьцзян-ойратской версии эпоса присутствует описание обладания Джангара чудесной силой покровительствующих бодхисатв: « Ора деерни Очрванин гегән илтген, / Маңна деерни Махһалын сид бүрлдгсн, / Зула деернь Зунквин гегән бүрлдгсн... // ‘Над [Джангаром] Ваджрапани сила была сосредоточена, / На лбу его Махакалы сила была сосредоточена, / На темени его Цзонхавы сила была сосредоточена...’» [Джангар 2006, 231]. Джангар родился наделенным силой мифологической птицы Гаруди: « Дал хоорндан Далн ха һарудин / Ид чидл бәрлдн төргсн, / Тиим сүркә күмн гиж келдг билә. / Хойр һарин һууртни / Хөрн хан һару-дин / Ид чидл бүрлдн төргсн, / Тиим сүркә күмн гиж келдг билә. <...> Үйин өнчн Жаңһр гиж келдг билә. // ‘Между двух лопаток его семидесяти ханов Гаруд / С силой он родился, / Таким необыкновенным человеком он был, говорят. / В двух руках его / Двадцати ханов Гаруд / С силой он родился, / Таким необыкновенным человеком он был, говорят. <...> В поколении своем одинокий Джангар, так говорят’» [Джангар 2006, 231].
Мотив изолированности (сокрытие младенца внутри пещеры в окружении гор) и мотив рождения с силой мифологической птицы Гаруди обнаруживают взаимосвязь чудеснорожденного героя с космическим верхом.
В ойратской эпической традиции физическая сила новорожденного младенца проявляется уже в колыбели: « Хар алг текин арснд / Һурвн бүсәр өлгәдәд, / Хан Гаруди көвүн / Һагц өндгн хармндг шиңг / Хан хатн хойр / Һагц көвүһән хәәрлхин / Деедәр хәәрлҗ асрв, гинә. / Тегәд тер көвүнь / Текин арсн өлгәг / Тер өдртән ла / Тиирҗ зад цокв, гинә. / Өдртән торнадг көвүг / Үкрин арснд өлгәдв, гинә. / Өнҗәд бас тер көвүн / Үкрин арсн өлгәһинь / Өдртнь зад тиирв, гинә. <…> / Эцкнь көвүндән бахдад, / Амбан царин ширәр / Арв давхрлн өлгәдв, гинә. // В шкуру черно-пестрого дикого горного козла, / Трижды опоясав, запеленали, / Как хан Гаруди / Единственное яйцо оберегает, / Так и хан, и хатун / Единственного сына / Наилучшим образом оберегали, говорят. / Тем временем их сын / Пеленку из шкуры дикого горного козла / В тот же день, / Ножками брыкнув, разорвал, говорят. / Целыми днями опекаемого мальчика / В шкуру быка запеленали, говорят. / Через день снова этот младенец / Пеленку из шкуры быка, / Ножками брыкнув, разорвал, говорят. <...> / Отец, восторгаясь сыном, / В шкуру вола / В десять слоев запеленал, говорят» [Жангар 2005, 136].
Мотив быстрого роста и обладания богатырской силой младенца широко распространены в эпической традиции тюрко-монгольских народов: в бурятском эпосе «Уландай Мэргэн» имеется следующее описание стремительного роста: «Одну-две ночи ночевал – / В шкуру овцы / Уже не вмещался, / Трое суток прошло – / В шкуру верблюда-трехлетки / Уже не вмещался, / Четыре-пять ночей поночевал – / В шкуру верблюда-четырехлетки / Уже не вмещался» [Кузьмина 2005, 309]; в бурятском сказании «Толэй Мерген»: «Таким большим стал: / Руки его до тороков достают, / Ноги его до стремян достают!..» [Кузьмина 2005, 309]; в героическом эпосе шорцев «Кан Мерген»: «Кан Мерген ночью охраняет, днем бережет, мальчика взращивает; мальчик, одну ночь проспав, годовалым выглядит, две ночи проспав, подобным двухлетнему стал» [Кузьмина 2005, 1137];
в якутском олонхо «Кыыс Дэбилийэ»: «И вот эти дети / через день – годовалыми, / через два – двухлетними, / через три – трехлетними, / через четыре – четырехлетними стали, / а на пятый день, когда пятилетними стали, / зверей из зеленых лесов / в изобилии добывать начали...» [Кыыс Дэбилийэ 1993, 99].
В синьцзян-ойратской версии «Джангара» наречению имени чудеснорожденного героя посвящена песнь « Җаңһр гидг нериг олсн бөлг » («Песнь о том, как было найдено имя Джангар») современного ойратского джан-гарчи Нарса (уроженца аймака Алашань Внутренней Монголии, Китай), которая является продолжением описания последующих событий после нападения Свирепого Шара Мангаса на ханство Узенг-хана, когда в живых остается только чудеснорожденный младенец, спрятанный в пещере скалы. Когда Шигширги, забрав осиротевшего младенца, направился домой, то увидел среди высоких трав двухгодовалого жеребенка рыжей масти, который последовал за своим будущим хозяином. Здесь прослеживается архаический мотив предназначенного герою коня, который рождается в один день вместе со своим хозяином. Найденного по громкому плачу җа младенца Бёке Мёнген Шигширги нарекает именем Җаңһр (Джангар). «Использование первого слога в имени встречается в буддийской астрологии, где каждому из дней лунного календаря соответствуют определенные слоги. При наречении ребенка монахи смотрят день его рождения и указывают первый слог имени» [Манджиева 2023, 476]. Наречение найденного младенца именем сопровождается благопожеланием, произнесенным супругой Шигширги Зандан Куш: « Эзн теңгрәс эркшилтә төрсн, / Хаана теңгрәс хәәртә төрсн, / Хамг нутгта эзн болдг, / Хан нойн Җаңһр гидг болв! // Властью, дарованной Хозяином Неба, родившийся, / Любовью, дарованной Ханом Неба, родившийся, / Властелин всех ханств – / Хан нойон Джангар!» [Манджиева 2023, 482]. Произнесенное благопожелание является «магическим благословением и предсказанием его будущего героического пути» [Жирмунский 1974, 233].
В калмыцком героическом эпосе «Джангар» чудеснорожденный герой совершает подвиги в сказочно юном возрасте: « Һундгч насндан / Һурвн бәәрин ам эвдгсн; / Дөндгч насндан / Дөрвн бәәрин ам эвдгсн, / Дөчн тугин үзүр хуһлгсн; / Тавдгч насндан / Тавн бәәрин ам эвдгсн, / Тәкл алдр хааг / Номдан орулгсн; / Зурһадгч насндан / Зурһан бәәрин ам эвдгсн, / Зула алдр хааг / Номдан орулгсн; / Доладгч насндан / Догшн Ширкин ядгсн / Догшн Шар Маңһс[иг] дөрәцүлгсн, / Долан насн деерән / Догшн Ширкин үүл / Һар деерән авла // В трехлетнем возрасте / В трех сражениях верх он одержал; / В четырехлетнем возрасте / В четырех сражениях верх одержал, / Четыре десятка [вражеских] знамен низверг; / В пятилетнем возрасте / В пяти сражениях верх одержал, / Такила, славного хана, / Вере [и власти] своей подчинил; / В шестилетнем возрасте / В шести сражениях верх одержал, / Зулу, славного хана, / Вере [и власти] своей подчинил; / В семилетнем возрасте, / Кого грозный Ширки не смог одолеть – / Свирепого Шара Мангаса – он покорил. / В том же семилетнем возрасте / Грозного Ширки / Всецело себе подчинил» [Джангар 2020, 56–57].
Столь раннее наступление воинской зрелости В.М. Жирмунский объясняет «общим принципом эпической идеализации народного героя, исключительные воинские качества которого должны проявляться уже в самом детстве» [Жирмунский 1962, 18].
Согласно экспозиции ойратской версии эпоса «Джангар», рождение богатыря занимает инициальную позицию и указывает на взаимосвязь происхождения главного героя Джангара с началом жизни на земле. Чудеснорожденный герой, обладающий чертами первого человека, в младенчестве оставшийся одиноким ( һанц, һагц ) и сиротой ( өнчн ), наделяется чудесной силой покровительствующих бодхисатв (Ваджрапани, Махакалы, Цзонха-вы), сверхъестественными и магическими способностями, характеризующими его избранность: « Заар чолунд зәмлн суугсн ормдни / “Җаңһр Замбутивиг зәкрнәˮ – гиһәд барлгдҗ. / Кецәлдс гиһәд суугсн чолундни: / “Кишг иктә хан болнаˮ – гиһәд барлгдҗ. / Тохалдн босгсн чолундни: / “Төр шаҗиг җоладнаˮ – гиһәд барлгдҗ // ‘На том месте, где, скрестив ноги, сидел: / “Джангар будет правителем Замбутиваˮ – надпись пропечаталась. / На камне, где опирался туловищем: / “Огромным счастьем наделенный ханˮ – надпись пропечаталась. / На камне, что локтем опираясь, вставал: / “Государством и религией править будетˮ – надпись пропечаталась’ [Джангар 2005, 149].
В синьцзян-ойратской эпической традиции, в отличие от калмыцкой версии «Джангара», биографическая циклизация представлена тремя поколениями героев: отцом Джангара – Узюнг-ханом, главным героем –Джанга-ром, его сыном – Хара Джилганом. Разработке важнейших этапов эпической биографии главного героя, его отца и сына посвящены отдельные песни-поэмы, которые обусловлены интересом аудитории слушателей к судьбе Джан-гара в целом. Рассмотрение мотива чудесного рождения в синьцзян-ойрат-ской версии эпоса «Джангар» показывает, что данный мотив основан на исключительности событий, сопровождающих появление чудесного младенца на свет: 1) пророчество тестя Узюнг-хана Гюртем Цецен-хана, что после пяти лет счастливой супружеской жизни случится беда, свершается; 2) напавший на ханство Узюнга Свирепый Шара Мангас убивает родителей, в живых остается только чудеснорожденный младенец, спрятанный в пещере; 3) осиротевшего младенца и его жеребенка находит Шигширги и забирает домой, нарекает сироту именем; 4) благопожелание-йорял, произнесенное во время имянаречения чудеснорожденного героя, явилось магическим благословением и предсказанием его будущего героического пути.
Мотив чудесного рождения в рассмотренных ойратских песнях обнаруживает архаичные элементы: появление ребенка из материнской утробы в околоплодном пузыре; способность ребенка говорить в утробе матери; багши-пред-сказатель предрекает младенцу великое будущее и произносит магическое благопожелание; рождение ребенка в «рубашке» как предзнаменование его героического будущего обусловило его изолированность; взаимосвязь чудеснорожденного героя с космическим верхом; быстрый рост; наречение героя богатырским именем; обладание физической силой и магической неуязвимостью.
Таким образом, чудеснорожденный герой архаического эпоса, являющийся хранителем очага и защитником рода-племени, хозяином несмет- ных стад и обширных кочевий своего отца, трансформируется в центральный образ героического эпоса «Джангар», властелина бумбайской страны, утверждающего богатырское имя героическими подвигами.
Список литературы Мотив чудесного рождения в синьцзян-ойратской эпической традиции "Джангара"
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Элиста: Джангар, 2005-2008.
- Жангар: в 3 т. Дунд улусийин ардын амн зокал урлгиг судлх ниигмлгин шинжангин уйгур эбээн засх оюни сала ниигмлигэс эмкэгдэлвэ. Урумчи: Шин-жийан-гиин ардын кэвлэлин хора, 1986-2000.
- Жангар туульсын шинэ эмхтгэл, орчуулга. Урумчи: Шинжааны их сургуу-лийн хэвлэл, 2005. 1262 х.
- ДацЬр. Хальмг баатрлг дуулвр (25 болгин текст: 1-2 боть) = Джангар. Калмыцкий героический эпос (тексты 25 песен) / сост. А.Ш. Кичиков; ред. Г.И. Михайлов. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978. Т. 1. 441 с.; Т. 2. 417 с.
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл / вступит. ст. Б.Б. Манджиевой; сверка текстов песен с оригиналом на «ясном письме» Б.Б. Горяевой, Б.Б. Манджиевой, Ц.Б. Селеевой; перевод Т.А. Михалевой; примеч., коммент., словарь, указатели Б.Б. Манджиевой, Т.А. Михалевой; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев, С.Ю. Неклюдов, В.В. Куканова. М.: Первая Образцовая типография, Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020. 544 с.
- Кыыс Дэбилийэ. Якутский героический эпос. Новосибирск: Сибирская издательская фирма «Наука», 1993. 330 с.
- Якутский героический эпос. «Могучий Эр Соготох». Новосибирск: Сибирская издательская фирма «Наука», 1996. 440 с.
- Борджанова Т.Г. О жанровой специфике монголо-ойратского героического эпоса // Типологические и художественные особенности «Джангара». Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1978. С. 15-24.
- Горяева Б.Б., Убушиева Д.В. Мотив рождения героя в сказочно-эпической традиции калмыков // Новый филологический вестник. 2022. № 1 (60). С. 385-399.
- Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. М.-Л.: Гослитиздат, 1962. 435 с.
- Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. 723 с.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса «Джангар» (Вопросы исторической поэтики). Элиста: Калмыцкое книжное издательство,1976. 156 с.
- Кичиков А.Ш. О тууль-улигерном эпосе (к постановке вопроса) // Типологические и художественные особенности «Джангара». Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1978. С. 3-6.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М.: Наука; Восточная литература, 1992. 320 с.
- Кузьмина Е.Н. Указатель типических мест героического эпоса сибирских народов (алтайцев, бурят, хакасов, шорцев, тувинцев, якутов): экспериментальное издание. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. 1383 с.
- Манджиева Б.Б. Текстология и поэтика Малодербетовского цикла эпоса «Джангар» в контексте эпической традиции калмыков. Элиста: КалмНЦ РАН, 2022. 416 с.
- Манджиева Б.Б. Сюжетосложение эпической песни-поэмы «ДацЬр гидг нериг олсн белг» («Песнь о том, как было найдено имя Джангар») ойратского джангарчи Нарса // Монголоведение. 2023. Т. 15. № 3. С. 470-487.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2006. 407 с.
- Мутляева Б.Э. Мотив чудесного рождения героя в тюрко-монгольском героическом и сказочном эпосе // Типологические и художественные особенности «Джангара». Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1978. С. 51-62.
- Мутляева Б.Э. Мотив чудесного рождения героя в сказочном эпосе монгольских народов и в калмыцком эпосе «Джангар» // Эпическая поэзия монгольских народов. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1982. С. 43-49.
- Неклюдов С.Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996). М.: Индрик, 2004. С. 236-247.
- Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии: Эпос книжный и устный. М.: Индрик, 2019. 590 с.
- Неклюдов С.Ю. Сумеру // Мифология. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 516.
- Овалов Э.Б. Типология мотивов и сюжетов в эпосе монгольских народов. Элиста: Джангар, 2004. 183 с.
- Овалов Э.Б. Сюжетно-стилевые традиции в эпосе «Джангар» и его версиях. Элиста: Джангар, 2008. 304 с.
- Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Мотив чудесного рождения. М.: Наука, 1976. 325 с.
- Пухов И.В. Якутский героический эпос олонхо. М.: АН СССР, 1962. 256 с.
- Селеева Ц.Б. Функционально-семантические особенности типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии «Джангара» // Новый филологический вестник. 2019. № 4 (51). С. 53-64.
- Селеева Ц.Б. Средства создания эпического образа синьцзян-ойратской версии «Джангара» // Oriental Stadies. 2020. Т. 13. № 5. С. 1465-1475.
- Тудэв Л. Национальное и интернациональное в монгольской литературе. М.: Наука, 1982. 253 с.
- Убушиева Д.В. Элементы архаики в эпосе «Джангар» // Новый филологический вестник. 2019. № 4 (51). С. 73-81.
- Убушиева Д.В. Мотив одиночества в ранних циклах эпоса «Джангар» // Вестник Северо-Восточного федерального университета им М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2020. № 3 (19). С. 55-62.
- Хабунова Е.Э. Героический эпос «Джангар»: поэтические константы богатырского жизненного цикла (сравнительное изучение национальных версий). Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2006. 256 с.
- Чаптыкова Ю.И. Мотив чудесного рождения героя в хакасском героическом эпосе // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. 2020. № 2 (18). С. 64-73.
- Heissig W. Die mongolischen Heldenepen - Struktur und Motive. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1979. 38 p.