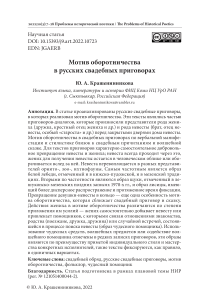Мотив оборотничества в русских свадебных приговорах
Автор: Крашенинникова Юлия Андреевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Настоящая работа посвящена анализу русских свадебных приговоров, в которых реализуется мотив оборотничества. Эти тексты являются частью приговоров-диалогов, которые произносили представители рода жениха (дружка, крестный отец жениха, и др.) и рода невесты (брат, отец невесты, особый «староста», и др.) перед закрытыми дверями дома невесты. Мотив оборотничества в свадебных приговорах по вербальной манифестации и стилистике близок к свадебным причитаниям и волшебной сказке. Для текстов приговоров характерно самостоятельное добровольное превращение невесты и жениха; невеста всегда проходит через это, жених для получения невесты остается в человеческом облике или оборачивается вслед за ней. Невеста перевоплощается в разных представителей орнито-, зоо-, ихтиофауны. Самым частотным является образ белой лебеди , отмеченный и в кижско-пудожской, и в мезенской традициях. Вторыми по частотности являются образ щуки , отмеченный в лешуконско-мезенских поздних записях 1970-х гг., и образ лисицы , имеющий более дисперсное распространение и протяженное время фиксации. Превращение девушки-невесты в кольцо - еще одна особенность мотива оборотничества, которая сближает свадебный приговор и сказку. Действия жениха в мотиве оборотничества различаются по степени приложения им усилий - жених самостоятельно добывает невесту или привлекает помощников, с которыми связан отношениями знакомства, родства (поезжане, дружка, дружина) или случайной встречей, состоявшейся в процессе поиска невесты (образ чудесного помощника). Использование чудесных средств, волшебных предметов или содействие волшебного помощника отмечены в редких записях приговоров, эти образы являются по преимуществу приметой индивидуального стиля и мастерства конкретных исполнителей, такие тексты фиксируются, как правило, в единичных вариантах.
Свадебный обряд, русские свадебные приговоры, мотив оборотничества, фольклор, чудесный помощник
Короткий адрес: https://sciup.org/147238878
IDR: 147238878 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10723
Текст научной статьи Мотив оборотничества в русских свадебных приговорах
Б. Н. Путилов в одной из своих работ «О процессе жанро-образования в фольклоре» предлагал «гипотетическую схему» [Путилов, 1980: 197] образования и эволюции фольклорных жанров, согласно которой формирование классических жанров русского фольклора шло двумя способами: трансформационным и нетрансформационным. При первом новые жанры возникают в результате трансформации, носившей качественный характер, они формируются на основе «старых систем», которые, дав жизнь вновь возникшим жанрам, разрушаются и поглощаются последними (например, героический эпос, календарная поэзия, разновидности сказки, причитания по умершим и др.) [Путилов, 1980: 197, 198]. При втором способе появление новых жанров и разновидностей обусловлено реальными народными жизненными потребностями; возникающие фольклорные жанры формируются на основе творческого переосмысления и художественной переработки живой традиции, на позднем этапе их развития очевидна структурообразующая роль литературы (разновидности лирической песни, частушка, исторические песни, некоторые виды свадебного фольклора и др.) [Путилов, 1980: 198]. Нахождение тех структурно-жанровых элементов, которые «привлекались» в процессе формирования, обнаружение связующих нитей Б. Н. Путилов видел важным «для понимания сущности структурных и образно-стилевых особенностей нового жанра» [Путилов, 1980: 198]1.
Мы придерживаемся той точки зрения, что жанр свадебных приговоров развивался по второму, нетрансформационному, пути, в котором приговоры были достаточно активной «принимающей», «заимствующей» стороной. Наблюдения, сделанные нами ранее2, позволили заключить, что этот жанр в русской фольклорной традиции активно развивался не только за счет своих внутренних ресурсов, но и за счет других фольклорных жанров. В текстах приговоров обнаруживаются «отсылки» к заговорно-заклинательной поэзии, причитаниям, обрядовой лирике, духовным стихам, паремиям, рождественским обрядовым песням, сказочному эпосу; отметим и включение таких маргинальных текстов, как предписания, благопожелания, запреты и проч. Можно говорить и о влиянии книжной традиции, литературной «составляющей» фольклорных текстов (евангельские повествования, апокрифы, лубочные картинки, демократическая сатира, авторская поэзия и др.). Обращение к другим жанрам в части использования мотивов, художественно-стилистического репертуара, включение фрагментов фольклорных и литературных произведений (в разной степени переработанных и переосмысленных исполнителями свадебных приговоров) — случаи многочисленные, но по большей части являются индивидуальной импровизацией создателей свадебных приговоров. Однако совокупно они демонстрируют системные механизмы развития жанра.
Тексты, реализующие мотив оборотничества3, являются частью приговоров-диалогов, которые произносили представители рода жениха (дружка, крестный отец жениха и др.) и рода невесты (брат, отец невесты, особый «староста» и др.) перед закрытыми дверями дома невесты. В связи с этим мотивом нас интересует несколько вопросов: благодаря каким жанрам этот мотив получил развитие в репертуаре свадебных дружек, особенности вербальной манифестации мотива обо-ротничества в приговорах в сравнении с другими жанрами.
География
В известном нам корпусе текстов приговоры с интересующим нас мотивом отмечены в севернорусских записях (18 единиц, 1877–1926 гг. и 1975–1989 гг.), по большей части из Олонецкой и Архангельской губерний. На территории Олонецкой губернии «центр» распространения мотива приходится на кижско-пудожскую традицию4 (Агренева-Славянская: 42–45; Колобов: 60–62, Пудожский у.; Лысанов: 87, Заонежье; Малиновский: 36, Каргопольский у.; Кузнецова, Логинов: 150, 158, дд. Речка, Демеховская, Заонежье, 1983, 1986; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Лл. 4–4 об. Д. Кургеницы, Заонежье, 1926; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Лл. 8 об. — 10. Д. Речка, Заонежье, 1926; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Лл. 26 об. — 27 об. Д. Потанев-щина, Заонежье, 1926). В архангельских записях преобладают тексты из мезенской традиции (Ефименко: 130–131, г. Онега Архангельской губ.; АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешуконский р-н, 1976; АКФ МГУ: ФЭ-10:5606; 10:5776-5778, Мезенский р-н, 1975; ИРЛИ. Кол. 318F, 1003.01; 1014.04, Мезенский р-н, 1975; СыктГУ: 0720-35, с. Несь НАО, 1989). Единичные записи зафиксированы на вологодской (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 131. Л. 4. Вологодский у., 1899), новгородской (РГО. Р. 24. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 112. Боровичский у., 1895; Воронов: 20, Устюжинский у.) территориях.
Содержание
В общих чертах, весьма схематично, «опуская эпические подробности» [Миллер], реализацию мотива оборотничества в олонецких приговорах-диалогах описал О. Ф. Миллер в рецензии на издание «Описание русской крестьянской свадьбы…», подготовленное О. Х. Агреневой-Славянской ( Агрене-ва-Славянская ):
«Староста: Повернулась она белой горностаюшкой.
Дружка: Стрелял он (жених. — Ю. К .) там по горностаюшке. Староста: Повернулась она уловной рыбинькой.
Дружка: Брал он плутьевки серебряны Изловить да белу рыбиньку.
Староста: Обернулась она лебедушкой.
Дружка: Снаряжался он скорешенько Изловить хотел лебедь белую...
Как пустил в нее он тятевкой, Пустил пух ея по поднебесью, Ранил в сердце свою лебедь белую» [Миллер].
В приведенном выше фрагменте оборотничество — односторонний процесс: невеста наделена способностью самостоятельно превращаться в «белую горностаюшку», «уловную рыбиньку», «лебедушку», а жених, оставаясь в своем облике, добывает ее с помощью подручных средств. Между тем анализ попавших в поле нашего зрения записей показывает существенно больший разброс вариантов в плане: 1) перечня существ и предметов, в которые оборачиваются главные персонажи ритуала; 2) мест локализации после превращения (для невесты); 3) способов добычи невесты (для жениха).
Так, в перечне существ и предметов, в которые превращается невеста, выделяется несколько групп:
1. Птицы:
• лебедь (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 27. Д. По-таневщина, Заонежье, 1926); вар.: белая лебедь, 11 зап.5 (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 131. Л. 4. Вологодский у. Вологодской губ., 1899; АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 5. Д. Речка, Заонежье, 1926; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 4. Д. Кургеницы, Заонежье, 1926; ИРЛИ. Кол. 318F, 1014.04. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; СыктГУ: 0720-35, с. Несь НАО, 1989; Ефименко: 131, г. Онега Архангельской губ.; Лыса-нов: 87, Олонецкой губ.; Кузнецова, Логинов: 150, 158, дд. Речка, Демеховская, Заонежье, 1983, 1986); лебедушка (Агренева-Славянская: 44, Олонецкая губ.);
• утка; вар: водоплавная серая утушка (Колобов: 60, Пудожский у. Олонецкой губ.); сизая утка (из ответной реплики дружки6) (Воронов: 20, Устюжинский у. Новгородской губ.);
• птица (ИРЛИ. Кол. 318F, 1003.01. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975);
• белая колпица (Агренева-Славянская: 42, Олонецкая губ.);
• белая Кал-птица (Колобов: 61, Пудожский у. Олонецкой губ.);
• метафорическое описание, подразумевающее, что невеста превратилась в птицу: «[княгиня] пухом запушилась / И пером оперилась» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 4. Д. Речка, Заонежье, 1926).
2. Звери:
• лисица, 3 зап. (РГО. Р. 24. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 112. Боровичский у. Новгородской губ., 1895; СыктГУ: 0720-35, с. Несь НАО, 1989; Ефименко: 130, г. Онега Архангельской губ.); вар. красная лисица (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 39 об. Д. Потаневщина, Заонежье, 1926);
• куница (АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешуконский р-н Архангельской обл., 1976); вар.: черная куница (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 39 об. Д. Потаневщина, Заонежье, 1926);
• белая горностаюшка (Агренева-Славянская: 43, Олонецкая губ.);
• черная мышка (Малиновский: 36, Каргопольский у. Олонецкой губ.);
• зайка (Малиновский: 36, Каргопольский у. Олонецкой губ.).
3. Рыбы:
• щука, 4 зап. (АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешуконский р-н Архангельской обл., 1976; АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, ФЭ-10:5776-5778; ИРЛИ. Кол. 318F, 1003.01. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975); вар.: серая щука (ИРЛИ. Кол. 318F, 1014.04. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975);
• рыбка-плотичка (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 131. Л. 4. Вологодский у. Вологодской губ., 1899);
• уловная рыбинька (Агренева-Славянская: 43, Олонецкая губ.).
4. Неодушевленные предметы:
-
• кольцо (АКФ МГУ: ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975)7.
Превратившись, невеста отправляется в / за:
1. Вода:
-
• море . [Улетела / ушла / укрылась / понеслась за / в / к] синее море , 9 зап. (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 131. Л. 4. Вологодский у. Вологодской губ., 1899; ИРЛИ. Кол. 318F, 1003.01. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешу-конский р-н Архангельской обл., 1976; АКФ МГУ: ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; Агренева-Сла-вянская : 42, 43, 44, Олонецкая губ.; Воронов : 20, Устюжинский у. Новгородской губ.; Колобов : 60, Пудожский у. Олонецкой губ.; Кузнецова, Логинов : 158, д. Демеховская, Заонежье, 1986);
-
• [ушла] «в сине озеро глубокое » (ИРЛИ. Кол. 318F, 1003.01. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975);
-
• [ушла] «в воду » (АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975).
-
2. Поле . [Ушла / убежала / улетела в / за] чисто/-ое поле , 5 зап. (АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешуконский р-н Архангельской обл., 1976; СыктГУ: 0720-35, с. Несь НАО, 1989; Агренева-Сла-вянская : 42, 43, Олонецкая губ.; Ефименко : 130, г. Онега Архангельской губ.).
-
3. Небо . [Улетела по] поднебесью , 4 зап. (АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; ИРЛИ. Кол. 318F, 1014.04. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; Сык тГУ: 0720-35, с. Несь НАО, 1989).
-
4. Лес . [Укатилась / убежала в] лес (вар.: дремучи леса ), 2 зап. (РГО. Р. 24. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 112. Боровичский у. Новгородской губ., 1895; Агренева-Славянская : 43, Олонецкая губ.).
-
5. Острова . [Поплыла / понеслася на] (рыболовные, Соловецкие) острова , 2 зап. ( Агренева-Славянская : 43, 44, Олонецкая губ.).
-
6. Горы ( высокие ), 2 зап. (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 5. Д. Речка, Заонежье, 1926; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 39 об. Д. Потаневщина, Заонежье, 1926).
-
7. Крыльцо («укатилась под крыльцо»), 2 зап. (АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975).
Таким образом, невеста может превращаться в разных представителей орнито-, зоо-, ихтиофауны. Самым частотным является образ белой лебеди , отмеченный и в кижско-пудожской, и в мезенской традициях. Вторыми по частотности являются образ щуки , встречающийся в лешуконско-мезенских поздних записях 1970-х гг., и образ лисицы , имеющий более дисперсное распространение (Заонежье, Новгородская губ., НАО Архангельской обл.) и протяженное время фиксации (1895–1989). «Звериная» группа образов является самой многочисленной, хотя в ней по большей части представлены единичные номинации: куница, горностаюшка, мышка, зайка . В «птичьей» группе, помимо образа лебеди, отмечены утка, колпица, Кал-птица . В двух записях (Пинега, 1915, Мезень, 1975) невеста превращается в кольцо .
В перечне мест, куда отправляется превратившаяся невеста, называются локусы, имеющие в народных представлениях статус удаленного, опасного, чужого пространства: лес, море, озеро, поле, небо, острова, горы. Эти топографические объекты весьма редко обладают уточняющими характеристиками, однако море, как правило, синее, поле — чистое, горы — высокие. При описании места локации превратившейся невесты используется сказочная стилистика. Так, в заонежских записях встречается сказочное формульное выражение тридевять земель, которое в сказке означает ‘сказочную удаленность местонахождения’ [Разумова: 128] и маркирует удаленное пространство как чужое, потенциально опасное8. Эта формула дополняется сочетаниями, дублирующими и усиливающими ее значение: «[Невеста = белая лебедь] Улетела за тридеведь полей / И за тридеведь морей, / И за тридеведь земель» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 4. Д. Кургеницы, Заонежье, 1926). Значение чужести, опасности «тридевятиземельного» пространства усиливается с помощью адъективов темный, дикий: «[Кал-птица] Улетела за тридевять земель, / За тридевять морей, / За тёмные леса, / За дикие острова, / Повила тёплые гнезда / И там поживает» (Колобов: 61, Пудожский у. Олонецкой губ.). Обращение к заговорной стилистике зафиксировано в единственной записи 1975 г. из Мезенского района Архангельской области. В ней констатируется, что невеста, превратившись в щуку, прячется от жениха в море под «серым камнем»: [невеста] «обернулась серой щукой, ушла в море под серóй камень» (ИРЛИ. Кол. 318F, 1014.04, 1975). Цитированный фрагмент коррелирует с заговорами в части изображения места ссылки (например, болезни) как недосягаемого, недо-ступного9.
Описание процесса перемещения невесты встречается редко. Как правило, приговор повествует о ее действиях как совершенных (она «улетела», «ушла», «уплыла», «убежала»). В единичных текстах описание передвижения превратившейся невесты может охватывать вертикальный и горизонтальный уровни за счет использования наречных форм высоко, далеко («Поднялась высоко / И улетела далёко: / За леса и за реки / Улетела навеки» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 27. Д. По-таневщина, Заонежье, 1926)) или актуализируется только вертикальная структура организации пространства за счет называния «верхних» и «нижних» точек (горы — норы) («Улетела за синее море, / Улетела за высокие горы, / И спряталась в большие норы» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 5. Д. Речка, Заонежье, 1926)).
Конечная точка пребывания невесты может быть никак не обозначена, в нашем корпусе таких текстов два: «улетела» ( Кузнецова, Логинов : 150, д. Речка, Заонежье, 1983), «[лебедь] уплыла, незнамо куда и неведомо почто» ( Лысанов : 87, Олонецкой губ.). Последняя реплика отсылает к волшебной сказке на сюжет «чудесная задача» ( СУС 465А Красавица-жена («Пойди туда, не знаю куда») ) .
Повествования о женихе и его ответных действиях отличаются по степени приложения усилий им самим и сопровождающей его дружины; с этой позиции тексты, связанные с женихом, делятся на две большие группы. В текстах первой группы разворачивается линия самостоятельного добывания женихом невесты. В них повествование развивается в двух вариантах. В первом — жених остается в человеческом облике и использует подручные средства для добывания невесты, в частности, различные виды оружия, охотничьи и рыболовные средства, т. е. предметы, которые относятся к мужской сфере деятельности. Эти «мужские» предметы являются маркерами исключительности жениха, некоторые из них он производит или создает сам (лук, «вострые стрелы», «лодочка сосновая», «невода шелковые»): «Сшил он (князь молодой. — Ю. К .) лодочку сосновую, / Клал веселушки дубовые, / Навязал он невода шелковые, / Брал он плутьевки серебряны, / Пово-лочки позолочены / И поехал в синее он морюшко…» ( Агре-нева-Славянская : 44, Олонецкая губ.; вар.: Там же: 45, та же губ.; Лысанов : 87, та же губ.). В единичной записи жених прибегает к помощи магического средства:
«…У нашего князя молодого
Есть порошок — Не один вершок, Кладывает прямо до кишок И сбивает весь пушок» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 4. Д. Речка, Заонежье, 1926).
Во втором варианте жених вслед за невестой совершает превращение. В пяти записях разворачивается описание процесса «парного оборотничества» (терм. Т. В. Краюшкиной [Краюшкина: 219]: жених превращается в ясного сокола , 3 зап. (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 131. Л. 4. Вологодский у. Вологодской губ., 1899; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 5. Д. Речка, За-онежье, 1926; Агренева-Славянская : 42, Олонецкая губ.), окуня (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 131. Л. 4. Вологодский у. Вологодской губ., 1899), охотничка ( Агренева-Славянская : 43, Олонецкая губ.). В двух поздних по времени фиксации записях тема превращения жениха реализуется имплицитно, в текстах нет четкого указания на то, кем он оборачивается, но жених улетает за невестой-лебедью и возвращает ее домой: «… полетел вслед белой лебеди / Он еси княжну молодую разыскал и домой доставил» ( Кузнецова, Логинов : 150, д. Речка, Заонежье, 1983); «…[князь] бело умывшись, чисто одевшись, / за ней слетал (должна быть) она дома» ( Кузнецова, Логинов : 158, д. Демеховская, Заонежье, 1986).
Способностью к изменению облика обладает и помощник жениха — свадебный дружка, правда, такой вариант превращения мы зафиксировали только в одной записи. В заонежском приговоре дружка, чтобы найти невесту, превращается в волка, и это описание отсылает к сказке «Царевич и серый волк» ( СУС 550), в которой младший брат с помощью волка добывает жар-птицу, коня и царевну: «Повернусь я (дружка. — Ю. К .) волком, / Перепрыгну через горы, / Забегу я в эти норы, / Куницу разыщу, / Все равно не упущу» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 39 об. Д. Потаневщина, Заонежье, 1926).
В текстах второй группы жених при добывании невесты обращается за помощью. Все действия, связанные с поиском и поимкой превратившейся невесты, осуществляют помощники жениха — члены свадебного поезда или животные (принадлежность свадебному поезду или жениху подчеркивается с помощью сочетаний «[есть] у нас», [есть] у жениха):
-
1. охотник/-ки , 3 зап. (вар.: хорошие охотнички ) (РГО. Р. 24. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 112. Боровичский у. Новгородской губ., 1895; АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешуконский р-н Архангельской обл., 1976).
-
2. рыбаки (вар.: готовые, толковы ) / рыболовы (вар.: лучше того, удальцы ), 4 зап. (АКФ МГУ: ФЭ-11:1854, Лешуконский р-н Архангельской обл., 1976; АКФ МГУ: ФЭ-10:5606, ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; Воронов : 20, Устюжинский у. Новгородской губ.).
-
3. дружка / вар.: дружки ловки (АКФ МГУ: ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975; РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 39 об. Д. Потаневщина, Заонежье, 1926).
-
4. ходоки-мужики: «Каки-то у нас ходоки были, мужики , ей искали, нашли» (ИРЛИ. Кол. 318F, 1003.01. Мезенский р-н Архангельской обл., 1975).
-
5. животные: соколы (ясные соколы, два ясных сокола) , которые «летают, рыскают» ( Ефименко : 130, г. Онега Архангельской губ., СыктГУ: 0720-35, с. Несь НАО Архангельской обл., 1989), псы (вар.: огромных два пса, псы кормленые ), которые «бегают, рыскают» ( Ефименко : 130, г. Онега Архангельской губ.; СыктГУ: 0720-35, с. Несь НАО, 1989), черный кот ( Малиновский : 36, Каргопольский у. Олонецкой губ.), кони крылатые, собаки зубатые (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 4 об. Д. Кургеницы, Заонежье, 1926).
-
6. дружина храбрая , 3 зап., образ дружины не детализирован ( Колобов : 60, 61, Пудожский у. Олонецкой губ.; АКФ МГУ: ФЭ-10:5776-5778, Мезенский р-н Архангельской обл., 1975). В одной записи собирательный образ дружины конкретизирован за счет весьма обширного перечня помощников жениха (людей, животных), а также подручных средств, предназначенных для поиска невесты:
«У нашего князя молодого Служашших есть очень много: Есть соколы ясные, Орлы быстрыя, Звери скакучие
И птицы летучии, Лодки моторныи, Другие подводные, Гончи собаки, Конны казаки, Ясно вам дáны,
Есть аэропланы. На них летчики, Хорошие ответчики, Много расскажут. Если пойдут, Так кнегиню найдут» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Лл. 27–27 об. Д. Потаневщина, Заонежье, 1926).
В единственной записи этой группы текстов жених получает помощь от незнакомца, т. е. волшебного помощника: в процессе поиска невесты жених встречает незнакомого ему охотника и спрашивает последнего о том, не видел ли он кого-нибудь. Тот отвечает:
«— Видал лебедь, Лебедь летела И на море села, На море села И жемчуг рассыпала.
[Жених обращается к незнакомцу:] — Как не мошь ли
Моему горю помочь.
Как бы жемчуг мне собрать И княгыню увидать.
Охотник говорит : — Это не горе, Что пала в море, Поймаем щучку И соберем жемчуг в кучку.
Жемчуг собрали и княгыню поймали. Княгыню привели — Князю в руки отдали»
(РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 46. Лл. 5–6.
Д. Речка, Заонежье, 1926).
Собственно, так схематично выглядит мотив оборотниче-ства в свадебных приговорах. А. К. Мореева, описывая «установившиеся мотивы и поэтические шаблоны в великорусских приговорах дружек» [Мореева: 112], отмечает, что мотив обо-ротничества является «общим как сказочному, так и былевому эпосу» [Мореева: 118]. Исследователь, оперируя экспедиционными материалами О. Э. Озаровской из Пинежского у. Архангельской губ. 1915 г. и записями экспедиционной группы Ю. М. Соколова из Заонежья 1926 г. (хранятся в архиве РГАЛИ, опубл.: Бахтина: 97–150), отмечает, что в архангельском тексте девица оборачивается «то лебедью, то куницей, наконец, монахиней, рассыпается в скатный жемчуг и в заключение, обернувшись в кольцо, укатывается под крыльцо», в олонецком приговоре фигурируют лебедь, куница, рассыпавшийся жемчуг [Мореева: 118]. Вместе с тем мотив превращения девушки в «белую лебедь» А. К. Мореева называет наиболее устойчивым [Мореева: 118]. Как видим, исследователем не учтены тексты, в которых жених также проходит через превращение для получения невесты.
Близкие по реализации повествования с мотивом обо-ротничества обнаруживаются в севернорусских свадебных причитаниях, южнокарельском эпосе и волшебной сказке. Согласно В. П. Кузнецовой, мотив оборотничества в севернорусских свадебных причитаниях и волшебной сказке содержательно близки. В причитаниях мотив имеет «то же содержание, что и в волшебной сказке о бегстве и погоне с последовательными превращениями, где царевна обращается в звезду, уточку, в животных» [Кузнецова: 86]. В причитаниях «воля-красота» невесты или сама невеста оборачиваются белой лебедью, серой уткой, рыбой, жених — селезнем, соколом [Кузнецова: 82–86]. Из эпических жанров уместно упомянуть южнокарельскую версию сюжетной темы «Сватовство в Хийтоле» с поочередным превращением невесты и жениха. Согласно этой версии, невеста на пути в дом жениха пытается уйти от него, превращаясь в разных животных. Жених настигает убегающую от него невесту, превращаясь в антагониста тому зверьку, в которого превращается девушка: [невеста] «уйду ершом под камень» — [жених] «щукой за тобою кинусь», [невеста] «улечу звездой на небо» — [жених] «ястребом я брошусь следом» [Киуру: 12–13]. В южнокарельских эпических песнях на сюжет «Ильмойллине сватается» девушка-невеста оборачивается ершом и бросается в море, а жених — щукой или налимом ( Карельские эпические песни : 329, 337, 343).
В волшебной сказке варианты реализации мотива весьма подробно анализирует Т. В. Краюшкина, которая выделяет разновидности сказочного оборотничества с точки зрения добровольности / невольности, активности / пассивности персонажа. Пассивность подразумевает помощь другого персонажа, при самостоятельном оборотничестве герой сам изменяет свой облик [Краюшкина: 185]; последнее характерно для свадебных приговоров. Т. В. Краюшкина рассматривает разные способы изменения облика (удар о землю или кнутом, кувырок, падение, с помощью волшебных предметов и проч.), полное и гибридное (преобразуются некоторые части тела) оборотничество, поэтапное и мгновенное, гендерное (с изменением пола персонажа), превращение человека в животное, птицу, земноводное, насекомое, неодушевленный предмет и, наконец, сохранение внешнего облика при изменении материала, т. е. окаменение [Краюшкина: 218–219].
Из всего многообразия вариантов реализации сказочного оборотничества нас интересует сюжет СУС 325 Хитрая наука с превращением двух персонажей — ученика, который пытается убежать, и колдуна, его учителя, предпринимающего усилия, чтобы поймать своего ученика. «Ученик и колдун принимают образы сокола и ястреба, окуня и щуки. Затем ученик превращается в кольцо…» [Краюшкина: 204]. Ученик и колдун оборачиваются в парные персонажи, процесс их превращения — поочередный, при котором изменение облика одного персонажа влечет за собой изменение облика другого [Краюшкина: 219], а «превращение живого в неодушевленный предмет» [Краюшкина: 205] — еще одна особенность этого сказочного сюжета. Исследователи отмечают, что сказки типа «Хитрая наука» были распространены среди карел и русских (Карельские эпические песни: 488). В частности, в южнокарельской традиции зафиксирована эпическая песня «Ильмойллине отправляет сына учиться» — единичный случай эпизации сказки с этим сюжетом (Карельские эпические песни: 488). В финальном эпизоде этой песни повествуется о нескольких превращениях сына кузнеца Ильмойллине, Дёхора, и его учителя. Так, Дёхор превращается в ерша и забирается под камень в лесном озере, а учитель, пытаясь его догнать, оборачивается щукой; затем ерш оборачивается в кольцо, его забирает себе царская служанка, которая в итоге спасает сына кузнеца и выходит за него замуж (Карельские эпические песни: 249–250).
В таком изложении реализация мотива оборотничества в русских свадебных приговорах, пожалуй, более приближена к волшебной сказке; в сказке перечень образов оборотней более обширный в сравнении с причитаниями, а выполнение трудной задачи персонажем при добывании девушки, соперничество двух персонажей являются постоянным структурным элементом сказки. Возможно, саму идею и многообразие вариантов (образов превращений) приговор, как и причитание, заимствует у волшебной сказки, однако дальнейшее развитие мотива в речитативных и говорных жанрах свадьбы могло происходить параллельно10. По вербальной манифестации и стилистике тексты приговоров более близки свадебным причитаниям, и это объяснимо с точки зрения понимания свадебного обряда как сюжетного текста, как «диалога двух партий» [Левинтон: 213]. Оба текста свадьбы (мужской представлен в основном приговорами дружек, женский — причитаниями и песнями) «различаются не только “формально”, но и “содержательно”: системой оценок, “точкой зрения”, отдельными мотивами. При этом оба текста — это тексты “на одном языке”» [Левинтон: 213]. В свадебном обряде наиболее важные темы (прощание с девичеством, «получение» невесты, мотив вражды двух родов и др.) многократно «проговариваются» участниками ритуала в различных свадебных жанрах. В. П. Кузнецова говорит о повторении одних и тех же мотивов в текстах севернорусских свадебных причитаний и песен, объясняя это их определенным родством, а иногда и одина ковой функци ей в обряде [Кузнецова: 142]11.
Таким образом, мотив оборотничества в свадебных приговорах в художественно-стилистическом плане близок свадебным причитаниям и волшебной сказке. Вслед за В. П. Кузнецовой предполагаем, что этот мотив был заимствован свадебными жанрами из сказки, однако, по нашим наблюдениям, дальнейшее его развитие в речитативных и говорных жанрах свадьбы могло происходить параллельно и с разной степенью разработанности и детальности. Для текстов приговоров характерно самостоятельное добровольное превращение невесты и жениха, невеста всегда проходит через превращение или серию превращений, жених для получения невесты остается в человеческом облике или превращается вслед за ней (парное оборотничество). Невеста обращается в разных представителей орнито-, зоо-, ихтиофауны. Самым частотным является образ белой лебеди, отмеченный и в кижско-пудожской, и в мезенской традициях. Вторые по частотности — образ щуки, отмеченный в лешуконско-мезенских поздних записях 1970-х гг., и образ лисицы, имеющий более дисперсное распространение и протяженное время фиксации. Превращение девушки-невесты в кольцо — еще одна особенность мотива оборотничества, которая сближает приговор молодцы, / Под иноземное царство, / Могучее и славное государство. / В том царстве стены белокаменны, / И ворота все заперты» (РНБ. Q XVII. № 230. Л. 37 об. Устюжский у. Вологодской губ., 1841): в нем обыгрываются главные сюжетные темы приговоров «дальней дороги за невестой — дороги в иной мир», «трудность получения невесты». Тема выбора поезжанами правильного пути отмечена в записи из Череповецкого у.: «[нам] наказали: вправо отвернешь — в сыр бор уйдешь, а влево повернешь — ни пути, ни дороги там нет. Поезжайте прямо…» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 815. Л. 9. Череповецкий у. Новгородской губ., 1899). Описание продвижения дружки в дом невесты отсылает к сказочным текстам с изображением передвижения чудесного помощника: «на всех ногах несется не зверь мохнатый, а это дружка богатый: полем идет — потрескивает, деревней идет — поглядывает, оградой идет — посвистывает, по лесенке идет — постукивает, за скобу берется — потенькивает, а в избу взойдет — посматривает…» (РГАЛИ. Ф. 342. Оп. 2. Ед. хр. 78. Л. 39 об. Ветлужский у. Костромской губ., 1902). Жених, отыскивая превращенную в белую лебедь невесту, встает рано утром, умывается, обувает волшебную обувь — сапоги-скороходы: «Поутру вставал ранёшенько, / Умывался белёшенько, / Утирался чистёшенько, / Обувал сапоги-скороходы, / Отыскивал коней крылатых, / Собак зубатых…» (РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 4 об. Д. Кургеницы, Заонежье, 1926).
и сказку. Действия жениха в мотиве оборотничества различаются по степени приложения им усилий — жених самостоятельно добывает невесту или привлекает помощников, с которыми связан отношениями знакомства, родства (поезжане, дружка, дружина) или случайной встречей, состоявшейся в процессе поиска невесты (образ чудесного помощника). Использование чудесных средств, волшебных предметов или содействие волшебного помощника встречаются в записях приговоров редко, эти образы являются по преимуществу приметой индивидуального стиля и мастерства конкретных исполнителей, такие тексты записаны, как правило, в единичных вариантах.
Сокращения
АКФ МГУ — архив кафедры фольклора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
ИРЛИ — фольклорный архив Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
НАО — Ненецкий автономный округ Архангельской области
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГО — архив Русского географического общества
РНБ — Российская национальная библиотека, отдел рукописей и редких книг
РЭМ — архив Российского этнографического музея
СыктГУ — фольклорный архив Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина
Список литературы Мотив оборотничества в русских свадебных приговорах
- Киуру Э. С. Тема добывания жены в эпических рунах. К семантике поэтических образов / науч. ред. Б. Н. Путилов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 132 с.
- Крашенинникова Ю. А. Свадебные байки Виледи в Архангельской области в контексте смеховой культуры и обрядового фольклора // Przegl^d Rusycystyczny. 2019. № 1 (165). С. 10-20.
- Краюшкина Т. В. Мотивы тела и телесных состояний человека в русских народных волшебных сказках Сибири и Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2009. 338 с.
- Кузнецова В. П. Причитания в северно-русском свадебном обряде. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 180 с.
- Левинтон Г. А. Мужской и женский текст в свадебном обряде (свадьба как диалог) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб.: Наука, 1991. С. 210-234.
- Миллер О. Ф. [Рецензия] // Русская Старина. Т. LXIII. Кн. IX. Сентябрь. 1889 [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/m/miller_o_f/ text_1889_opisaine_russkoi_svadby_oldorfo.shtml (26.01.2022).
- Мореева А. К. Традиционные формулы в приговорах свадебных дружек // Художественный фольклор. М., 1927. Вып. II-III. С. 112-129.
- Путилов Б. Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М.: Наука, 1971. 315 с.
- Путилов Б. Н. О процессе жанрообразования в фольклоре // Актуальные проблемы современной фольклористики: сб. ст. и мат-лов. Л.: Музыка, 1980. С. 197-199.
- Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб.: Петерб. востоковедение, 2003. 457 с.
- Разумова И. А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. Петрозаводск: Карелия, 1991. 163 с.