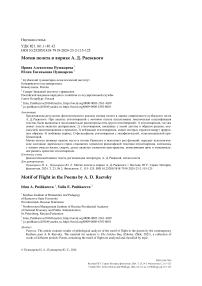Мотив полета в лирике А. Д. Раевского
Автор: Пушкарева И.А., Пушкарева Ю.Е.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты филологического анализа мотива полета в лирике современного кузбасского поэта А. Д. Раевского. При анализе стихотворений с мотивом полета использована тематическая классификация текстов, были выявлены и последовательно рассмотрены пять групп стихотворений: 1) стихотворения, где сам сюжет полета является центральным; 2) стихотворения, связанные с темой детства и образом родины, ностальгией, воспоминаниями о прошлом; 3) пейзажные стихотворения, сюжет которых строится вокруг природных образов; 4) любовная лирика; 5) философские стихотворения с метафизической, экзистенциальной проблематикой.Мотив полета занимает важное место в поэзии Раевского и выполняет ряд функций: передает психологическое состояние лирического героя; становится элементом философской тематики стихотворения, соотносясь с темами смысла жизни, смерти, души; является элементом пространства, позволяющим ярче и эмоциональнее развить хронотоп стихотворения.
Филологический анализ текста, региональная литература, а. д. раевский, мотив полета
Короткий адрес: https://sciup.org/147243123
IDR: 147243123 | УДК: 821.161.1+81.42 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-2-115-125
Текст научной статьи Мотив полета в лирике А. Д. Раевского
Анализ мотивов художественных текстов связан с исследованием эстетического единства содержания и формы и, согласно характеристике М. Л. Гаспарова, соотносится с верхним (идейно-образным) уровнем анализа [Гаспаров, 2001, с. 17], позволяя выявить содержательные доминанты произведения – «тот проблемно-смысловой стержень, которые обеспечивает системно-целостное единство содержания» [Есин, 1998, с. 174].
В понимании мотива мы исходим из определения А. Н. Веселовского: «Надо <…> отличить мотив от сюжета как комплекса мотивов. Под мотивом я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности. Признак мотива – его образный одночленный механизм <…> Простейший род мотива может быть выражен формулой a + b: злая старуха не любит красавицу – и задает ей опасную для жизни задачу» [Веселовский, 1989, с. 300]. Также уместно упомянуть дефиницию А. Л. Бема: мотив – это «предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле» [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2001, стб. 594]. Такое явление, как полет, безусловно, относится к мотивам художественного произведения. Формула «нечто или некто летит / летает / взлетает» постоянна и может включать разные элементы, которые выполняют разные функции в развитии сюжета. Полет сопровождается различными коннотациями – от скорбных до восторженно-счастливых, – быть реальным или мистическим (сказочным), быть полетом вниз или вверх, и т. д. Анализ мотива полета как отдельного структурного элемента сюжета является значимой частью целостного филологического анализа того или иного текста.
Актуальность предпринятого анализа мотива полета определяется также выбором в качестве материала исследования региональной литературы: стихотворений новокузнецкого поэта Александра Дмитриевича Раевского (род. 11 августа 1951 г., Каргатский р-н Новосибирской обл.). А. Д. Раевский – член Союза писателей России с 1995 г., лауреат премии журнала «Наш современник» (2003), автор сборников «Полуденный костёр» (1984), «Пьяные цветы» (1994), «Сугробчик» (1999), «Забураненный рай» (2005), «Стеклянная лестница в небо» (2011), «Ласковая высь» (2016), «Судьба России» (2018), «Золотой жук» (2021) (см.: [Современная литература Кузбасса, 2022, с. 343; Сазыкин, 2021, с. 172–173]). Его творчество представлено не только в литературном альманахе «Кузнецкая крепость» и в региональных справочных изданиях (см.: [Сазыкин, 2021, с. 173–174]), но и в хрестоматии «Писатели Кузбасса» [2007, с. 380–392], допущенной департаментом образования и науки Кемеровской области в качестве книги для чтения в 5–11 классах общеобразовательных учреждений региона, в собрании поэзии и прозы кузбасский авторов «Классика земли Кузнецкой» [Современная лите- ISSN 1818-7919
ратур Кузбасса, 2022, с. 306–343]. Литературоведческая характеристика сборников «Стеклянная лестница в небо», «Ласковая высь» и «Судьба России» представлена в книге А. С. Сазыкина о творчестве кузбасских писателей [Сазыкин, 2021, с. 61–82].
Чтобы целостно рассмотреть мотив полета в лирике Раевского, его тексты целесообразно классифицировать по разным основаниям. Во-первых, с мотивом полета ассоциируется вопрос о летающем объекте. Во-вторых, мотив полета занимает важное место в поэзии Раевского и соотносится с широким кругом тем. В зависимости от летающего объекта / объектов и лирического сюжета, в который они вовлекаются, мотив полета реализуется по-разному, выполняет разные функции, соотносится с разными темами и мотивами. Классификация, к которой мы обратимся при анализе стихотворений с мотивом полета, – тематическая.
Результаты исследования
Летающим объектом в лирике Раевского являются: 1) птицы, насекомые и другие существа, действительно летающие в природе (чайки в одноименном стихотворении, бабочки в «Красном вечере» и «Белокуром мальчике», шмель в «Белокуром мальчике», «птахи» в «На родине», ласточки в «На краю»); 2) неодушевленные природные объекты (облака в «Бабушкиных словах», «На краю», «Глядя в небо», листья в «Подружке» и «Сухо. Тучи еще не вползли серой бандой…»); 3) существа и предметы, быстрое движение которых уподобляется полету (кони в одноименном стихотворении, тройка лошадей в «Открытке», рука матери в «Молодая мама своему сыночку…»); 4) сказочные и мифологические существа и сущности (крылатый конь в «В светлом доме своем…»), ангел в «Ангел летал над морем…», ангелы в «Белокуром мальчике», дерево вечности в одноименном стихотворении, ведьма на метле в «В отпуске»); 5) абстрактные сущности (время в «Мы на лавочку присядем, где забор…», тишина в «После молебна»); 6) психологические и метафизические объекты (душа в «Наевшись жизни оголтелой…», мысли и сердце в «Подружке», душа, мысли и сердце в «Глядя в небо»); 7) сам герой и другие люди (герой в «Бабушкиных словах», «Пройдя сомненья, прегрешенья…», «Глядя в небо», героиня в «Зодиакальной несовместимости», герой и героиня в «В светлом доме своем…»).
Представим тематическую классификацию стихотворений с выявленным мотивом полета: 1) стихотворения, в которых сюжет полета является центральным («В светлом доме своем…», «Глядя в небо»); 2) стихотворения, связанные с темой детства и образом родины, ностальгии, воспоминаний («Белокурый мальчик», «На родине», «Бабушкины слова», «На краю», «Молодая мама своему сыночку…», «Мы на лавочку присядем, где забор…», «В отпуске», «Открытка»); 3) пейзажные стихотворения, сюжет которых строится вокруг природных образов («Чайки», «Красный вечер», «Кони», «Сухо. Тучи еще не вползли серой бандой…», «Подружка»); 4) любовная лирика («В светлом доме своем…», «Зодиакальная несовместимость»); 5) философские стихотворения с метафизической, экзистенциальной проблематикой («Ангел летал над морем…», «Наевшись жизни оголтелой…», «Дерево вечности», «После молебна», «Пройдя сомненья, прегрешенья…», «Глядя в небо»).
Обозначенные темы существуют во взаимосвязи, при этом мотив полета выполняет ряд функций:
-
1) передает психологическое состояние лирического героя – например, просветление, радость, стремление к духовной высоте («Глядя в небо», «Бабушкины слова»), влюбленность («В светлом доме своем…»), страсть («Зодиакальная несовместимость»), усталость («Сухо. Тучи еще не вползли серой бандой…»), горе («На краю»), созерцательный покой («Красный вечер»);
-
2) становится элементом философской тематики стихотворения, соотносясь с темами смысла жизни, смерти, души («Ангел летал над морем…», «Наевшись жизни оголтелой…», «После молебна», «Глядя в небо», «Дерево вечности»);
-
3) является элементом пространства, позволяющим ярче и эмоциональнее развить локально-темпоральную семантику стихотворения («В отпуске», «Подружка», «На родине», «Кони», «Открытка»).
Взаимодействие тем и приемов реализации различных функций мотива полета обнаруживается в результате анализа нескольких стихотворений.
В стихотворении « В светлом доме своем, в день зеленый и ясный^ » образ ветра и мотив полета связаны с темой любви, полета к мечте. В тонах русского фольклора лирический герой рисует романтическую картину своей любви-мечты: возлюбленная для него - Василиса Прекрасная, сам он - сказочный царевич, который собирается прискакать за ней « на небесном коне » [Раевский, 2021, с. 59] 1 . Конь описывается как летающий, что указывает на связь этого образа с образом Пегаса, а значит - на связь мотива полета с темой творчества, вдохновения. Единство неба и сказочно-романтического мира просматривается начиная с первого стиха: дом героини - « светлый », день - «ясный », конь - « небесный ».
Во второй строфе более детально описывается сам полет - мечта о единстве и взаимности: «На ходу подхвачу и умчу, словно ветер , / Осторожно тебя прижимая к себе; // Будет грива ласкать твои джинсы и свитер, / Улетим , растворимся в единой судьбе! .. » (здесь и далее выделено нами. - И. П., Ю. П .). Опьяненный любовью лирический герой сравнивает с ветром самого себя: ветер отождествляется со свободой и сильным чувством. Он мечтает забрать героиню из замкнутого пространства - дома - в пространство разомкнутое, одухотворенное: в небо, в полет. На то, что описано именно стремление к взаимности, а не насильственному похищению, указывают мотивы нежности и заботы, выраженные эпитетом « осторожно ». Полет для героя - возможность « раствориться в единой судьбе », утопическая мечта о духовном слиянии с возлюбленной.
Вместе с тем в этой строфе уже заметна самоирония: грива сказочного коня « ласкает » не романтическое платье или сарафан героини, а ее джинсы и свитер. С этой бытовой деталью в стихотворение входит противопоставление романтической сказочной мечты и приземленной бытовой реальности: возлюбленная отвергает героя, посчитав, что они не ровня друг другу (видимо, по материальным основаниям). Печаль и боль от этого отвержения выражаются в лексике с уже совсем другими коннотациями - едкой, разговорно-сниженной: « не учел, что звезда », « запросы покруче », « нереально к тебе подкатить ». В соответствии с победой приземленного быта над мечтой о полете, летающий конь превращается в автомобиль: «Денег нет у меня на “ Роллс-Ройс ” или “ Бентли ” , / Да и просто коня в наши дни не сыскать ». Лирический герой шутливо соотносит сказочного коня с дорогими машинами, используя языковую игру: « нереально к тебе подкатить, подскакать » - разговорногрубоватый глагол «подкатить» соседствует с глаголом, указывающим на погибшую мечту о сказочном коне и полете, происходит буквализация метафоры («подкатить» - не только «ухаживать, напористо добиваться взаимности», но и «приблизиться, подойти», «подскакать» на коне с надеждой на эту взаимность). В подтексте просматривается также ироничная деметафоризация устойчивого оборота «принц на белом коне».
Упрек в адрес героини, которая предпочла материальные ценности любви и сказочной мечте, не выражен явно, но просматривается в первой строке последней строфы, где вновь возникает не приземленно-бытовая, а романтическая образность: «Я стою в стороне, отрешенный и бледный ». Бледность, одиночество - устойчивые образы в романтической поэзии, знаки высокого трагического чувства, которые автор вписывает в бытовой мирообраз, пропитанный самоиронией. Можно заключить, что в данном тексте ветер и полет связаны с мечтой о взаимной любви и свободе, с романтическим двоемирием; при этом романтическое, сказочное (высокое) проигрывает бытовому (низкому). Несостоявшийся полет отождествляется с несостоявшейся любовью.
1 Далее произведения А. Д. Раевского цитируются по этому изданию с указанием номера страницы в круглых скобках.
Как и в «В светлом доме своем…», центральным мотив полета является в стихотворении « Глядя в небо ». Уже из заглавия понятна его пространственная организация: устремленность снизу вверх, в небеса. Стихотворение посвящено философской, метафизической проблеме, и полет является в нем способом уйти от «низа» (материальной реальности) «ввысь» (в небо). Как и другие подобные тексты Раевского («Ангел летал над морем…», «Пройдя сомненья, прегрешенья…» и др.), стихотворение строится на рядах контрастных образов, формирующих картину романтического двоемирия: « грешная земля », « житейская сухая зола », « проклятая цивилизация » - « чистые выси », « поднебесье », « свободных мыслей парение » (с. 97). Лирический герой мыслями и чувствами устремляется от первого мира во второй, ввысь, в метафизический, ментальный полет; летающим объектом, таким образом, становится он сам, вся его личность. Далее мы пронаблюдаем подобное только в сюжете детских снов героя о полете в «Бабушкиных словах»; впрочем, здесь речь идет уже не о полете в детских мечтах, а о зрелом полете-познании, духовном восхождении, что скорее близко стихотворению «Пройдя сомненья, прегрешенья…», где герой сам о себе говорит: « Могу парить над суетой », - но, однако, мотив полета не прописан так детально. Герой обращается к образу самого себя в детстве, будто заново вспоминая о своей устремленности к полету: « Вижу: замер под небом пацан - // Это ж я в дальнем детстве, Господи! »; « И опять, как тогда, хочу // В поднебесье летать, кувыркаться! » Нейтральный глагол «летать » дополняется шутливо-радостным, по-детски игривым « кувыркаться »; ср.: в «Бабушкиных словах» небо и полет также связаны с детским светлым и наивным мировосприятием, с радостью, свободой, игрой. Как и в стихотворении «Подружка», к которому мы обратимся ниже, выстраивается параллелизм природных и психологических летающих объектов: сам лирический герой (« Оторваться от грешной земли… »), его душа (« В чистых высях душа купается »), мысли (« Свободных мыслей парение »), время (« Облака - века, века - облака^ ») -облака, заключенные в метафорическом образе « подвижного жемчужного города ». Небесный облачный город противопоставлен суетному земному пространству - « проклятой цивилизации », от которой устала душа персонажа (отметим, что цивилизация, город редко воплощают нечто положительное в стихах Раевского - всё светлое для него обычно связано с природой и деревней). Как и в стихотворении «На краю», облака символизируют ход времени, вечность, историю (отсюда зеркальный повтор « облака – века, века – облака »); с ними связан полет « свободных мыслей » (семантика свободы еще ярче закрепляется в отглагольном существительном « парение » - свободный, расслабленный полет без усилий, как у птиц) и « людей неземная тоска ». В этом образе лирический герой будто объединяет свои мечты о полете и свободе, свой полет ввысь - с мечтами и стремлениями людей вообще. « Неземная тоска » по высшему является экзистенциальной категорией, объединяющей разные грани мотива полета у Раевского.
Синтез двух крылатых образов - бабочки и ангела - наблюдается в стихотворении «Белокурый мальчик», которое открывает ряд текстов, связанных с темой детства, образом родины и настроением ностальгии. Мальчик, играющий в траве, является символом детства -чистоты, невинности, родства с природой, бесхитростной радости жизни; «ангелы легко, как бабочки, вились» (с. 15) над его головой, поскольку детство - самое чистое, наиболее приближенное к небу (т. е., в религиозной картине мира Раевского, к богу) состояние. Как и душа, воспарившая ввысь в «Наевшись жизни оголтелой…», как и люди, задумчиво замершие на закате в «Красном вечере», мальчик получает благословение свыше, и это благословение связано с состоянием легкости (эпитет «легко»), мотивом полета и образом крыльев. Семантическое звено «крылья» объединяет бабочку и ангела - часть природы и духовную, метафизическую сущность, живую красоту и чистоту; они сосуществуют в образе ребенка. Светлый, умиленный тон стихотворения поддерживается обилием эмоционально окрашенных деталей - «добрый» шмель (еще один связанный с полетом природный образ), кашка, ветер, запах молока, - и уменьшительно-ласкательными формами: «коротенькая» рубашка, «ручон- ки», «молочко», «маковка». Детство становится центральной темой, с которой соотносится мотив полета души.
В стихотворении « На родине » в соприкосновение с мотивом полета вступает еще одна важная тема, заявленная в заглавии. Как и любовь, красота, душа, детство, родина является высшей ценностью, связанной с активной духовной жизнью, сильными чувствами, - поэтому ей тоже сопутствует полет, воплощенный (как в стихотворении «Чайки») в образе птиц: « проносятся птахи » (с. 135). Разговорно-ласковая номинация «птахи» дополняет ностальгический образ родной земли; динамичный глагол « проносятся » напоминает о быстротечности времени - ведь лирический герой погружен в воспоминания. Мотив полета соседствует с идиллически светлым пейзажем и образом детства (подобную особенность реализации мотива мы наблюдаем в стихотворении «Белокурый мальчик»), правда, теперь уже не абстрактного детства, а личного прошлого лирического героя. Пространство родины - очевидно, малой родины, родного села или деревни, - изображено с помощью ярких, метафорических природных образов, воплощающих родство человека и природы, его восхищение ею: « рас-кудлатилась верба » (отметим яркий окказионализм и олицетворение: верба романтически уподобляется растрепанной девушке), « безбрежие хлебное» (метафора поля), « август <…> шумит в голове », « сердце в зеленом ». Неприметные «птахи», как и гогочущие гуси (связанные, однако, скорее с сельским бытом, чем с полетом), слегка теряются среди этого природного изобилия.
В центре оказывается образ ребенка, чье чуткое восприятие улавливает детали лета на родине, чтобы навсегда запечатлеть их в памяти: « И снова мальчонка в цветастой рубахе // Бежит к недалекой воде » (рубашка, уменьшительно-ласкательная форма слова («мальчонка ») - эти детали роднят текст с «Белокурым мальчиком»: и там, и там наблюдается идеалистическое, возвышенное восприятие детства). Воскрешая светлый образ малой родины и се-бя-мальчика в памяти, лирический герой рисует безмятежную, лишенную тревог о будущем картину (сердце « вовсе не хочет гадать и болеть наперед »); метафора «рисовать картину» эксплицируется в двух последних строках: « Коль эта картина дороже и ближе // Любых репродукций с нее ». Родина дороже любого другого места, память о ней - подлинная картина, а всё другое - лишь копия, репродукция, подделка. Мотив полета, соответственно, оказывается связан с истиной, настоящей сутью вещей - как в «Красном вечере», «Ангел летал над морем_» и ряде других текстов.
В крупном стихотворении « Бабушкины слова » мотив полета вновь связан с несколькими ключевыми для творчества Раевского темами: детство, память (герой вспоминает себя-ребенка, как и в «На родине», отчасти в «Белокуром мальчике», но на этот раз акцент ставится на теме семьи, а именно на образе ныне покойной бабушки; образ, напрямую соотнесенный с полетом - детские сны героя, где он летает); вера в бога (рассказы бабушки о боге как о добром старце в облаках, к которому можно взлететь или подняться, соотносятся с поисками бога и смысла жизни, которым предается взрослый лирический герой); время, старость, смерть («Я в немилой живу стороне, // Срок пожизненный будто мотаю <^> Поседела давно голова» (с. 10-11), - устало размышляет лирический герой); душа и жизнь души. Именно с активной душевной жизнью и светлым детским восприятием связаны сны о полетах на небо, мечты о приближении к « боженьке » по « стеклянной лестнице в небо ». Давно ушедшая бабушка (« в холодной земле <…> Ты почила в платке и с иконкой ») будто унесла с собой вечные нравственные ценности, схожие с теми, что воплощены в образе скрижалей в «Дереве вечности».
Лестница в небо, по рассказам бабушки, находилась «за березкой»; отметим, что береза -важный образ в поэзии Раевского (как и, например, Есенина, на художественный мир которого он явно во многом ориентируется), символ родной земли; далее мы встретим образ березы в «Красном вечере», он является центральным в «Подружке». Мальчик раз за разом приходит к заветной березе, но не находит там никакой лестницы - «И всё же // Не стихала надежда в груди - // Взмыть к тебе, о неведомый Боже!» Динамичный и одновременно возвышенный глагол «взмыть» впервые вводит в текст мотив полета - возвышения, стремления к Богу, по-детски чистого порыва к красоте и истине, а также к познанию, с которым связан эпитет «неведомый». Тем не менее маленький лирический герой не жаждет нарушить тайну о Боге; его цель - не познание истины или собственного будущего, не мольба о счастье («Только взрослые верят в такое», - подчеркивает он; прагматичное взрослое мировосприятие противопоставлено детскому - наивному, открытому, бесхитростно-созерцательному; такой же контраст мы уже наблюдали в «На родине»: «Сердце <^> не хочет // Гадать и болеть наперед»), а просто увидеть Бога, познакомиться с ним: ребенка ведет созерцательное любопытство. «Просто облако выбрать себе, // Лечь на пузо и плыть над землею», - так он представляет этот полет. Разговорно-шутливое слово «пузо», которое легко представить в детской речи, подчеркивает идиллическую, наивную картину мира ребенка, в котором Бог - не абстрактная метафизическая сущность, а добрый старец на небесах. Образ облака способствует эффекту ощутимости, эмпирической конкретике: герой летит не сам по себе, а лежа на облаке - частичке неба. Глагол «взмыть» (движение снизу вверх) сменяется глаголом «плыть» - рисуется картина плавного, медлительного полета, герой будто купается в небе, как в морских волнах, а облако служит ему «лодкой» (в стихотворении «Чайки», рассмотренном далее, мотив полета тоже включает синтез образов неба и моря). Глагольный ряд, изображающий полет, продолжает слово «пролетать»: «Это ж чудо! – легко пролетать, // Голубой высоты не бояться^» «Пролетать» включает семантический компонент «мимо»: в своем сне-фантазии герой пролетает мимо чего угодно - на небе и на земле, - обретая абсолютную свободу. Косвенно с полетом соотносится и глагол «не бояться»: герой отрывается от земли, но не боится «голубой высоты» - духовного, небесного мира; полет, таким образом, связан со свободой и бесстрашием.
Во второй части стихотворения интонация резко меняется: с идиллической, ностальгической - на элегическую, печальную. Взрослый лирический герой констатирует свою старость (« Поседела давно голова »), грусть и тщету своей жизни (« прозябаю », « Срок пожизненный будто мотаю »; в последнем сравнении содержится образ тюрьмы - земная неволя противопоставляется небесной свободе). С этим трагическим глагольным рядом закономерно связано и отсутствие полета, пребывание на земле, скованность души: « Даже в мыслях давно не летаю ». Взросление осмысляется как утрата полета, падение с небес на землю. Тем не менее, герой хранит в памяти « золотые слова » бабушки - воплощение вечных нравственных ценностей, жизни души, красоты и свободы. Он обещает во что бы то ни стало найти « лестницу в небо» - «хотя б перед самой могилой »; полет, связанный с любовью и памятью, способен победить саму смерть. Образ стеклянной лестницы, над которой « облака ходят плавно и немо », завершает развитие мотива полета в стихотворении, вновь возвращая сюжет к плавному движению по небу и образу облака - к детским снам героя.
Таким образом, стихотворение о памяти и ходе времени рисует своеобразную «траекторию» полета - «вверх - вниз - вверх», выраженную глагольными формами: « взмыть » - « плыть » - « пролетать » - « не летаю » - « облака ходят ». От детского мечтательного порыва ввысь, полетов во сне, веры в бога и красоту герой приходит к взрослению, познанию печальной стороны жизни, нахождению «на земле» - и вновь к обретению вечного, высокого, к подъему по уже иной лестнице в небеса.
К ряду стихотворений Раевского, объединенных темами деревни, родины, памяти о детстве («Белокурый мальчик», «На родине», «Бабушкины слова», «Открытка») , относится также трагическое стихотворение «На краю» с посвящением «Памяти уснувших деревень». Автор рассматривает социальную национальную проблему - вымирание деревень, связанное с урбанизацией и историческими потрясениями: двумя мировыми войнами, индустриализацией, перестройкой, оскудением аграрного комплекса страны; делает он это в личном, лирикопсихологическом ключе, рисуя мрачную картину смерти родных мест. Как и в «Бабушкиных словах», счастье, красота, добро для героя остались в утраченном прошлом. Стихотворение наполняют слова с семантикой смерти, похорон: «тоска», «добивали», «убивали», «отходная », «забвение» (с. 16); даже тополя метафорически сравниваются с обелисками.
В атмосферу безысходности, тем не менее, вписан мотив полета. Сначала он входит в текст с образом облаков, вновь напоминающим о «Бабушкиных словах»: « А по небу плывут надменно // Равнодушные облака ». Полет воплощен в глаголе « плывут », но теперь это не безмятежно-спокойное купание в небе, как в море (подобное наблюдаем в «Бабушкиных словах», «Чайках»), а холодное равнодушие смерти или вечности, образ природы, отчужденной от человека и даже жестокой к нему: облака плывут « надменно », небесный мир будто свысока и с осуждением смотрит на то, чему люди подвергли русскую деревню. Во второй раз мотив полета фигурирует в конце текста: « Над бугром, где была изба, // Иногда пронесутся ласточки , // Бритвокрылые, как судьба... » Пустой бугор на месте избы напоминает могилу - былая жизнь похоронена. Образ летящих птиц или насекомых в поэзии Раевского обычно связан с жизнью, возрождением, духовностью («Чайки», «На родине», «Белокурый мальчик», «Красный вечер» и др.); ласточки - птицы весны - тоже традиционно являются символом возрождения, юности и счастья. Однако в «На краю» семантика этого образа трагична: ласточки летят над местом «захоронения» избы и наделены ярким окказиональным эпитетом « бритвокрылые, как судьба » - острота их крыльев соотносится с бритвой, лезвием, чем-то режущим и опасным, и эта опасность, как и весь образный ряд текста, связана с неотвратимостью рока, смертью.
Можно заключить, что в «На краю» мы впервые наблюдаем исключительно «темную» сторону мотива полета; он впервые связан не с красотой, жизнью души и новой надеждой, а со смертью, безысходностью, болью и гневом лирического героя. С семантикой смерти полет связан и в произведениях «Ангел летал над морем...», «Наевшись жизни оголтелой.», но в них смерть рассматривается в христианском ключе - как переход души в лучший, вечный мир, вознесение. В данном же случае полет « равнодушных » облаков и « бритвокрылых » ласточек подан скорбно, пессимистически: они будто уносят души разрушенных деревень в мир иной.
В стихотворении « Молодая мама своему сыночку… », вновь связанном с темой детства и воспоминаниями взрослого лирического героя, представлена, пожалуй, самая необычная форма мотива полета - летающим объектом является рука матери, вышивающей сорочку сыну: « Над шитьем витала легкая рука . » (с. 41). Как и в рассмотренных выше текстах, мотив полета соотносится с детскими воспоминаниями, легкостью, красотой, идиллическим утраченным прошлым, верой в бога (за рукоделием матери « С трех икон святые молча наблюдали »). Глядя на идиллическую счастливую картину, взрослый лирический герой горько констатирует: «Дорогая мама, как ты угадала, // В стороне далекой, после, без тебя, // Вы-шилась сыночку (ниток было мало) // В крестик черно-белая судьба ». Детская безмятежность обернулась разлукой с малой родиной (« в стороне далекой »), утратой близких (« после, без тебя »), несчастливой жизнью, полной горя и противоречий (как и в «Бабушкиных словах», где идиллическая атмосфера детского прошлого сменяется мрачным настоящим): эпитет « черно-белая », характеризующий судьбу, отражает присущее лирическому герою Раевского пессимистически-романтическое восприятие жизни. Мотив полета, тем не менее, сохраняет только положительные коннотации. Отметим также, что уже во второй раз он соотносится с образом родной женщины - ныне покойной, но любимой лирическим героем: в «Бабушкиных словах» отражена мечта о полете к Богу, почерпнутая ребенком из рассказов бабушки, здесь - поэтичный образ материнской руки, легко витающей над вышиванием.
Необычно подан мотив полета в стихотворении «В отпуске». Летающим объектом в нем является сверхъестественное существо - ведьма (впрочем, не названная прямо): «Кто там пронесся на метле?..» (с. 136-137). Сверхъестественные существа - ангел, крылатый конь -летают и в других стихотворениях Раевского, однако «В отпуске» отличается скорее не сказочным или метафизически-философским, а мистическим колоритом. Описание сельской ночи, манящей и таинственной, перетекает в воспоминания лирического героя - зрелого, же- натого человека - о беззаботной юности, когда он был очарован всем миром и свободен от обязательств. Соотнесение прошлого и настоящего, ностальгия - постоянные темы в поэзии Раевского («На родине», «Бабушкины слова», «Мы на лавочку присядем, где забор…»), но здесь они разворачиваются особенно детально: первые свидания проносятся перед героем «чредой загадочной, незримой», овеянные таинственным флером сельской ночи. «Мир теплый и зеленый», «месячко», звездное «неба решето», встречи юных любовников, «молодости села», в тишине леса - всё созвучно фольклорным образам, и не случайно в стихотворение вписывается аллюзия на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя: «Белеют избы, дремлют баньки, // И светел пруд... Как близ Диканьки! // (Кто там пронесся на метле?..)» Пожалуй, нигде так ярко, как в повестях Гоголя, не описаны «таинства» сельской ночи, изнанка бытового мира, скрывающая непознанное - страсти, волшебство, нечистую силу. Соприкосновение с непознанным, «ночным» миром эмоций у Раевского воплощено в гоголевском образе ведьмы на метле (подобное наблюдается в стихотворении «Зодиакальная несовместимость», в котором образ ведьмы фактически сливается с образом возлюбленной). Полет оказывается, как и в ранее приведенных стихотворениях, связанным с любовью, с иррациональной стихией жизни, хотя, в отличие от «Зодиакальной несовместимости» и «В светлом доме своем...», это былая, давно прошедшая любовь (в настоящем - «земля», прочный брак, не похожий на «пору свиданий»). Мотивом полета актуализирована семантика памяти о прошлом, молодости и красоты, одна из коннотаций полета - нечто непознанное, мистическое. Также отметим, что, используя мотив полета, Раевский неоднократно обращается к русской классике: в отличие от «Ангел летал над морем.», где можно лишь предположить имплицитное обращение к Лермонтову, в «В отпуске» открыто использован гоголевский топоним.
В стихотворении « Открытка » мотив полета сопряжен с образом коня или лошади - точнее, русской тройки. В поэзии Раевского кони «летят» - буквально или метафорически - неоднократно: сказочный крылатый конь в «В светлом доме своем…», улетевший в небо табун коней в одноименном стихотворении. В данном случае, однако, образ лошадей соотносится не с любовным сюжетом и не с красотой и гармонией природы, а с образом России, с ностальгией по родине. Лирический герой посылает на Рождество героине (судя по посвящению, его адресатом является именно женщина) открытку, напоминающую о родной стране; можно заключить, что героиня живет за границей, и открытка становится для нее символом родной страны. Этот символ должен иметь не электронную, а физическую форму, служить сентиментальным напоминанием, воплощением связи с родной землей, и герой постоянно это подчеркивает: « не Интернетом прытким, // А на почте марку прилеплю, // В Рождество пришлю тебе открытку »; «Может, не отправишь сразу в спам, // А, как раньше, к зеркалу приставишь » (с. 31). Мотив полета выражен в единственной фразе: « Удаль белогрудая летит - // В алых сбруях, в звонах под дугою ».
Три белых коня, фоном которым служит «хрусткая сибирская зима », - более чем очевидный символ России, закрепленный в фольклоре, известной одноименной песне и - самое значимое - в «Мертвых душах» Гоголя (знаменитый лирический монолог повествователя о Ру-си-тройке, несущейся невесть куда - метатекст, посвященный анализу русской души). Обращаясь к фольклорной метафоре « удаль белогрудая », к литературной традиции (гоголевские мотивы в связи с мотивом полета мы уже наблюдали в стихотворении «В отпуске»), Раевский развивает образ России, Руси-тройки, летящей вперед, в неведомое будущее, вопреки всем историческим потрясениям. Образ « красно-сине-белая Россия » еще раз актуализирует тройственность: три коня в русской тройке, три цвета в русском флаге, три как священное, символическое для русской культуры число. Как и в «На родине», «Бабушкиных словах», «На краю», мотив полета соотносится с образом родины, с памятью о ней и тоской по ней; как и в любовных или философских стихах Раевского - со стихией жизни, иррациональной и неуправляемой.
Заключение
Мотив полета в творчестве А. Д. Раевского связан с философско-метафизическими, сентиментально-ностальгическими, природными, любовными темами и сюжетами и выполняет ряд функций:
-
1) передает психологическое состояние лирического героя – например, просветление, радость, стремление к духовной высоте, влюбленность, страсть, усталость, горе, созерцательный покой;
-
2) становится элементом философской тематики стихотворения, соотносясь с темами смысла жизни, смерти, души;
-
3) является элементом пространства, позволяющим ярче и эмоциональнее развить локально-темпоральную семантику стихотворения.
Филологический анализ мотива полета как одной из содержательных доминант стихотворений А. Д. Раевского разных лет позволяет раскрыть важный аспект идиостиля поэта.
Список литературы Мотив полета в лирике А. Д. Раевского
- Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов // А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. 405 с.
- Гаспаров М. Л. О русской поэзии: анализы, интерпретации, характеристики. СПб.: Азбука, 2001. 480 с. EDN: PWKIIV
- Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 1998. 248 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина; Ин-т научной информации по общественным наукам РАН. М.: Интелвак, 2001. 1600 с.
- Писатели Кузбасса. Хрестоматия. Проза, поэзия / Отв. ред. А. В. Правда. Кемерово: ИПП "Кузбасс", "СКИФ", 2007. 496 с.
- Раевский А. Д. Золотой жук. Стихи разных лет. Сборник стихотворений / Ред. Б. В. Бурмистров. Кемерово: Вектор-Принт, 2021. 160 с.
- Сазыкин А. С. "…А здесь, во глубине России": статьи о региональной литературе / Науч. ред. И. А. Пушкарева, отв. ред. В. А. Галактионов. Новокузнецк: НФИ КемГУ; Красноярск: Ситалл, 2021. 226 с.
- Современная литература Кузбасса // Классика земли Кузнецкой: В 3 т. / Сост. Б. В. Бурмистров, С. Л. Донбай, Г. И. Карпова. Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2022. Т. 3. 594 с.