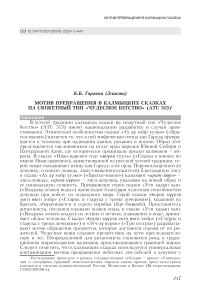Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "чудесное бегство" (АТИ 313)
Автор: Горяева Б.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В устной традиции калмыков сказки на сюжетный тип «Чудесное бегство» (АТU 313) имеют национальную разработку и случаи заимствования. Этнической особенностью сказки «Ах дY хойр хулhн» («Братья-мыши») является то, что в ней мифическая птица хан Гаруда превращается в человека при надевании шапки, рукавиц и носков. Образ этот представляется наслоившимся на культ орла народов Южной Сибири и Центральной Азии, где исторически проживали предки калмыков - ой-раты. В сказке «Иван-царевич гидг кeвyнэ тууль» («Сказка о юноше по имени Иван-царевич»), заимствованной из русской устной традиции, герой также выхаживает птицу хан Гаруду, а не орла. Перевоплощенную (в девушку, соловую лошадь, ламу-священнослужителя) благодарную лису в сказке «Ах дy хойр хулhн» («Братья-мыши») называют «арат-мврн» -лиса-лошадь, «арат-куукн» - лиса-девушка, указывая на новый образ и ее изначальную сущность. Превращение героя сказки «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») происходит благодаря чудесным способностям девушки при побеге из подводного мира. Герой сказки hорвн кyyктэ эмгн евгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями»), младший из братьев, оборачивается в серого воробья (бор богшада). Представитель антагониста, посланец владыки хозяев воды, в сказке «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») из легких и печени, плававших в воде, принимает облик человека. Сказки «hорвн кyyктэ эмгн евгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») и «Эгч-дy нтурвн» («Три сестры») разрабатывают мотив обращения предметов, которые достаются героям от их родителей. Чудесные вещи создают препятствия на пути преследователя: гору и лес. Непреодолимой для антагониста становится река, в традиционном мировоззрении калмыков представляющаяся границей миров. Следует отметить, что в калмыцких сказках используется универсальная контаминация мотива превращения небесных дев-лебедей в девушек с сюжетным типом «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (ATU 465 А). Мотив превращения является сюжетообразующим и реализуется в разных формах бегства и погони, представляющих возвращение героя из иного мира в мир живых.
Калмыцкая волшебная сказка, сюжет, мотив, превращение, герой, чудесное бегство, чудесные предметы
Короткий адрес: https://sciup.org/149146757
IDR: 149146757
Текст научной статьи Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "чудесное бегство" (АТИ 313)
Сюжетный тип «Чудесное бегство» широко распространен в мире. В Указателе сказочных типов Аарне — Томпсона под редакцией Утера он обозначен под номером 313 и имеет подтипы 313 А, B, C, H*.
Он представлен в обработках мифа об аргонавтах в сочинениях античных писателей, мотивы сюжета присутствуют в сборнике индийских сказок, новелл и легенд «Океан сказаний». Среди западноевропейских литературных сказок типа АТ 313 наиболее популярна сказка Базиле («Пентамерон», III, № 9) [Бараг, Новиков 1985, 415].
В обширном сказочном материале, представляющем магическое бегство от чудовища, отмечаются два эпизода — о гадах, заменяющих вшей в голове чудовища, и о происхождении гадов, которые часто встречаются в мифах северо-западных индейцев и в сибирском материале. На основе этого Иохельсон проводит историческую связь фольклора обитателей Америки (северо-западных индейцев) с устной традицией палеоазиатов [Иохельсон 1913, 165]. Ученым указывается, что всемирно распространен сказочно-мифологический эпизод, когда предметы, бросаемые героями «сами-по-себе», без чудесного превращения, задерживают преследователей и дают время для спасения [Иохельсон 1913, 165].
Отдельное монографическое исследование, посвященное сюжету «магическое бегство», было проведено А. Аарне [Aarne 1930].
«Аарне же заметил, что последним препятствием часто является вода, река, и мимоходом сопоставил эту реку с рекой, отделяющей царство живых от царства мертвых», — пишет В.Я. Пропп [Пропп 2000, 306]. Он перечислил десять видов погони и спасения и пришел к выводу, что «основные виды бегства и погони предстали перед нами в исторической перспективе как построенные на возвращении из царства мертвых в царство живых» [Пропп 2000, 306].
И.Г. Левиным было изучено шумеро-аккадское предание об Этане, который на орле поднялся в небо, прежде выходив его по приказу бога, как рассказ о путешествии в иной мир в поисках духа-покровителя [Левин 1967].
Э.В. Померанцевой изучен образ водяного на материале русской волшебной сказки на сюжетный тип «Магическое бегство» [Померанцева 1970].
На основе одного из подтипов сюжета «Чудесное бегство» освещена история сюжета о запродаже героя водяному на различных этапах его развития и связь с живыми верованиями народа [Тудоровская 1974].
Е.М. Мелетинский, рассматривая литературные архетипы, отмечает, что в сказках на сюжет AT 313, 314, 315, 316 «родители обещают за новую услугу отдать своего ребенка (часто еще не зная о его рождении) людоеду, черту, русалке, “в науку” колдуну и т.п., чтобы самим выпутаться из беды». Одним из исходов в этой ситуации является бегство от демонов-людоедов с помощью бросания чудесных предметов [Мелетинский 1994, 57].
Проведя тематическую классификацию и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам, Ю.Е. Березкин, Е.Н. Дувакин выделяют под номером «L72. Магическое бегство, D672, D673» — «бегство с помощью бросания чудесных предметов, эпизод в сказках разных типов», который представлен на обширной территории по всему миру (Ср. СУС 313 H) [Березкин].
Отмечается большое количество вариантов сюжетного типа «Чудесное бегство»: русских — 133, украинских — 59, белорусских — 18. В восточнославянской волшебной сказке изучаемый сюжет имеет разные начала.
В устной традиции калмыков также есть сказки на данный сюжетный тип. При этом следует отметить национальную разработку сюжета и случаи заимствования из русской сказочной традиции. Образцы на рассматриваемый сюжет публиковались в разное время в сборниках калмыцких народных сказок.
В репертуаре сказителя Эренджена Лиджиева имеется сказка «Ах д Y хойр хул h н» («Братья-мыши») на сюжет 313 В «Чудесное бегство» [Алтн з Y H темн 1995, 29—33]. В репертуаре сказителя Санджи Манжикова сказка «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») на сюжетный тип 313 С «Чудесное бегство» записана и опубликована в 1968 г. [Хальмг туульс 1968, 163—166]. Еще одна сказка под названием « h орвн к YY кт э эмгн е вгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») на сюжетный тип 313 Н* «Бегство от ведьмы» зафиксирована в контаминации с типом 707 «Чудесные дети» [Хальмг туульс 1968, 33—41]. Вариантом сказки, в которой также реализована контаминация типов 313 Н* и 707, является сказка «Эгч-д Y h урвн» («Три сестры») [Хальмг туульс 1972, 145—149].
В выше приведенных сказках на сюжет 313 сюжетообразующим является мотив превращения. В нем находят отражение представления о возможности живого существа или предмета изменять свой облик, внешний вид, ипостась, т.е. о способности стать другим существом, растением, предметом и т.п. [Виноградова 2004, 67]. Целью данной статьи является рассмотрение мотива превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесное бегство» (ATU 313 A, B, C, H*).
Превращения благодарных помощников в сказках на сюжетный тип ATU 313 «Чудесное бегство»
Сказка «Ах д Y хойр хул h н» («Братья-мыши») на сюжет 313 В «Чудесное бегство» начинается с войны птиц и зверей. В ходе битвы медведь сломал правое крыло хан Гаруды ( хан hapd ) — царя птиц. Сын хана, охотясь, увидел на дереве раненую птицу, взял ее домой выхаживать. Поправившись и набравшись сил, Гаруда прилетел в лес, отправил ханского сына к своей сестре за одеждой. Старшая сестра отказала юноше, младшая тоже не выполнила просьбу брата. Откликнулась только супруга и передала то, что просил муж. Хан Гаруда надел шапку — выросла голова, натянул рукавицы и носки — отросли руки и ноги. После этого он позвал своего спасителя в гости, подарил ему ларчик, запретив его открывать [Алтн з Y H темн 1995, 29—30].
Здесь следует указать, что хан Гаруда — весьма популярный персонаж устной традиции калмыков. В мифологии монгольских народов Гаруда — царь птиц, который ведет извечную борьбу со змеями — нагами (см. подробнее: [Неклюдов 1990a, 142]).
В сказке «Иван-царевич гидг кeвYнэ тууль» («Сказка о юноше по имени Иван-царевич»), заимствованной из русской сказочной традиции, герой также выхаживает птицу хан Гаруду, а не орла [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13810. Л. 57-61 об.]. В.Я. Пропп отмечает, что выкармливание орла здесь вполне историческое явление: «У сибирских народов орлы выкармливались, и выкармливались с особой целью». Кормление и последующее убиение орла имеют целью умилостивить духа — хозяина орлов, позднее — творца [Пропп 2000, 140].
«Момент улетания в сказке соответствует отсыланию через смерть в обряде. В обряде орла кормят, а затем его отсылают к его отцам. В сказке это отразилось как отпускание на волю... Этот случай интересен тем, что он содержит в себе элементы разложения обряда. Он показывает, что сказка отражает позднюю стадию ее, как это мы видим и в других случаях. Кормление орла показано как нечто, что герою в тягость, как нечто ненужное и бессмысленное», — пишет исследователь [Пропп 2000, 141].
Это наблюдение В.Я. Проппа подтверждается и текстом сказки «Иван-царевич гидг к е в у н э тууль» («Сказка о юноше по имени Иван-царевич»): « Эмнь чишкэд, xapahad: “Э^нд бээсн hypeu Yкpэн идYлчкэд, эврэн яахмвидн? Алчк э^гэн!” — гинэ » (Жена кричит, проклинает: «Скормив ему все наши три коровы, что сами будем делать?») [ГА РО. Ф. 55. Оп. 1. № 13810. Л. 58 об.].
Н.Л. Жуковская отмечает, что образ птицы хан Гаруды является поздним наслоением на культ орла народов Южной Сибири и Центральной Азии. Исследователь пишет, что персонаж индийской мифологии — Гаруда занял прочное место и в позднем буддизме [Жуковская 1977, 71].
Птица хан Гаруда фигурирует также в других жанрах устной традиции народа таких, как «сказывание по кости» (« яс кeмэлhн ») и героический эпос «Джангар». Мифическая птица Гаруда помогает герою калмыцкого эпоса хану Джангару спуститься с неба на землю. Изображения хан Гаруды имеются на буддийских танках, представляющих старокалмыцкое искусство, на знамени 3-го донского калмыцкого конного полка, участвовавшего в Отечественной войне 1812 г.
Отметим, что в калмыцких сказках раненой оказывается именно хан Гаруда, а не орел, как в сказках многих народов мира. «Материалы по шаманскому фольклору тоже подтверждают культовый характер образа орла. Красивейшая, сильнейшая и могущественнейшая из птиц, обитающих в лесостепной полосе, — орел не мог не стать объектом поклонения», — пишет исследователь Н.Л. Жуковская [Жуковская 1977, 71].
Нарушив запрет хан Гаруды, сын хана запускает череду событий, с которых начинается развитие сюжета. Разбежавшийся из ларца скот собирает волк со стальным хвостом, требуя от героя взамен то, чего он дома не знает. Обещанным оказывается сын, о рождении которого табунщик не ведал. Выросший сын однажды находит записку и отправляется к волку. По пути он помогает лисе. В благодарность она сопровождает юношу к волку со стальным хвостом, превратившись в соловую лошадь при приближении к его дворцу [Алтн з Y H теми 1995, 32]. Отметим, что здесь сказитель называет лису « apam-мерн » — лиса-лошадь, одновременно указывая новый и изначальный ее облик.
Лиса помогает юноше выполнить трудное задание волка и доставить дочь хана, но прежде чем отвести ханскую дочь к волку, она преврати- лась в красивую девушку и приказала юноше вымазать лицо ханской дочери сажей. В итоге волк выбрал не ханскую дочь, а лису.
Сказочник называет благодарное животное в человеческом облике « арат-KYYKH » — лиса-девушка. Вечером она исцарапала лицо волка и убежала. Наутро волк спрашивает у юноши, что за девушку он привел. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, герой предложил отправиться к ламе-священнослужителю, который все знает. Лиса в облике ламы мажет волку глаза и рот снадобьем и отрубает стальной хвост. Юноша расправляется с волком, лиса возвращается к себе.
Материал калмыцкой волшебной сказки представляет лису как благодарное животное, которое помогает своему спасителю выполнить трудное поручение антагониста.^ Мотив превращения лисы в девушку присутствует также в сказке «Йистр»: она советует герою отвести ее к змею вместо ханской дочери [Калян 1994, 50—52]. В сказке «Саак» благодарная лиса принимает облик старухи в прекрасном одеянии и помогает герою спрятаться так, что ханская дочь не может его найти и вынуждена выйти за него замуж [Хальмг туульс 1961, 102—104].
Лиса предстает в роли трикстера и действует обманом и хитростью в калмыцких сказках о животных [Басангова 2019, 13], в сказках ойра-тов Синьцзяна [Горяева, Лан 2020].
У монголоязычных народов, в том числе у калмыков, лиса соотносится с нижним миром [Басангова 2019, 91]. Плохой приметой считалось встретить в пути лису, запрещалось носить шапки из шкуры животного. При этом кости ее черепа являлись амулетом детей и служили для отпугивания злых духов [Шараева 2011, 69]. Ойраты Монгольского Алтая, Джунгарии лису считают с «черным следом», как приносящую несчастье [Содномпилова, Нанзатов 2016, 52]. Буряты лису связывают с нижним миром и персонажем шаманской мифологии Эрлэн-ханом — властелином мира умерших, судьей мертвых. Также считается, что лиса относится к солнечному божеству и небесному миру [Николаева 2010, 280].
Мотив превращения главных героев в калмыцких сказках на тип АТ 313 «Чудесное бегство»
В сказке «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») на сюжетный тип 313 С сын табунщика оказывается обещанным хозяину вод в обмен на жизнь отца. Здесь следует подчеркнуть, что в данной сказке присутствует требование «Отдай то, чего дома не знаешь», характерное для русской сказки.
В сказке «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») девушка подводного мира помогла герою выполнить поручение хана, а потом сбежала с ним. Когда их почти настигли, девушка толкнула юношу, он превратился в бахчу, она сама — в старушку, затем юноша был обращен в буддийский храм, а девушка приняла облик старухи. Добравшись в свое кочевье, девушка вернулась к себе домой, юноша — к родителям. Через некоторое время юноше засватали девушку, на пире по этому случаю забытая спасительница подарила птиц. Из разговора голубки и голубя все узнали о заслугах девушки, и юноша женился на ней [Хальмг туульс 1968, 163—166].
Превращение главного героя происходит благодаря чудесным способностям девушки из иного мира. Если сама чародейка оборачивается в старушку, то юношу она превращает в бахчу и буддийский храм — хурул. Вышеприведенный текст показывает, что девушка, бежавшая от хозяина вод — усн хадын эзн , является представителем среднего мира людей, так как, достигнув кочевья хана, она возвращается домой. Можно сделать вывод, что люди, побывавшие в ином мире, приобретают чудесные способности, в частности умение менять облик, причем не только свой, но и другого человека.
В сказке под названием « h орвн к YY кт э эмгн е вгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») из репертуара сказителя Санджи Манжикова на сюжетный тип 313 Н* «Бегство от ведьмы» в контаминации с типом 707 младший сын хана обладает способностью перевоплощаться. Вместе со своими шестью братьями он является чудесно рожденным. В сказке С. Манжикова формула называет только золотые части тела мальчиков, нет указания на серебряные, но отметим противопоставление «перед — зад», «верх — низ»: грудь и коса ( алтн чеещтэ, алтн куклтэ ). Согласно традиционным представлениям народа, волосы — это вместилище жизненной энергии человека, поэтому их длина соответствовала ее уровню. Так, в устной традиции калмыков один из сказочных героев носит имя Хээрт Хар кукл — Хартин Черная Коса. В сказке «Мо h а к e в Y H» («Юноша-змей») герой, покидая мир людей в облике лебедя, свою змеиную кожу оставляет супруге, наказав спрятать ее и никому не отдавать. Жена скрывает змеиное обличие мужа в правом накоснике ( шиврлг ) [Хальмг туульс 1961, 205].
Чудесные внешние признаки мальчика, младшего из братьев, дополняются его способностью перевоплощаться. Так, когда ханские табунщики покидают дворец матери и сына, герой отправляется за ними, приняв облик серого воробья ( бор богшада ) [Хальмг туульс 1968, 38]. В виде птицы он достигает дворца, слышит о диковинках от ханских жен-шулмусок и добывает их. В место слияния неба и земли за золотым павлином, который может доставить в любое место, герой отправляется серым воробышком. Вызволив птицу из клетки, возвращается домой герой уже верхом на волшебном павлине.
В следующий раз, когда герой сопровождает ханских табунщиков, сказитель уже не отмечает перевоплощение героя, а с помощью лексемы « нисэд » указывает на то, что юноша полетел за ними воробышком [Хальмг туульс 1968, 38].
Следует отметить в рассматриваемом сюжете превращение слепой супруги хана в зрячую: « билг билгин хур орулад, уhаhад арчулад, хортинхорн эм туркэд, YYд-тYYд кYршго yy ^h цаhан эмэн туркэд, гер-гэн эдгдhдд авчкв » (дождь исцеляющий послал, омыл, очистил, втер лекарство ядовитое, натер белым снадобьем быстро заживляющим, супругу свою излечил) [Хальмг туульс 1968, 41]. Здесь дождь может быть воспринят как животворящее начало, которое возрождает к жизни невинно наказанную жену хана. В калмыцком героическом эпосе властелин страны Бумбы Джангар также вызывает исцеляющий чудодейственный дождь, чтобы воскресить своих богатырей, павших на поле боя (подробнее представления о дожде см.: [Куканова 2021]).
Превращение представителя антагониста в сказке на тип АТ 313
На материале калмыцкой волшебной сказки на тип 313 отмечается превращение не только главного героя, его помощников, но и представителя антагониста. Сказка «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») показывает, что посланец владыки хозяев воды ( усн хадын хан ) превращается в человека из легких и печени, плававших в воде, пугая табун, который пришел на водопой.
Владыка хозяев воды усн хадын хан в мифах калмыков — дух-хозяин водной стихии. Согласно наблюдениям С.Ю. Неклюдова: «Для его умилостивления прибегали к серебряным монетам (отражение мифологических взглядов о связи серебра с водой). В сказках владыка хозяев воды изображается седым стариком; его дочь, выходящая из озера и спасенная героем, имеет облик змеи (что соответствует общемонгольским мифологическим представлениям о змееподобии хозяев урочищ и водоемов)» [Неклюдов 1990b, 551].
В рассмотренном сказочном тексте усн хадын эзн выступает как распорядитель душ, отмеряющий жизнь человека: его слуга приходит забрать душу старика-табунщика, но обменивает ее на жизнь его сына. Посланец владыки хозяев вод забирает и уводит с собой юношу, который, дойдя до середины воды, ныряет и видит в подводном мире большую красивую войлочную кибитку [Хальмг туульс 1968, 164].
Отметим, что в традиционном мировоззрении калмыцкого народа владыкой царства мертвых предстает Эрлик Номин-хан, он посылает своих слуг — эрликов за душами тех, кто завершает свой земной путь. Верховный судья в загробном мире Эрлик-хан имеет бычью голову (подробнее см.: [Неклюдов 1990с]).
Превращение предметов в сказках на сюжетный тип АТ 313
В калмыцких сказках на сюжетный тип 313 «Чудесное бегство» разработан мотив превращения не только персонажей, но и предметов, которые достаются героям от их родителей. В сказке « h орвн к YY кт э эмгн е вгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») сестры находят в своем кочевье вещи, оставленные родителями. Так, точило отец приготовил для старшей дочери, для средней и младшей — мать определила рубель и шумовку. Убегая от людоедов-мусов, три сестры заклинают эти предметы [Хальмг туульс 1968, 35]. Указанные предметы являлись типичными для быта калмыков-скотоводов. В сказке, полученные в дар от родителей, они становятся чудесными, трансформируя сказочное пространство и создавая труднопреодолимые препятствия для стариков-мусов.
В варианте сказки на этот же тип «Эгч-д Y h урвн» («Три сестры») три девочки бросают вещи, полученные от родителей, спасаясь от преследующей их старухи-людоедки. Сестры по очереди кидают рубель, точило и гребень, образуя препятствия в виде кручи, реки и глубокой ямы [Хальмг туульс 1972, 145—149].
В.Я. Пропп, рассмотрев сюжет «Чудесное бегство», отмечает, что через горы и леса, как препятствия механические, преследователь про- грызается, река окончательно останавливает антагониста. При этом река как магическое препятствие имеет особое значение и является границей. Эта река очень часто представляется огненной [Пропп 2000, 306].
Река как непреодолимая преграда может быть связана с сильной магической и мифологической функцией воды:
Мифомагическая семантика воды была столь сильна, что даже после разрушения мифологического сознания и частичной трансформации сказочной поэтики, когда вместо трех элементов остается один, им является именно водная преграда. Вероятно, причина этого заключалась также в том, что вода и в реальном быту наиболее опасная и трудно преодолимая преграда [Добровольская 2009, 104].
Следует отметить еще один пример превращения предмета в сказке « h орвн к YY кт э эмгн е вгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») на рассматриваемый сюжетный тип. Сын находит чудодейственную веточку таволги: если трижды крикнуть, трижды свистнуть и воткнуть ее в землю, то появляется желто-пестрый дворец снизу без подпорок, сверху без креплений [Хальмг туульс 1968, 37].
Заключение
Особенностью калмыцкой сказки «Ах д Y хойр хул h н» («Братья-мыши») на сюжет «Чудесное бегство» является то, что в ней фигурирует мифическая птица хан Гаруда, превращающаяся в человека при надевании одежды. В сказке «Иван-царевич гидг к e в Y н э тууль» («Сказка о юноше по имени Иван-царевич»), заимствованной из русской сказочной традиции, герой также выхаживает птицу хан Гаруду, а не орла.
Благодарная лиса помогает герою сказки «Ах д Y хойр хул h н» («Братья-мыши») через ее способность к перевоплощению и мудрыми советами. В номинации лисы сказителем одновременно указывается новый образ и ее изначальная сущность. Превращение главного героя сказки «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») происходит благодаря чудесным способностям девушки иного мира при побеге из ханства владыки хозяев воды. Главный герой сказки « h орвн к YY кт э эмгн е вгн хойр» («Старик и старуха c тремя дочерями»), младший из братьев, обладает способностью менять облик, превращаясь в воробья. Сказка «Усн хадын хан» («Владыка хозяев воды») показывает, что посланец владыки хозяев воды ( усн хадын хан ) превращается в человека из легких и печени, плававших в воде. В сказках « h орвн к YY кт э эмгн е вгн хойр» («Старик и старуха с тремя дочерями») и «Эгч-д Y h урвн» («Три сестры») разрабатывается мотив превращения предметов, которые достаются героям от их родителей. Непреодолимой для антагониста становится река, в традиционном мировоззрении калмыков представляющаяся границей миров.
Список литературы Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "чудесное бегство" (АТИ 313)
- Бараг Л.Г., Новиков Н.В. Примечания // Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. Т. 2. М.: Наука, 1985. С. 389-459. (Литературные памятники).
- Басангова Т.Г. Животные в калмыцком фольклоре / отв. ред. Д.В. Сока-ева. Элиста, КалмГУ, 2019. 192 с.
- Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог. URL: https:// www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/ (дата обращения: 21.06.2024).
- Иохельсон В.И. «Магическое бегство» как общераспространенный сказочно-мифологический эпизод // Сборник в честь 70-летия Д.Н. Анучина. М.: Типолитография Кушнерева, 1913. С. 155-166.
- Виноградова Л.Н. Из словаря «Славянские древности». Превращение // Славяноведение. 2004. № 6. С. 67-70.
- Горяева Б.Б., Лан Ю. Лиса как персонаж сказок о животных ойратов Синьцзяна // Монголоведение (Монгол судлал). 2020. Т. 12. № 2. С. 315-325.
- Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.: ГРВЛ «Наука», 1977. 199 с.
- Куканова В.В. Представления о дожде у калмыков и их предков (на материале фольклорных источников) // Новый филологический вестник. 2021. № 3(58). С. 469-484.
- Левин И.Г. Этана. Шумеро-аккадское предание: автореф. дис. ... к. фи-лол. н. Ленинград, 1967. 15 с.
- Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М.: РГГУ, 1994. 136 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 4).
- (а) Неклюдов С.Ю. Гаруда // Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 141-142.
- (b) Неклюдов С.Ю. Усун-хадын эзен // Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 551.
- (с) Неклюдов С.Ю. Эрлик // Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 621.
- Николаева Н.Н. Лиса в эпическом фольклоре бурят // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 10. С. 277-283.
- Померанцева Э.В. Народные верования и устное поэтическое творчество // Фольклор и этнография. Л.: Наука, 1970. С. 158-168.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / научн. ред., текстологический коммент. И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
- Содномпилова М.М., Нанзатов Б.З. Зооморфный код в контексте этногенетических связей: лиса в традиционных представлениях монгольских народов // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2016. Т. 15. С. 48-63.
- Тудоровская Е.А. Проблема взаимоотношений народных верований и сказки (на материале сюжета «О запродаже водяному») // Советская этнография. 1974. № 3. С. 112-119.
- Шараева Т.И. Обряды жизненного цикла калмыков (XIX в. - нач. ХХ в.). Элиста: НПП «Джангар», 2011. 223 с.
- Aarne A. Die magische Flucht. Eine Mдrchenstudie. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1930. 165 S. (Folklore Fellows: FF Сommunications. № 92).