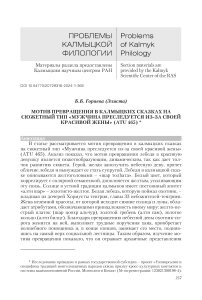Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТИ 465)
Автор: Горяева Б.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТИ 465). Анализ показал, что мотив превращения лебедя в красивую девушку является сюжетообразующим, динамическим, так как дает толчок развитию сюжета. Герой, желая заполучить небесную деву, прячет обличие лебедя и вынуждает ее стать супругой. Лебеди в калмыцкой сказке описываются желтоголовыми - «шар толhата». Белый цвет, который коррелирует с солярной семантикой, дополняется желтым, усиливающим эту связь. Солнце в устной традиции калмыков имеет постоянный эпитет «алтн шар» - золотисто-желтое. Белая лебедь, которую поймал охотник, -младшая из дочерей Хормусты тенгрия, главы 33 небожителей-тенгриев. Жена неземной красоты, от которой исходит сияние солнца и луны, обладает атрибутами, обозначающими принадлежность иному миру: желто-пестрый платок (шар цоохр альчур), золотой гребень (алтн сам), золотое кольцо (алтн билцг). Благодаря превращению небесной девы охотник-сирота женится на ней, выполняет трудные поручения хана, приобретает волшебного помощника и, в конце концов, занимает его место, поднявшись на самый верх социальной лестницы. Таким образом, изучение мотива превращения показало, что он отражает архаичные представления о лебеде как священной птице, имеющей сакральное значение в традиционной культуре этноса, в том числе и материальной в виде костюма замужней женщины. Лебедь наделяется функцией медиатора между мирами и почитается у калмыков как тотемная птица.
Калмыцкая волшебная сказка, мотив, превращение, герой, лебедь
Короткий адрес: https://sciup.org/149145258
IDR: 149145258 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-365
Текст научной статьи Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТИ 465)
В мотиве превращения отражаются народные представления о способности живого существа или предмета изменять свой облик, внешний вид, ипостась, т.е. о возможности стать другим существом, растением, предметом, камнем и т.п. [Виноградова 2004, 67]. Понятие мотива освещено в теоретической литературе [Веселовский 1989; Путилов 1975; Силантьев 2004]. Целью данной статьи является рассмотрение мотива превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТU 465).
Материалом статьи явились тексты, опубликованные в разное время в различных сборниках. Наиболее ранним по времени фиксации текстом является сказка «Мергн көвүн Царкин хан хойр» («Юноша-стрелок и Цар-кин хан»). Данная сказка на ойратском ясном письме «тодо бичиг» опубликована в «Записках Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Ар-хеологическаго Общества» (далее – ЗВОИРАО) [Позднеев 1891, 17–48].
Текстологический анализ показал, что эта же сказка в записи А.М. Позднеева включена составителями в третий том сборника «Хальмг туульс» («Калмыцкие сказки») и издана в современной калмыцкой орфографии на кириллице [Хальмг туульс 1972, 186–197].
Вариантами сказки на данный сюжетный тип являются сказки «Өнчн көвүн Бөк» («Юноша-сирота Бёк») из репертуара Э.К. Лиджиева [Алтн зүн темн 1995, 19–22] и «Хаана тускар» («О хане») из репертуара сказителя С. Бутаева [Буутан Санҗин туульс 2008, 50–64].
«Сказка про три чуда», вошедшая в сборник «Медноволосая девушка», опубликована в переводе А.М. Позднеева, у которого она называется «Про стрелка-молодца и Царкин-хана» [Медноволосая девушка… 1964, 115–128]. Русский перевод сказки опубликован также в сборнике «Калмыцкие сказки» [Калмыцкие сказки 1962, 224–237].
Приведем краткое содержание сказки «Мергн көвүн Царкин хан хойр» («Юноша-стрелок и Царкин хан») на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТU 465) в записи 1884 г. А.М. Позднеева.
Сказка «Өнчн көвүн Бөк» («Юноша-сирота Бёк») является вариантом сказки на рассматриваемый сюжетный тип.
Герой также добывает оперение лебедя, берет в жены небесную деву. Хан отправляет юношу-сироту принести неведомо откуда то, незнамо что. Хозяином волшебного существа Мурзы в этой сказке является персонаж устной традиции калмыков – мус. Благодаря подсказкам своего чудесного помощника Бёк обменивает его на молоток, который строит 9-ти ярусный дворец за 9 взмахов. У другого хана обменивает Мурзу на трость, которая при ударе одним концом пехотинцев выпускает, при ударе другим концом – конницу. Юноша возвращается домой, дважды одолевает войско хана. Повелитель решает примириться, зовет во дворец сироту. Жена учит, что сказать хану. Метафорично юноша описывает ситуацию, хан наказывает сына, который желал заполучить супругу сироты, отдает полханства герою [Алтн зүн темн 1995, 19–22].
Сказка «Хаана тускар» («О хане») повествует о герое, который женится на красавице, имеющей птичье обличье. Хан Ваня хочет отнять ее и ста- вит перед героем трудные задачи, которые решаются благодаря чудесной супруге и волшебному невидимому помощнику Мурзе [Буутан Санҗин туульс 2008, 50–64]. Отметим, что эта калмыцкая сказка близка и соотносима с восточнославянскими сказками на сюжет АТU 465. Герой ранит птицу, приносит ее домой, и, выполнив указания, приобретает чудесную супругу, которая ткет ковер, так же, как и жена-красавица русской народной сказки [Горяева 2008; Борлыкова 2015].
Мотив превращения небесной девы в сказках на сюжетный тип АТU 465
Мотив превращения лебедя в красивую девушку в сказках на рассматриваемый сюжетный тип является сюжетообразующим (по Б. Путилову), динамическим, так как дает развитие сюжету. Смена облика небесной девой вызывает желание героя заполучить ее в жены, поэтому герой, спрятав оперение лебедя, вынуждает ее стать супругой.
Две сестры небесной девы, отчаявшись после долгих поисков и не имея возможности ожидать дальше, покидают ее со словами: «Ну, видимо это твоя судьба» («“Җе, ода чини хүвчн эн санҗ җахн”, – гиҗ келәд, нисч одв») [Позднеев 1891, 18].
Отметим, что внешний вид лебедей в калмыцкой сказке описан следующим образом: «шар толһата хун» («желтоголовый лебедь»), подчеркивается, что у птицы желтая голова. Помимо белого цвета, который коррелирует с солярной семантикой, отмечается еще и желтый, усиливающий эту связь. Солнце в устной традиции калмыков имеет постоянный эпитет «алтн шар» – золотисто-желтое.
Вышеуказанные сказки на рассматриваемый сюжетный тип показывают, что юноша-охотник выкрадывает птичье обличие небесной девы. Герой скрывается и не выдает себя до тех пор, пока небесная дева слезно не начала просить: «Хун кевән олҗ өгсн күүг угатя болхнь, байн болһх биләв. Му күмн болхнь, сән болһх биләв. Ас гисн юминь болад, аль сансн үүлинь бүтәҗ, өгх биләв» («Человека, который найдет мое обличие лебедя, если беден, сделала бы богатым. Если плох, сделала бы хорошим. Все, что он попросит, дала бы, все, о чем думает, исполнила бы») [Позднеев 1891, 18].
В сказке более поздней записи из репертуара Эренджена Лиджиева небесная дева, обыскавшись своего птичьего обличия, нарыдавшись, стала кричать: «Өвгн күн хун-титмим олҗ өгхлә, ааван кеҗ авнав, эмгн күн болхла, ээҗән кеҗ авнав, күүкн күн болхла, эгч-дүүһән кеҗ авнав, көвүн күн болхла, күргән кеҗ авнав» («Если старый человек найдет мое обличие ( букв . венец) лебедя, буду считать ( букв. сделаю) отцом, если старая женщина, буду считать матерью, если девушка, буду считать сестрой, если юноша, женихом сделаю») [Алтн зүн темн 1995, 19].
Отметим, что в варианте сказки, опубликованной в 1891 г., небесная дева лишь предлагает вознаграждение за свое оперение, а в издании 1995 г. героиня готова породниться с представителями срединного мира людей и даже стать супругой человека.
Став женой смертного, чудесная супруга славится своей красотой, весть об этом доходит до хана. Правитель лично приезжает удостовериться в этом, и видит, что жена стрелка красива, словно дочь Эсрен Хормусты, краше которой нет в стране, никто с ней не сравнится, невозможно наглядеться на нее (үлгрлҗ, әдлцүлҗ келм күмн эн орнд уга сәәхн, үзҗ ханшго, Эсрн Хормустани окнла әдл сәәхн бер) [Позднеев1891, 18]. Как видим, сказочный текст подчеркивает исключительную красоту жены героя; ср. в сказке «Өнчн көвүн Бөк» («Юноша-сирота Бёк»): во владении-нутуке хана нет такой красавицы, как жена сироты [Алтн зүн темн 1995, 19]. Сказитель Санджи Бутаев отмечает сияние солнца и луны, исходящее от чудесной супруги, – «сар-нар дуудулсн» ( букв . призывающая луну-солнце) [Буутан Санҗин туульс 2008, 51].
Обратим внимание, что в сказке ранней записи красавица-жена сравнивается с дочерью Эсрен Хормусты. В сказке «Моһа көвүн» («Юноша-змей») на сюжетный тип АТU 400 «Муж (жена) ищет исчезнувшую жену (мужа)» чудесный супруг-змей меняет свое обличие юноши на лебедя, надев птичье оперение, и улетает развлекаться с детьми Хурмусты тенгрия [Хальмг туульс 1961, 205].
В варианте сказки на данный сюжетный тип «Ө Зандн нойн цаһан ху-нын хойрин туск тууль» («Сказка о нойоне О Зандане и белой лебеди») белая лебедь, которую поймал охотник арканом, полученным у владыки хозяина вод, – это младшая дочь Хормусты тенгрия [Позднеев 1897, 145].
В сказочной традиции калмыков Хормуста тенгрий – глава тридцати трех тенгриев-небожителей. С.Ю. Неклюдов пишет, что Хормуста – «в мифологии монгольских народов верховное небесное божество. Восходит к согдийскому Хурмазта, который при принятии согдийцами буддизма был отождествлен с Шакрой (Индра), возглавляющим сонм 33 небесных богов. Хурмазта (Хурмузта) был воспринят средневековыми уйгурами-буддистами и затем (не позднее 15 в.) – монголами» [Неклюдов 1994b, 595–596].
В устной традиции калмыков данный теоним зачастую дополняется лексемой «тенгри». По этому поводу можно привести замечание исследователя о том, что в средневековье восприятие Хормусты «контаминируется с центральным ураническим божеством государственного шаманист-ского культа – Вечным небом» [Неклюдов 1994b, 596].
Помимо неземной красоты следует отметить атрибуты небесной девы. Так, когда она отправляет мужа в путь, чтобы добыть молока тигрицы, красавица-жена вручает желто-пестрый платок (шар цоохр альчур), по которому животное узнает свою бывшую хозяйку.
Для выполнения следующего поручения хана супруга отправляет героя в путь пешком, дав в качестве путеводителя клубок ниток, и для расчесывания спутавшихся волос золотой гребень «алтн сам». Благодаря этому гребню старшие сестры узнают зятя – мужа своей младшей сестры и помогают сироте. Также в качестве атрибута небесной девы следует указать золотое кольцо (алтн билцг), оставленное чудесной женой своему супругу. Именно по нему она узнает о том, что муж добрался до нее, поднявшись в верхний мир, после преодоления препятствий.
Здесь следует отметить, что желто-пестрый цвет является цветообо-значением солнца в традиционной культуре, отражая темные пятна на светиле. Гребень и кольцо героини – золотые, что, согласно исследованиям В.Я. Проппа, есть признак иного мира.
Рассмотрение мотива превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип АТU 465 показывает, что небесная дева спускается на землю в облике лебедя, птичье оперение позволяет ей менять обличье в нужное ей время. Лишившись оперения лебедя, чудесная супруга остается в облике жены-красавицы. Однако, в сказке из репертуара Санджи Бутаева «Хаана тускар» («О хане») герой встречает свою суженую в облике маленькой птахи – «бичкихн шовун», без уточнения ее вида. Герой по имени Чоода решает подстрелить правое крыло птицы, стреляет и ранит ее. Птица говорит по-человечески и обращается с просьбой сохранить ей жизнь. По приезду домой птица просит поместить ее на окне и, когда она, засунув клюв под левое крыло, заснет, ударить. Дождавшись, пока птица заснет, Чоода бьет ее, птица падает и превращается в прекрасную девушку [Буутан Санҗин туульс 2008, 51].
Таким образом, в калмыцких сказках на сюжетный тип АТU 465 мотив превращения небесной девы играет сюжетообразующую роль, служит динамичному развитию сюжета. Красавица-жена спускается с неба желтоголовым лебедем (шар толһата хун) или встречается герою маленькой птахой (бичкихн шовун).
Лебедь в традиционной культуре калмыцкого народа
Небесная дева спускается на землю в виде птицы, которая покорила две стихии – воздух и воду. Лебедь наделяется функцией медиатора между мирами. Лебедь почитается у калмыков как тотемная птица: «при встрече с летящими лебедями, согласно традиционным представлениям, необходимо было молиться» [Бакаева 2009, 113].
Сакральное почитание лебедя в традиционной культуре калмыков отражается в запрете отстрела лебедей. «Не на всякое животное и не на всякую птицу можно охотиться. К некоторым из них калмыки относятся с большим суеверием и страхом. Среди всех птиц лебедь пользуется наибольшим вниманием калмыков. Он почитается самой благородной птицей. Его безнаказанно нельзя трогать. На него дано охотиться не каждому. В лебедя могли стрелять только люди “благородные”, из “белой кости”. Если бы вздумал стрелять в лебедя простолюдин, то он должен непременно соблюсти некоторые правила. Человек, стреляющий в лебедя, должен был сказать: “Я стреляю в тебя по приказу моего нойона, или зайсанга такого-то”. Имя последних непременно должно произноситься вслух. В противном случае может произойти большое несчастье с этим человеком и всей его семьей» [Душан 2016, 196–197], – указывает в своем этнографическом очерке У. Душан. Калмыки остерегались охотиться на лебедей также из-за большой привязанности птиц друг к другу. Считалось, что если убить самку, то самец сам падает на землю с большой высоты и разбивается.
Если выстрел был удачным, охотник отвозил лебедя зайсангу, нойону или духовному лицу, так как могли его есть только люди «благородные». Убитого лебедя одевали в особо сделанную узду. В таком виде лебедь преподносился в подарок, клался он в передней части кибитки на сундук. Охотника обычно щедро одаривали лошадью [Душан 2016, 197]. Нойон или зайсанг, получивший в дар лебедя, делался центром всеобщего внимания, так как не всякий становился обладателем такого подношения.
Знатный соплеменник отваривал птицу, собирал людей своего рода для ритуального вкушения мяса. Э.П. Бакаева пишет: «По воспоминаниям стариков, мясо мелко крошили и подавали с лапшой, чтобы досталось каждому. Членам рода обычно доставалось по щепотке ритуального блюда, возможно, потому это блюдо представлялось чрезвычайно вкусным. Несоблюдение запрета, тем более, без обращения к владельцу, могло пагубно повлиять на совершившего случайное убийство лебедя. Человек, согласно верованиям калмыков, мог заболеть и сойти с ума» [Бакаева 2009, 113].
По мнению Э.П. Бакаевой, «надевание уздечки имитирует конскую упряжь и восходит к представлениям о лебеде как транспортном животном» [Бакаева 2009, 113]. Здесь, на наш взгляд, можно отметить, значение узды, которая приобретала магическую силу и давала власть над птицей так же, как и над конем. Об этом писал Р.Г. Назиров, рассматривая уздечку как «фольклорно-эпический символ большой распространенности». В сказках на сюжетный тип СУС «Хитрая наука» герой, превратившись в коня, может убежать от преследователя, если был продан без узды, но продажа вместе с уздой делает его беспомощным против учителя-колдуна [Назиров]. Этот момент с запродажей коня вместе с уздой представлен и в калмыцкой сказке [Седклин күр… 1960, 9].
С.Ю. Неклюдов, говоря об ойрат-калмыцкой мифологии, замечает, что предания сохранили тотемические мотивы, например, образ лебедя в легенде о происхождении рода чорос [Неклюдов 1994a, 248].
Л.П. Потаповым зафиксирован запрет убивать лебедя у кумандинцев и челканцев, мотивированный тем, что лебедь раньше был человеком. Изучив древнетюркские генеалогические легенды с обращением к этнографическому материалу, исследователь предполагает, что это обстоятельство может быть «смутным воспоминанием о древнетюркской легенде, которая была распространена среди тюрков, расселившихся и в Саяно-Алтайском нагорье» [Потапов 1991, 84]. Не исключается также, что превращение в лебедя символизирует в легенде основание нового тюркского рода, называющегося Лебедь. Такое название рода или племени существует у современных тувинцев и произносится во множественном числе как хуулар (букв. лебеди). При этом возникает следующий вопрос: «Если превращение человека, о котором идет речь в легенде, символизирует основание нового рода у древних тюрков, то почему тогда основатель рода превратился в “белого лебедя”, а не в лебедя вообще? Для чего понадобилось указывать цвет оперения, когда он хорошо известен и не имеет цветовой альтернативы? Ответ может быть только один. Цвет отражает сакральный характер такого превращения. Тюркское слово ак (белый), зафиксированное в пре- дании, имеет еще другое, а именно культовое значение, и переводится как “священный”. Следовательно, превращение персонажа легенды в “белого лебедя” означает превращение его в “священного лебедя”. Следовательно, объяснение этому надо искать в сфере представлений или верований, связанных с почитанием лебедя как священной птицы» [Потапов 1991, 84].
Этот вывод ученого полностью можно отнести и к калмыцкому сказочному материалу. Так, в сказке «Ө Зандн нойн цаһан хунын хойрин туск тууль» («Сказка о нойоне О Зандане и белой лебеди») охотник ловит арканом Усун хадын эзена – хозяина вод трех белых лебедей, «һурвн цаһан хун» [Позднеев 1897, 144]. Действительно, зачем подчеркивается белый цвет птицы? Ответ на вопрос находится в представлениях, основанных на восприятии лебедя как священной птицы. У калмыков так же, как у тюркских народов, белый цвет – символ чистоты помыслов, всего священного. Белому цвету в культуре калмыцкого этноса отведена сакральная роль [Шараева 2003, 270].
Говоря о семантике белого цвета лебедя, следует привести также следующее наблюдение Э.П. Бакаевой: «Лебедь считался “цаһан төрлгтә” и “цаһан төрлтә” (төрҗ гисн үгәс) – “с белым терликом” и “с родственниками белой кости”. Действительно, в этом выражении слова төрлгтә / төрлтә взаимосвязаны. Прежде всего, лебедь считался птицей, связанной с “белой костью”, а с другой стороны, – предстающей в белом одеянии из перьев» [Бакаева 2009, 113]. По замечанию исследователя, выражение «хун шовун цаһан төрлгтә» можно трактовать как «лебедь в белом одеянии “терлик”». Помимо этого, птица лебедь воспринималась как благородная, имеющая «белую кость», ее так и называли «цаһан шовун» – белая птица. Людей знатного происхождения в народной традиции считали «цаһан яста» ( букв . с белой костью).
При этом следует подчеркнуть, что сочетание «цаһан хун» (белый лебедь) является малоупотребительным. Гораздо чаще в сказочной традиции калмыков используется описание «шар толһата хун» – желтоголовый лебедь. Это же обозначение лебедя встречается в эпическом тексте песен «Джанга-ра». Так, в главе, посвященной женитьбе Улан Хонгора из репертуара Ээлян Овла, суженая главного богатыря страны Бумбы в облике желтоголового лебедя спасает его от голодной смерти в пустыне [Җаңһр… 1990, 41].
Образ лебедя, представленного в фольклоре тюрко-монгольской языковой общности как священная птица-прародительница, находит отражение и в национальном костюме тюркских и монгольских народов. Согласно исследованиям Д.С. Дугарова, безрукавка, называемая калмыками цегдг, алтайцами – чегедек, бурятами – хубайси, являлась древнейшей женской одеждой, покрой которой символизировал крылья лебедя, а у некоторых этнических групп – орла, гуся, журавля, тетерева и т.д. [Дуга-ров 1983, 109–111].
Калмыцкими исследователями отмечается, что девичье платье бииз в замужестве сменяется нижним платьем терлг и верхним – цегдг. Не-разделимость этой пары платьев объясняется через призму генеалогического мифа образом лебедя-прародительницы в калмыцком фольклоре [Батырева, Бембеев 2021, 110].
Образ лебедя, воспринимаемого в традиционной культуре калмыков как священная птица, нашел отражение в обрядах, тотемических мотивах образцов устного народного творчества и национальном костюме замужней женщины. Лексическое обозначение лебедя в языке калмыков «цаһан шовун» ( букв . белая птица) указывает на его благородное высокое происхождение.
В сказочно-эпической традиции малоупотребительная лексема «цаһан» (белый) подчеркивает культовое значение лебедя как священной птицы. Широкоупотребительный в устной традиции постоянный эпитет лебедя – «шар толһата» усиливает корреляцию белого цвета с солярной символикой, дополняя его желтым цветом.
Заключение
Мотив превращения лебедя в красивую девушку в сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТU 465) является сюжетообразующим, так как дает толчок развитию сюжета. Красавица-жена спускается с неба в образе желтоголового лебедя (шар толһата хун) или встречается герою как маленькая птаха (бичкихн шовун).
Внешний вид лебедей в калмыцкой сказке дан как «шар толһата хун» («желтоголовый лебедь»), отмечен нами также случай описания как «цаһан хун» («белая лебедь»).
Анализ сказочных текстов показал: юноша-охотник, не выдавая себя, выкрадывает птичье обличие небесной девы и не отдает его, пока она не попросит о помощи или не согласится стать его супругой. Дева-лебедь оказывается младшей дочерью Хормусты тенгрия, главы 33 тенгриев-не-божителей.
Жена неземной (эн орнд уга сәәхн), сияющей (сар-нар дуудулсн) красоты имеет соответствующие атрибуты: желто-пестрый платок (шар цоохр альчур), золотой гребень (алтн сам), золотое кольцо (алтн билцг), которые обозначают принадлежность иному миру.
Образ птицы, которая принадлежит двум стихиям – воздуху и воде, наделяется функцией медиатора между мирами. Среди всех птиц лебедь считается самой благородной птицей. Отношение к лебедю как священной птице вызвало ряд запретов и определенные ритуалы, связанные с убийством лебедя.
Калмыцкие предания сохранили тотемические мотивы о происхождении рода чорос, где лебедь предстает прародительницей.
Образ лебедя в фольклоре тюрко-монгольской языковой общности как священной птицы-прародительницы находит отражение и в национальном костюме калмыков.
Таким образом, анализ мотива превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип АТU 465 показал, что он служит динамичному развитию сюжета, отражая архаичные представления народа о лебеде как священной птице, имеющей сакральное значение в традиционной культуре этноса, в том числе и материальной, в виде костюма замужней женщины. Ге- рой, заполучив в жены небесную деву, вынужден исполнять трудные задачи хана. Благодаря чудесной супруге и волшебному помощнику охотник выполняет поручения повелителя и, в конце концов, занимает его место, поднявшись на самый верх социальной лестницы.
Список литературы Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Мужчина преследуется из-за своей красивой жены» (АТИ 465)
- Алтн зүн темн (Золотая игла). Сказки / сост. Э.К. Лиджиев. Элст: Хальмг дегтр hарhач Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1995. 119 х.
- Буутан Санҗин туульс (Сказки Санджи Бутаева). Записи 1971–1978 гг.: в 2 кн. Кн. 1. / вступ. ст. Н.Г. Очировой; сост., коммент. и прилож. Б.Х. Борлыковой. Элиста: КИГИ РАН, 2008. 308 х.
- Җаңһр. Хальмг баатрлг эпос. 3-гч һарц. Элст: Хальмг дегтр һарһач, 1990. 287 х.
- Калмыцкие сказки / сост., примеч. и словарь С.Д. Алексеева, Л.С. Сангаева. Элиста: Калмгосиздат, 1962. 332 с.
- Медноволосая девушка. Калмыцкие народные сказки / перевод, сост. и примеч. М. Ватагина. М.: Наука, 1964. 272 с.
- Позднеев А.М. Калмыцкие сказки // Записки Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Т. VI. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1891. С. 17–48.
- Позднеев А.М. Калмыцкие сказки // Записки Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Т. Х. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1897. С. 139–163.
- Седклин күр. Элст: Хальмг дегтр һарһач, 1960. 86 х.
- Хальмг туульс. 1-гч боть / сост. Б.Б. Сангаджиева, Л.С. Сангаев. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1961. 220 х.
- Хальмг туульс. 3-гч боть / сост. Н.Н. Мусова, Б.Б. Оконов, Е.Д. Мучкинова. Элиста: Респ. тип. Управления по печати при Совете министров Калмыцкой АССР, 1972. 252 х.
- Бакаева Э.П. Сакральные коды культуры калмыков. Элиста: ИКИАТ, 2009. 150 с.
- Батырева К.П., Бембеев Е.В. Традиционный калмыцкий женский костюм в системе народного искусства // Nomadic civilization: historical research. 2021. № 1(4). С. 106–117.
- Борлыкова Б.Х. О сюжетных типах калмыцких волшебных сказок (репертуар сказителя Санджи Бутаева) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2015. № 3. С. 137–141.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 405 с.
- Виноградова Л.Н. Из словаря «Славянские древности». Превращение // Славяноведение. 2004. № 6. С. 67–70.
- Горяева Б.Б. Волшебные сказки из репертуара сказителя Санджи Бутаева // Буутан Санҗин туульс (Сказки Санджи Бутаева). Записи 1971–1978 годов: в 2 кн. Кн. 1 / вступ. ст. Н.Г. Очировой; сост., коммент. и прилож. Б.Х. Борлыковой. Элиста: КИГИ РАН, 2008. С. 252–262.
- Дугаров Д.С. Лебедь в орнаменте женского костюма тюрко-монгольских народов // Советская этнография. 1983. № 5. С. 104–113.
- Душан У.Д. Избранные труды. Элиста: КИГИ РАН, 2016. 376 с.
- Назиров Р.Г. Бесценная уздечка. URL: http://nevmenandr.net/nazirov/nazirov-uzdechka.pdf (дата обращения: 11.01.2024).
- (a) Неклюдов С.Ю. Ойрат-калмыцкая мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2: К–Я / гл. ред. С.А. Токарев. М.: Российская энциклопедия, 1994. С. 247–248.
- (b) Неклюдов С.Ю. Хормуста // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2: К–Я / гл. ред. С.А. Токарев. М.: Российская энциклопедия, 1994. C. 595–596.
- Потапов Л.П. Элементы религиозных верований в древнетюркских генеалогических легендах // Советская этнография. 1991. № 5. С. 79–86.
- Путилов Б.Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору. М.: Наука, ГРВЛ, 1975. С. 141–155.
- Силантьев И.В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 286 с.
- Шараева Т.И. К проблеме изучения маркеров рода: символика и функции өлгц // Монголоведение. 2003. № 2(1). С. 265–272.