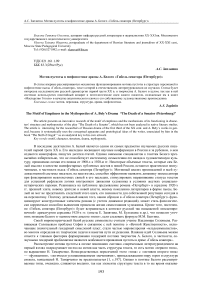Мотив пустоты в мифопоэтике драмы А. Белого "Гибель сенатора (Петербург)"
Автор: Заплатин Андрей Сергеевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые рассматриваются механизмы функционирования мотива пустоты в структуре персонажей и мифопоэтике пьесы «Гибель сенатора», текст которой в отечественном литературоведении не изучался. Статья будет интересна исследователям русской драматургии первой трети XX в. и творчества А. Белого в целом, так как в ней системно используются понятийный аппарат и поэтологические идеи самого писателя, изложенные им в книге «Мастерство Гоголя» в качестве аналитического ключа к его собственному художественному произведению.
Мотив, персонаж, структура, драма, мифопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/148178480
IDR: 148178480 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Мотив пустоты в мифопоэтике драмы А. Белого "Гибель сенатора (Петербург)"
В последние десятилетия А. Белый является одним их самых предметно изучаемых русских писателей первой трети XX в. Его наследию посвящают научные конференции в России и за рубежом, о нем издаются монографии, пишутся десятки статей. Однако внимание специалистов к текстам Белого чрезвычайно избирательно, что не способствует системному осмыслению его вклада в художественную культуру, прояснению логики его поиска от 1900-х к 1920-м гг. Некоторые объемные тексты, которые сам Белый мыслил в качестве манифестарных публичных жестов в новой России, остаются практически неизученными, в частности пьеса «Гибель сенатора (Петербург)». Мотивный анализ произведений и всей художественной системы писателя, на наш взгляд, способен эффективно выявлять динамику поиска автора при фиксировании межтекстовых связей в его наследии, стимулировать выравнивание статуса текстов для успешной рефлексии логики внутреннего движения художника в условиях жестких социальноисторических перемен. Решившись на публичное предъявление романа «Петербург» в середине 1920-х гг. прежней элите, новому зрителю и новой власти, новому поколению литераторов в форме пьесы, Белый не мог не представлять следствий этого шага, его значимости для собственной репутации сегодня и на перспективу. Поэтому детальный анализ того, каким образом в «Гибели сенатора (Петербург)» функционируют конструктивные элементы романа (с учетом динамики редакций), может стать филологически корректным способом выявления процессов жизни самосознания художника. Кроме того, постепенно «Гибель сенатора (Петербург)» будет встраиваться в контекст русской так называемой «инсцениро-вочной» драматургии середины 1920-х гг. (опыты Е. Замятина, М. Булгакова и др.), что позволит уточнить позицию Белого в «ценностном диалоге эпохи», если следовать формуле М.М. Бахтина.
Своей мировоззренческой базой русские символисты считали учение Владимира Соловьева. Развиваемая Соловьевым проблема Софии и связанное с ней понятие о «Вечной Женственности», включающие значительный гендерный смысловой пласт, стали частью мировоззрения «младосимволистов», во многом определив их творческие задачи и наметив пути их решения. Влияние идей Соловьева можно отнести к главным факторам формирования гендерной поэтики творчества А. Белого, в частности, созвучными гендерной проблематике являются особенности проявления пустоты в драме «Гибель сенатора».
Рассмотрение мотива пустоты в логике понимания «мотива» современным литературоведением на первый взгляд подразумевает взгляд на мотив как часть структуры текста, то есть мотив «первого типа», по выражению Н. Тамарченко. Непосредственных пересечений этого «типа» с «мотивом второго типа» — «функциями», «логически устанавливаемыми значениями», принадлежащими миру героя и структуре сюжета, концепцией Н. Тамарченко не предполагается [1, с.197]. Однако в поэтике Белого рассматриваемые типы, очевидно, сливаются воедино, так как элементы структуры текста в то же время оказыва- ются и элементами структуры сюжета. О возможности такого подхода к структуре текста и сюжета упоминается Белым в исследовании «Мастерство Гоголя», где о сюжете им было замечено следующее: «...Он не вмещается в пределах, обычно отмежеванных ему; он развивается „вне себя“; он скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, в ритме; в содержании...» [2, с.43]. Данное понимание сюжета становится причиной того, что мотив в виде словесных знаков или формул (традиционных элементов структуры текста) у Белого входит в состав сюжета и героя или персонажа (пример подобного понимания мотива – упоминаемая Н. Тамарченко статья А.П. Скафтымова «Тематическая композиция романа „Идиот”«, где мотивы гордости и смирения рассматриваются как элементы структуры персонажей). Сходное понимание мотива и персонажа представлено в работе О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра»: «В сущности, говоря о персонаже, тем самым пришлось говорить и о мотивах, которые в нем получали стабилизацию; вся морфология персонажа представляет собой морфологию сюжетных мотивов» [3, с.221-222].
Мотив пустоты в художественных и теоретических работах Белого связан с упоминаниями об антагонизме между змеиным и птичьим началом. Так, в статье «Кризис культуры» заметна названная связь, Белый указывает на опасность «запустения», предстающего в образе «змеиного»: «Запустение устремило на нас свой чарующий взгляд, как удав: мы как птички летим в пасть удава; при этом мы думаем: мы – нападаем; быть может, так думает птичка, летя прямо в пасть» [4, с.277]. «Запустение мерзости» и личное «я» в образе ворона объединяются Белым в единый геометрический символ – «круг» (точнее – окружность), также имеющий черты «змеиного» и через схожесть с «нулем» связанный с мотивом пустоты: «Линия личности, линия времени в нас загибается кругом: змеею кусает собственный хвост» [4, с.273]. Способ выхода из замкнутого круга «запустения мерзости» и «линии личности», предлагаемый в рассматриваемой статье, аналогичен предложению преодолеть границу между «добром» и «злом» в докладе об Александрийском периоде, с отличием в «геометричности» формулировки: размыкание кругового движения можно достичь только «восходя от лежащего ниже», но не «в нападенье на ниже лежащее» и не в искажении его. Способ выхода из дурной бесконечности Белого также имеет геометрические черты. Разомкнутое кольцо должно стать спиралью символизма, объединяющей в себе круг (сущее, догмат, ноль как знак мотива пустоты) и прямую линию (мгновение, эволюцию, цивилизацию).
В структуре мужских персонажей мотив пустоты определяет логику их развития и с определенной закономерностью отражается на портретных характеристиках. Мотив пустоты как часть метасюжета, проявляющегося в образе Петербурга: «Прохожий (прохожему). Его и нет вовсе... а кажется, будто он существует... (Проходят.)» [5, с.162], – проявляется и на уровне составляющих его сюжетных линий, на уровне персонажей.
Образ Николая Аполлоновича (в первых картинах драмы) представляет собой пример наиболее гармоничного баланса в проявлении «птичьего» в сознании и вне его, которое заполняет вакуум «запустения», «торичеллиеву пустоту» [5, с.61] вокруг и внутри телесной оболочки, уравновешивается пустота чрева, благодаря чему Аблеухов имеет правильную форму тела. Однако появление бомбы указывает на отсутствие гармонии и в Николае Аполлоновиче, и в доме Аблеуховых. Бомба, то есть сжатая пустота, которая впоследствии оказывается «кукишем с маслом», заставляет испытать «вздутие», наметившееся еще в начале пьесы, где отмечается изначальная (в первой картине) утробность мысли: «...беременность безобразна; мужчина, беременный мыслью, не может казаться красивым; а я... я беременен философской системою, прорастающей в мир чрез меня» [5, с.23]». Постепенное раздувание Николая Аполлоновича является следствием нарастания мотива пустоты в структуре персонажа.
Наличие вакуума змееобразной мысли в сознании сенатора и задавленное «чрево», то есть уничтожаемая героем «витиеватость» жизни, в реальности отражается на его облике в неоднократно отмеченной «сухости» фигуры. Вакуум как бы «высасывает» сенатора изнутри, следствием чего и является описываемое строение тела, геометричность его формы: «фигура – геометрическая: сидит в собственном кубе и нас садит в кубы» [5, с.17].
Персонажем, мотив пустоты в структуре которого наиболее заметен, является Липпанченко. Пустота чрева, не сдерживаемая ничем, разрастается, вследствие чего герой отличается как бы затмевающим его образ, вышедшим на передний план животом: «Охранник (с видом скопца). Как хватает на все вас/ Липпанченко. На то отдаю свой живот... (Хлопает себя по животу.)» [5, с.126-127]. Именно Липпанченко является автором идеи отдать на хранение Николаю Аполлоновичу «кукиш с маслом», то есть, по сути, он причастен к авторству «пустоты».
В итоге мотив пустоты в структуре всех мужских персонажей пьесы становится доминирующим. Аполлон Аполлонович погибает, а Николай Аполлонович становится «Кукой». Характеристики формы тела персонажей находятся в зависимости от иерархии, согласно которой персонажи расположены относительно «пустоты».
Логика развития женских персонажей не полностью соответствует нарастающему доминированию в сюжете пьесы мотива пустоты.
Если рассматривать персонажей на основе критерия инициативы, то Лихутина и Аблеухова отличаются ее наличием. Инициативность женских персонажей выявляет инициативную пустоту и ставит под сомнение соответствие таких персонажей, как Николай Аполлонович и Аполлон Аполлонович Аблеухо-вы и Сергей Сергеевич Лихутин, статусу героев. Возвращение Анны Петровны в дом Аблеуховых, визит Софьи Петровны на бал к Цукатовым и ее игнорирование знаков внимания со стороны Николая Аполлоновича — определяющие развитие сюжета поступки совершены вопреки инициативе мужских персонажей.
Пустота как элемент персонажа Лихутиной не нарастает подобно тому, как это происходит у Николая Аполлоновича и прочих, являясь органичной и изначально включенной в персонаж. Уже в первой картине Николай Аполлонович диагностирует наличие в Лихутиной пустоты: «Если я – красный шут, вы – японская кукла!» [5, с.28]. Кукольная пустота Лихутиной, таким образом, являясь предзаданной, имеет еще и «положительные» черты. Указание на «японизм» (лексема Белого) мотива пустоты подкрепляется упоминаниями отсутствия перспективы, наличием многочисленных японских пейзажей в гостиной Ли-хутиных, а если обратиться к тексту романа обеих редакций, можно установить автора японских пейзажей – Хокусай. В «Мастерстве Гоголя» сообщается, что японская гравюра для Белого – наиболее близка к символистскому видению действительности. Навык такого взгляда Белый замечает в текстах первой фазы творчества Гоголя, которую автор определяет как «натуральный символизм»: «Дар единственного по органичности сключения натурализма с символизмом был присущ Гоголю как никому; «символика» романтиков в сравнении с натуральным символизмом Гоголя — пустая аллегорика…» [2, с.45]. Белый сравнивает приемы Гоголя с приемами японских мастеров, называет его «мастером-японцем», в чем проявляется стремление ориентировать в собственной системе миропонимания вектор (или «тенденцию», по выражению Белого) относительно антиномии «Восток – Запад». В процессе этой ориентации Белый открывает читателю свои критерии, одним из которых называет японский и итальянский принципы видения и изображения, то есть восточный и западный, азиатский и европейский. Японский принцип Белый считает наиболее универсальным, включающим в себя и итальянский метод в качестве частного случая, представляющий собой «запад в востоке» – результат объединения, которое мыслится автором сверхзадачей развития человека. «Японизм» Лихутиной проявляется как отсутствие перспективы в гостиной, о чем сообщается в экспозиции к первой картине: «Гостиная Лихутиных: небольшая комната без перспективы...» [5, с.13]. Отсутствие чего-либо может восприниматься как «пустота», однако одно из проявлений мотива пустоты – отсутствие перспективы японских пейзажей – мнимое: «Если ты неподвижно сидишь перед мольбертом – одна перспектива; если бегаешь и голова твоя поворачивается – вбок, наискось, вверх – перспектива иная; такая, какую дают японцы» [2, с.128]. Для Белого отсутствие перспективы и японские мотивы гостиной не является признаком пустоты (как это может быть воспринято приверженцами «запада», например, Николаем Аполлоновичем), это проявление нового принципа видения, стоящего на следующем уровне развития после стандартного европейского перспективного видения: «...вспомните гравюру Пиранези: черным по белому встал мир деталей; гравюре этой противостоит Хокусай; в одной гравюре тысячами деталей сложен морщь целого...» [2, с.150]. «Целое», ключевое слово данного высказывания Белого, значимо и в контексте смыслов, порождаемых японской ориентацией в оформлении гостиной Лихутиных. В ряду «запустевающих» и двоящихся мужских персонажей данный намек на целостность в образе Софьи Петровны может восприниматься как отголосок «положительной программы» Белого, артикулируемой им лишь пунктирно: роман «Невидимый град», в основу которого должна была лечь «положительная программа», так и не был воплощен в первоначально задуманном виде. Ответ Белого критикам японской мнимой пустоты в приеме Гоголя может восприниматься и как апология пустоты Лихутиной: «Многие критики тыкают в нарочно данное пустым место пальцем и попадают в небо: «Пустая реторика!» Товарищ критик, – не сюда глаз, а – в «точку», мимо которой – вы; тогда все наполнится; у Гоголя иная пустота полней наполненности «сентенционным штампом»...» [2, с.142]. Следовательно, осмысление Софьи Петровны как персонажа – это, в первую очередь, проблема поиска точки.
Тем не менее в «предисловии» к картине восьмой Лихутина вместе с Николаем Аполлоновичем отождествляются с куклами: «…слева от подъезда – витрина магазина готового платья; за стеклом… две восковых куклы: модели; одна изображает мужчину в студенческой форме; лицо восковой куклы до странности напоминает лицо Николая Аполлоновича; другая кукла изображает Софью Петровну Лиху-тину...» [5, с.158]. Превознеся органичность «символизма» Гоголя на ранней стадии творчества, с неменьшим пафосом Белый утверждает принадлежность «японизма» лишь области стиля, формы, отвлеченных от «качественности»: «Механический натурализм со второй фазы – такая же стилизация, как
«японизм» первой фазы: гипербола – там; гипербола – здесь; там – дифирамб, здесь – осмеяние...» [2, с.165]. Эти слова можно проецировать и на осмысление текстов Белого. Роман «Петербург» и впоследствии «Гибель сенатора», по признанию автора, своей основой в аналогии имеют произведения второй фазы творчества Гоголя – «петербургские повести». Поэтому «пафос осмеяния» свойствен и тексту Белого, который, определяя фазы и характеризуя стили, фактически признается во включении этих стилей в свой художественный «арсенал»: «В „Петербурге“ влияние Г.<оголя> осложнено Достоевским, которого меньше, и откликом „Медного всадника“; здесь нет Гоголя „Веч<еров на хуторе близ Диканьки>“; но есть Г.<оголь> из „Н<оса>“, „Ш<инели>“, „Н<евского >П<роспекта>“ и „З<аписок >C<умасшедшего>“, которого в „С<еребряном >Г<олубе>“ – нет; в основу положен прием „Ш”; высокопарица департаментов, простроченная и каламбурами „Н“, и бредом „ЗС“, и паническим ужасом из „П<ортрета>“; декорация города — по „НП“…» [2, с.302].
Согласно этому признанию Белого, отождествление Софьи Петровны с куклой – проявление тенденции к расщеплению целостной жизни, осмеянию воплощенных в этом персонаже «положительных установок» («Она – эманация бога, „София“»). Источником такой тенденции в своем индивидуальном мифе Белый считает Петербург, поэтому, уловив созвучные своему мифу смыслы у Гоголя, распространяет миф на творческую биографию предшественника. Так, пустота, бывшая мнимой, становится подлинной, «запустение» и расщепление сферы духа, которой принадлежит «софийная» половина Лихути-ной, превращает персонажа в воплощение доминирующей телесности, кукольности. Тенденция эта пред-задана, и к моменту начала действия персонаж (Лихутина) уже является таковым, вопрос развития персонажа переходит в плоскость количества – количества телесности. Телесность основных женских персонажей, будто бы из-за распирающей их пустоты, в ходе развития сюжета и в «засюжетной» перспективе разрастается. Из четвертой картины становится известно, что материала на шелковые кружева (блонды) не хватило: «Софья Петровна. …не говорила модистка про блонды? / Марфушка. Материала, сказывала она, не хватило» [5, с.77]. Данную деталь можно считать указанием на увеличивающиеся формы Лихутиной, что подтверждается характеристиками персонажа в «сириновской» редакции романа «Петербург» (неотъемлемой части генеалогии персонажа): «Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшее ее роскошные формы; если я говорю роскошные формы, это значит, что словарь мой иссяк, что банальное слово „роскошные формы” обозначает для Софьи Петровны как-никак, а угрозу: преждевременную полноту к тридцати годам» [6, с.60].
Персонаж Анна Петровна Аблеухова представляет собой результат развития полноты, а не его предпосылки. После возвращения героини этот факт неоднократно обыгрывается в репликах лакеев и в ремарке: «Справа налево на тротуар выходит Аполлон Аполлонович…; он согнул ручку калачиком; на нее опирается грузная полная дама в пальто не нынешних фасонов, с двойным подбородком, лет сорока шести» [5, с.161]. Кроме гипертрофированной телесности и кукольности (эмблем пустоты), рассматриваемые женские персонажи способствуют генерированию подобных эмблем более завуалированными способами. Оба они вовлечены в общее циркулирование (от лат. circulus – круг) наиболее совершенным образом из всех персонажей: своим возвращением они «очерчивают» идеальные неразомкнутые сюжетные кольца. Анна Петровна возвращается в дом Аблеуховых, только прибавив в весе, Софья Петровна возвращается с бала, персонаж ее при этом не претерпевает никаких изменений, инициатива, перехваченная ими у мужских персонажей, превращается ими в «ноль» – круг, сюжетное кольцо, пустоту.
Знаковым в таком контексте является именование «Кукой» Николая Аполлоновича матерью. «Милый Кука, мой мальчик любимый!..» [5, с.189] – данная реплика первое, что произносится Анной Петровной при первой после разлуки встрече (десятая картина). Слово «Кука» настойчиво (восемь раз) повторяется персонажем в тексте восьмой и десятой картин. Связь значения лексемы «Кука» с лексемой «кукиш» (их объединяет общий корень [7, с.213]) и, следовательно, с семантическим полем «пустота» создает пересечение мотивных ответвлений «пустотности» женских и мужских персонажей. Нарастание мотива происходило через элементность структуры персонажей в неартикулированном непосредственно виде, либо артикулировалось на периферии («кукиш»), постепенно приближаясь к центру творимого пьесой городского пространства – дом Аблеуховых. Артикуляция невыразимого по своей сущности (точнее – «бессущностности») знаменует окруженность персонажей кольцом пустоты, преодолеть его возможно только посредством разрыва. Взрыв бомбы, по замыслу Белого, очевидно, обозначает размыкание круга («запустение мерзости») в спираль символизма.