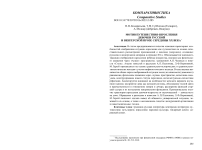Мотив путешествия-взросления девочки в русской и венгерской прозе середины XX века
Автор: Кондратьева Виктория Викторовна, Субботина Татьяна Марленовна, Молнар Ангелика
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка описания характерных особенностей изображения ситуации взросления как путешествия на основе сопоставительного рассмотрения произведений о девочках (девушках), созданных русскими и венгерскими авторами в середине ХХ в. Обосновывается значимость традиции изображения взросления ребенка (подростка, юноши) как физического движения через «чужое» пространство, заложенной А. П. Чеховым в повести «Степь». Анализ повестей и рассказов А. П. Платонова, Л. Ф. Воронковой, М. Гергей производится на основе сравнительно-исторических и сравнительнотипологических методик с учетом мифопоэтического подхода. В ходе анализа выявляются общие черты изображаемой ситуации: выход из начального (домашнего) равновесия, физическое движение через «чужое» пространство, испытание социумом, конструирование нового статуса персонажа, интеллектуально-личностная рефлексия. Акцентируется внимание на особенностях женского варианта изучаемого канона: восприятие дома как женской системы, обоснование тесной связи и преемственности в отношениях матери и дочери, расширение функций старшей сестры и их вытеснение материнскими функциями. Принципиальное отличие траектории взросления девочки-подростка от мальчишеской - замкнутость на доме. Обращение к рассказам и повестям А. П. Платонова, Л. Ф. Воронковой, М. Гергей позволяет сделать вывод об общности универсальной ситуации, лежащей в их основе, а также о несомненном сходстве дискурсивной организации и повествовательных техник.
Традиция, русская литература, венгерская литература, путешествие, путь/дорога, взросление, народная культура, гендерный аспект, дорожный сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/149140454
IDR: 149140454 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-285
Текст научной статьи Мотив путешествия-взросления девочки в русской и венгерской прозе середины XX века
Мотив путешествия, имеющего ритуально-посвятительное значение, можно считать одним из основных сквозных мотивов европейской культуры. Один из векторов традиции в литературе XX столетия — изображение взросления ребенка (подростка, юноши) как физического движения через «чужое» пространство.
Как известно, именно этот мотив лежит в основе повести А. П. Чехова «Степь» (1888). Девятилетний мальчик Егорушка покидает дом матери и отправляется в незнакомый город, чтобы поступить в гимназию. «Герои повести отправляются в дорогу, как в “иной» мир”, — отмечает М. Ларионова, подробно анализируя художественные проявления особого, ритуального характера путешествия Егорушки, путешествия-инициации, «перехода» во взрослый мир [Ларионова 2006, 199].
В настоящей статье предпринимается попытка выделения и описания некоторых характерных особенностей изображения ситуации взросления
** The reported study was funded by RFBR and FRLC, project number № 20-512-23010.
как путешествия в ее гендерном преломлении: на основе сопоставительного рассмотрения произведений о девочках (девушках), созданных русскими и венгерскими авторами в середине XX в.
Обращение в контексте избранной темы к произведению венгерского автора (М. Гергей) не является случайным. Вполне справедливой представляется мысль о допустимости соотнесения венгерской и русской литератур как обладающих «высоким коэффициентом концентрации в себе ментальных установок и культуры» [Дюкин 2015]. О роли и значимости в русском фольклоре и литературе образа дороги «как пространства безграничной свободы в ее русской разновидности — воли», а также в связи с «возможностью ухода от прежних пут и социальных условностей» [Ще-панская 2003, 39] написано немало. В венгерской семиосфере, по мнению С. Г. Дюкина, этот образ также занимает значительное место: «В картине мира венгров прочно закрепляется образ пути, дороги как символа бесконечного скитания, неуспокоенности, поиска своего места в мире и в истории» [Дюкин 2015].
Литературоведческий взгляд на проблемы девичьего взросления, рассмотрение инициальных мотивов в «институтских» повестях Л. Чарской, а затем в «школьных» повестях русских авторов первой половины XX в. убедительно представлены в работах М.П. Абашевой [Абашева 2013], М. Ю. Балиной [Балина 2008]. В данном исследовании мы акцентируем внимание преимущественно на особенностях пространственного контекста мифо-ритуального преображения девочки (девушки) в аспекте обозначенных А. П. Чеховым констант пути/дороги.
Обращение к известной архетипической ситуации в таком аспекте позволит говорить не только о несомненном и разноплановом влиянии творчества Чехова на последующую литературу — русскую и европейскую, но и о рождении под его влиянием новых вариантов известного сюжетного канона. «Всё представляется не тем, что оно есть»,—так оценивает чеховский Егорушка трудности перехода через бескрайнюю степь [Чехов 1955, 50]. И главное «не то» происходит с самим персонажем, оценивающим перемены в себе и в своем восприятии мира. «Все происходит иначе, чем предполагалось», — замечает пятнадцатилетняя девушки по имени Элфи, персонаж одноименной повести венгерской писательницы М. Гергей [Гергей 1987]. Нарушение заданной траектории ее путешествия-взросления становится не только знаком судьбы, но и результатом большой внутренней работы.
Если исходить прежде всего из возрастных параметров главных субъектов путешествия-взросления, то в один ряд с чеховским Егорушкой может быть поставлена Наташа из рассказа А. Платонова «Июльская гроза» (1938). Наташе, как и Егорушке, девять лет — возраст весьма значимый в традиционных народных представлениях. По утверждению Т. А. Новичковой, песенно-фольклорная топика указывает на девять-двенадцать лет как на переходный возраст [Новичкова 2001].
Свой переход через «чужое» пространство — поле — Наташа соверша- ет не одна, с ней ее младший брат, четырехлетний Антошка. По сути, Наташа в этом путешествии, как и чеховский Егорушка, проходит посвящение во взрослую жизнь, но жизнь женскую: она не просто ведет брата (а больше несет его на руках), но и оберегает его, прячет от дождя и молнии. В этом движении через поле раскрывается важнейшая сторона женской сущности — материнство, пока еще неосознанное. Не случайно Антошка замечает, что пахнет сестра «так же, как пахнет все в их избе — и хлеб, и сени, и деревянные ложки, и подол матери» [Платонов 1985, II, 191].
Внезапно в поле детей застигает гроза, и Наташа велит Антошке «спрятаться поближе около нее, а она согнется и сохранит его». Однако Антошка «быстро заскучал и, не послушав сестры, стал смотреть на небо и на землю еще лучше». Так бессознательное, охранительное, женское противостоит в этой детской паре сознательному, сущностному, мужскому. Чтобы защитить брата от опасностей «чужого» пространства, старшая сестра надевает малышу свой платок на голову. Ей хочется, чтобы Антошка был похож на девочку («девочек меньше трогают»), а сама идет простоволосая— «так ей было спокойнее на душе».
Отметим: в мировой культурной традиции именно платок — важнейший атрибут женщины. Древняя сакральная символика приписывает куску полотна на голове функции оберега. В аспекте семиотического статуса платок (покров) в христианстве также связан с женским охранительным началом — как в мистическом, так и в прямом физиологическом смысле, это защита от холода или чужих глаз. Неразрезанный кусок полотна становится основой русской рубахи и другой созданной на ее основе женской одежды, оберегающей женщину от «чужих» и сохраняющий ее для семьи [Зуйкова, Привалов 2017].
А. Платонов — один из немногих русских писателей, в произведениях которого женское начало как символ души, чувства, «нужной родины» воплощено не только в образе матери, но и в образе девочки, девушки-сестры, дочери, внучки. Корни этой философии писатель находит в фольклорной традиции, которую актуализирует в своих сказках. Так, в платоновской сказке «Безручка» мать, умирая, наказывает старшему сыну: «Слушайся во всем сестру, как меня слушался, будет она тебе теперь вместо матери» [Платонов 1985, III, 406].
Буквально выполняя предсмертную просьбу матери, мальчик Семён из одноимённого рассказа (1936) собирается заменить ее младшим: брату и сестре. Надев материнское платье, он начинает распоряжаться по хозяйству, следит за малышами, покрикивает на отца. Загадочную метаморфозу преображения старшего брата в старшую сестру можно объяснить только с учетом ее мифологического подтекста. Вместе с благословением и платьем матери Семен получает и новые женские способности, и новую ответственность, и новые силы, чтобы «поднимать», то есть растить детей. Интересно в этой связи замечание О. М. Фрейденберг о «женско-мужском переодевании» как аналоге производительного акта, что соответствует схеме вегетативного варианта мифологического (циклического) сюжета
[Фрейденберг 1997].
Тема старшей сестры, переживающей стремительное взросление, когда необходимо заменить младшим работающую или рано ушедшую из жизни мать, становится популярной в русской советской литературе первого послевоенного десятилетия. Пример — повесть Л. Воронковой «Старшая сестра» (1955). Повествование о судьбе девочки-пионерки в сущности является рассказом о девичьем взрослении и сочетается с размышлениями о вневременных ценностях: дружбе, ответственности, долге. Утверждаемые автором нравственные постулаты рассматриваются сквозь призму соответствующей времени ортодоксии: абсолютизация коллектива, верность пионерской присяге, натужно декларируемый атеизм.
Однако повесть интересна не этими штампами, а непривычными для литературы середины XX в. размышлениями о роли и ответственности женщины (не на производстве, а в семье), вдумчивым вниманием к психологии девочки, взросление которой ускорило внезапное горе — смерть матери. Тут-то и выясняется, что центром, фундаментом семьи была именно мать, простая домохозяйка, занятая будничными делами, а не отец — передовой рабочий с правильным классовым сознанием, с политинформациями и собраниями. Умирая, мать передает свои охранительные функции старшей дочери, которая сама еще ребенок: «Зина... жалей маленьких... <.. .> береги отца... береги отца...» [Воронкова 1963].
Весьма показательно, что отец охотно подчиняется дочери-подростку, признавая вторичность своего положения в семье. По-видимому такой подход можно объяснить особенностями социокультурной ситуации и менталитетом послевоенной поры. Женщине в этих условиях важно было все силы бросить на обеспечение примитивно-физического благополучия семьи, детей. Фетишизация еды, сытости, телесного благополучия, исходящая от матери, в повести Воронковой наследуется старшей дочерью. Вот показательный фрагмент из разговора отца с дочерью:
— Я тоже тебе буду помогать. Буду на рынок ходить. Только ты мне говори, дочка, когда что купить надо. Делай заказы, так сказать...
— Хорошо, папочка. — И, серьезно посмотрев ему в глаза, Зина сказала: — Только ты, смотри, там, на работе, ни о чем не думай. Ни о чем не беспокойся. Ладно?
— Ладно, — согласился отец. — Вот только трудно тебе будет с ребятами. Ну, уж ты наберись терпения как-нибудь... Что же поделаешь? Уж очень рано у них матери не стало...
— У меня тоже рано, — прошептала Зина [Воронкова 1963].
Топика повести (дом — школа — дом) намечает ту самую символическую дорогу, движение по которой составляет суть путешествия-взросления девочки-подростка. Думается, что в «женском» варианте рассматриваемого сюжета показательна именно возвратность движения. Девочка, пройдя испытания коллективом, социумом, должна «вернуться»
домой, но уже в новом качестве — если не матери, то хозяйки, и понятие «старшая» обозначает теперь не возраст, а изменившийся статус. Именно так завершается путешествие-взросление Зины — рядом с отцом, младшей сестренкой и лучшей подругой-соседкой.
Напомним: движение чеховского Егорушки имеет однонаправленный линейный характер и завершается в городе, где ему предстоит учиться. Однако в финале обоих вариантов возникают весьма сходные размышления о жизни, которая только начинается, с осознанием неизбежного драматизма предстоящего пути. В этом осознании возмужавший ребенок уравнивается со взрослым. В завершающей «Степь» реплике «Какова-то будет эта жизнь?» сливаются голоса взрослого повествователя и ребенка, а «горькие слезы» Егорушки означают не только детский страх перед новым и неизведанным, но и взрослую мудрость повествователя, рожденную пережитым.
Неожиданным для литературы советской поры пророчеством завершается повесть «Старшая сестра». И звучит оно не только и не столько в совместном чтении пионерских стихов, но и в неожиданном обращении отца к детям. В тяжелые, горькие дни дети стали для отца не формально, но по факту — «товарищами»: «Да, товарищи... жизнь — это вещь сложная... На ошибках нам учиться надо. А тяжелые дни переносить стойко. Что ж поделаешь!» [Воронкова 1963].
Практически одновременно с произведением Л. Воронковой появляется повесть венгерской писательницы Марты Гергей «Элфи» (1958) [Гергей 1987]. За короткий срок она была дважды переиздана в Венгрии и награждена премией имени Аттилы Иожефа. В России повесть также неоднократно переиздавалась и известна в переводе Г. Лейбутина и И. Салимона.
Героиня повести М. Гергей — пятнадцатилетняя девушка-подросток Элфи. Вполне средняя, ничем не выделяющаяся на фоне сверстниц — ни внешностью, ни успехами в учебе. Родители ее давно разошлись, у каждого из них теперь своя семья. Воспитывается девочка у бабушки, которая очень устает от внучкиных подростковых проблем. Мать вспоминает об Элфи только тогда, когда нужна нянька для четверых младших детей, рожденных во втором браке. Непросто складываются отношения девушки с отчимом (дядей Шандором) — жадным, двуличным человеком с демагогическими наклонностями. Маленький мир Элфи не очень счастливый, но девушке в нем почти уютно: она мечтает утвердиться в профессии парикмахера, по вечерам бегает на танцы, помогает бабушке и очень любит младшую сестренку. Даже то, что ей, лишенной полноценного дома, приходится «порхать» между бабушкой и матерью, кажется, пока не слишком утомляет девушку-мотылька.
Обращает на себя внимание имя героини — Элфи. Для русскоязычного читателя середины XX в. оно неизменно ассоциируется с понятием «эльф» и с историей Дюймовочки из сказки Г.-Х. Андерсена. В финале своих сказочных странствий Дюймовочка становится королевой эльфов, симпатичных маленьких существ, «беленьких и прозрачных». Отметим, что в венгерском варианте повесть Гергей называется «Szoszi», что на русский язык переводится как «блондиночка». Само же слово «эльф» происходит от родственных слов, имеющихся в германских и скандинавских языках, и, по-видимому связанных с романским корнем «альб» (белый).
Вероятно, изменение названия для русского издания было обусловлено желанием переводчиков обойти иронически-пренебрежительные коннотации слова «блондиночка», возникающие в русском языке. При этом в новом названии сохраняется символика белого цвета — эльфы, как известно, танцуют по ночам на полянах, привлекая людей своим белым свечением. Элфи тоже любит бывать по вечерам в школе танцев, и очарование чистоты и расцветающей женственности привлекает к ней окружающих. Отметим, что семантика белого цвета раскрывается и в образе Зины из упоминавшейся ранее повести «Старшая сестра»: соседка-татарка неизменно сравнивает девочку с «белым преником» (белым пряником).
Относительно беззаботное «эльфийское» существование венгерской девушки неожиданно прерывается событиями 1956 г. Однако сами эти события лишены идеологической акцентуации и рассматриваются скорее в контексте темы взросления Элфи. Для девушки начинается ее собственное путешествие-преодоление. Поначалу ее забирают в свой дом мать и отчим — должен же кто-то за младшими детьми приглядывать. Элфи хорошо понимает, что здесь она посторонняя, чужая, практически служанка, но у нее есть мать, которая в ней нуждается, их даже связывают общие тайны. В этом смысле венгерская писательница, как и ее русские предшественники, утверждает мысль о том, что дом — это женская система, он держится на матери, даже если она слабовольна и зависима от мужа-тирана, как мать Элфи. Однако в скором времени отчим принимает решение бежать с семьей из Будапешта в Америку — и снова распоряжается судьбой Элфи: «Возвращайся к бабушке!» [Гергей 1987].
Думается, именно в этой точке развития сюжета начинается траектория стремительного взросления девушки. Показательна ее эмоциональная реакция на приказ отчима: «Ну уж нет! Ни за что! В его власти прогнать, выбросить ее вон, но не ему указывать, куда идти. Хоть в этом одном будет не так, как он хочет!» Как утверждает С. Г. Дюкин, «легкость, неприятие условностей, сверхэмоциональность, позитивная чувственная взрывчатость» объясняются особенностями венгерского национального менталитета. Нам же этот бунт девушки видится как взрывное начало ее преображения в контексте дорожного сюжета. И хотя Элфи все еще тесно связана с матерью и потому все же решается на отъезд вместе с ее семьей, в ней крепнет внутренняя сила рефлексии, помогающая противостоять обстоятельствам: «Но ведь ее и не спрашивали. Это даже и в голову никому не пришло! А если бы спросили? Что бы она ответила? <...> Кто может собраться с мыслями в такое время, когда над головой у него загорелась крыша?» [Гергей 1987].
Процесс путешествия-взросления в повести М. Гергей связан с образом железной дороги. Этот вариант развития универсальной сюжетной ситуации параллельно возникает и в русской литературе. Один из ярких примеров — рассказ В. Пановой «Валя» (1959). Однако и в этом, железнодорожном варианте сюжета траектория взросления девочки-подростка отличается от мальчишеской своей замкнутостью на доме. Элфи вместе с матерью и ее детишками, среди которых она особенно привязана к младшей — Дунди, покидает Будапешт и едет в приграничный Дьер, но в толпе и сумятице девушка отстает от родственников. Удивительно, но, оставшись без денег, вещей и документов, она не впадает в отчаяние. С ней осталась любимая младшая сестренка — Дунди: «С Элфи Дунди чувствует себя в полной безопасности и совершенно спокойна. И... и, в свою очередь, если Дунди с ней, Элфи тоже не впадает в отчаяние, чувствует себя увереннее. Дунди любит ее больше всех на свете, Элфи отвечает ей тем же. Эта малышка — единственное существо, в чьем сердце Элфи стоит на первом месте» [Гергей 1987].
В опустевшем купе поезда происходит скачкообразное преображение старшей сестры в мать, из-за чего прежние нормы взаимоотношений Элфи с ее собственной матерью практически теряют свою значимость и перестают действовать: «Вот почему, насколько бы безвыходным и глупым ни казалось положение, Элфи не унывает: авось кривая вывезет» [Гергей 1987].
Преображается не только Элфи, меняется мир вокруг нее. Куда-то исчезает шумная, торопливая толпа, а люди, оказавшиеся вместе с сестрами в зале ожидания железнодорожного вокзала, всячески проявляют к ним свою симпатию. Элфи с готовностью помогают и крестьянка, подкармливающая малышку, и пожилой железнодорожник, и официант в ресторане. Говоря о важнейших условиях консолидации путешествующих, Т. Б. Ще-панская прежде всего выделяет фактор возникающего дорожного родства: «Символической основой преодоления отторжения и консолидацией сообщества выступает матрица родства, в особенности материнства» [Ще-панская 2003, 243].
В контексте рассматриваемой нами универсальной ситуации речь идет не только о преображении сестринских чувств в материнские, но и о возникновении нового «сестринства». Помимо сестры-дочери Элфи обретает в своем путешествии и близкую подругу, ведь никто из прежних приятельниц не принимал ее так чутко и доброжелательно, как случайная попутчица Хёди (кстати, она тоже блондинка, как Элфи и Дунди). Эти три белокурые женщины, одна из которых еще совсем ребенок, сотворили вокруг себя атмосферу покоя и гармонии.
И вот уже поезд мчит всех троих обратно, в Будапешт, домой. И пятнадцатилетняя девушка Элфи больше не тревожится о том, что у нее нет своего настоящего дома. Теперь ею осознана ответственность за Дунди и, значит, есть свой дом: «Я хочу жить здесь, в Венгрии, в Будапеште, в Седьмом районе, и каждое утро ходить на работу по узеньким и коротким улицам, знакомым с самого детства...» [Гергей 1987]. Дорожные испытания, которые выдержала Элфи, становятся залогом и средством конструирования ее нового статуса — с чистой страницы. Безбоязненно и прямо обозначает этот статус четырехлетняя малышка Дунди: «Теперь Элфи — моя мама <...> Правдашняя мама уехала в Вену Мы тоже ехали в поезде, но они все вышли, а мы остались. Правда, Элфи? Теперь ты моя мама!» [Гергей 1987]. Ответ Элфи («да, я твоя мама») подводит итог ритуально-посвятительному путешествию девушки.
В финале повести звучат уже знакомые нам по произведениям русской прозы о путешествии-взрослении грустные размышления о непредсказуемости будущей жизни, о терпении и преодолении: «Люди плохие и жизнь тяжелая. Разве это так? И да, и нет. Люди не очень-то добры. Люди разные. Они трудятся, устают, ссорятся. Если бы люди были добрее, тогда, может, и жить было бы легче. А не наоборот ли? Может, если бы жизнь не была такой тяжелой, обремененной заботами, то и люди стали бы лучше?» [Гергей 1987].
Подводя итоги сказанному, отметим: в русской и венгерской прозе середины XX в. становится актуальным своеобразный «девичий» вариант универсального сюжета путешествия-взросления (физического и ментального). Данный факт является отражением несомненного признания литературой возросшей значимости женского начала в жизни семьи и общества. Обращение к рассказам и повестям А. Платонова, Л. Воронковой, М. Гергей позволяет сделать вывод об общности универсальной ситуации, лежащей в их основе, а также о несомненном сходстве дискурсивной организации и повествовательных техник, обусловленных явным доминированием образа пути/дороги, что, однако, не препятствует проявлению национально-культурной и творческой самостоятельности авторов.
Список литературы Мотив путешествия-взросления девочки в русской и венгерской прозе середины XX века
- Абашева М. П. Семиотика девичьей инициации: от институтской повести к советской детской прозе // «Убить Чарскую...»: парадоксы советской литературы для детей (1920-е — 1930-е гг.) / сост. и ред. М. Ю. Балина и В. Ю. Вьюгин. СПб.: Алетейя, 2013. С. 77-87.
- Балина М. Ю. Воспитание чувств а la sovietique: повести о Первой любви // Неприкосновенный запас. 2008. № 2 (58). С. 154-165.
- Воронкова Л. Ф. Старшая сестра. М.: Детгиз, 1963. 591 с. URL: https://www. rulit.me/books/starshaya-sestra-read-131664-0.html (дата обращения: 25.05.2022).
- Гергей М. Элфи // История одного дня. Повести и рассказы венгерских писателей / пер. с венг. Послесл. Л. Тоота. М.: Правда, 1987. URL: https://www.litmir. me/br/?b=565333&p=101 (дата обращения: 25.05.2022).
- Дюкин С. Г. Свобода как ментальная проблема в венгерской литературе // Ежегодник финно-угорских исследований. 2015. Т. 9 № 2. С. 88-94.
- Зуйкова С. А., Привалов И. В. Значение пояса и платка в русском традиционном костюме: христианская символика и народное осмысление // Культурологический журнал. 2017. № 2 (28). URL: http://cr-joumal.ru/rus/joumals/407.html&j_ id=31 (дата обращения: 25.05.2022).
- Ларионова М. Ч. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 2006. 256 с.
- Новичкова Т. А. Эпос и миф. СПб.: Наука, 2001. 253 с.
- Платонов А. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Советская Россия,1985.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт., 1997. 445 с.
- Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 6. М.: Гослитиздат, 1955. 504 с.
- Чудакова М. О. Чехов и французская проза XIX-XX вв. в отечественном литературном процессе 1920-30-х гг. // Чудакова М. О. Избранные работы. Т. 1. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 367-375.
- Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. М.: Индрик, 2003. 528 с.