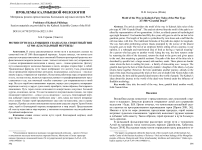Мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 "Благодарный мертвец"
Автор: Горяева Баира Басанговна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 «Благодарный мертвец». Анализ показал, что мотив пути реализуется представителями двух поколений. Вначале престарелый родитель мифологического возраста (восемь тысяч / пятьсот пятьдесят пять лет) отправляется с целью испрашивания наследника к своему заячи - гению-хранителю. Долготу пути символизируют железные башмаки и посох, которые старик берет с собой. Традиционные формулы пути также изображают его долготу. Сын, рожденный после проведения определенных ритуалов, подсказанных манджиком - послушником хурула, отправляется торговать. Испытание работника перед отправлением в путь, на наш взгляд, является переосмысленным и трансформированным представлением о еде, как имеющей «особое значение» для отправившегося в иной мир. По пути герой восстанавливает порядок, вернув долг умершего, возвращает мертвеца в могилу и дарует душе покой, приобретя, таким образом, благодарного помощника. Путь героя сказки описывается конкретными локусами: большой курган, солончаки, пески. Эти места являются пограничными зонами, где героя поджидают вредители - семья мусое-людоедов / мангасы. Благодарный мертвец добывает герою невесту (небесную деву / дочь хана), все вместе возвращаются домой. Однако герой предпринимает еще одно путешествие, уже в страну мертвых. Пройдя со своим помощником испытания владыки смерти Эрлик Номин хана, герой и благодарный мертвец возвращаются в мир людей. Представления об этом путешествии в мир мертвых у калмыков складывались под воздействием буддийской мифологии.
Сказка, мотив пути, герой, благодарный мертвец, иной мир, эрлик номин хан
Короткий адрес: https://sciup.org/149141342
IDR: 149141342 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-394
Текст научной статьи Мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 "Благодарный мертвец"
Волшебная сказка повествует о представителях двух поколений: старшего и младшего. Зачастую родители отправляют детей для устранения недостачи / беды. В.Я. Пропп отмечал, что композиция волшебной сказки строится на пространственном перемещении героя [Пропп 2001, 36]. Именно в пути по мере движения, преодолевая преграды, герой сказки встречает чудесных помощников / дарителей, выполняет трудные задания и добывает себе невесту. Таким образом, герой проводит в пути большую часть времени.
В калмыцкой фольклористике рассмотрен мотив пути с топонимом Алтай на материале эпоса монгольских народов [Дампилова, Хабунова, Чулуун 2018]. Исследован также мотив отправления героя, рожденного от

медведя, в сказочной традиции тюрко-монгольских народов [Хабунова, Чао Геджин 2019]. На основе песен Багацохуровского цикла калмыцкого героического эпоса «Джангар» изучен мотив преодоления водного пространства и преодоления пути посредством скачек [Убушиева 2011]. Мотив путешествия героя сказки по мирам описан на примере сюжета из репертуара сказителя Ш.В. Боктаева [Манджиева 2013]. Также описан путь и приключения эпического героя в нижнем мире на материале одной из песен Малодербетовского цикла «Джангара» [Манджиева 2021]. Эпическое изображение пути богатыря, отправившегося в боевой поход, представлено Б.Б. Манджиевой в статье «Мотивы в эпических песнях джан-гарчи Телтя Лиджиева» [Манджиева 2022]. Ц.Б. Селеевой на материале калмыцкого эпоса «Джангар» рассмотрены динамические и статические свойства пространства и времени и выявлен способ эпического восприятия универсальных категорий [Селеева 2011]. В сравнительном указателе эпических тем двух национальных версий эпоса «Джангар» ею же были выделены темы отправления в путь, преодоления пути, временной остановки в пути, встречи, отдыха и прибытия [Селеева 2013, 105-184].
В настоящей статье нами рассматривается мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 «Благодарный мертвец». Материалом исследования явились сказки «Алтн Оргчк хаани нутгт бээдг Моцгн Оргчк байна ковун Манящи Зэрлг ялч ковун хойрин тууль» («Сказка о Манджин Зарлике, сыне богача Мёнген Оргечику, живущем в нутуке хана Алтан Оргечику, и юноше-работнике») [Позднеев 1890; Калмыцкие волшебные сказки 2020, 194-229]; сюжет под номером 15 в сборнике образцов калмыцкого языка Г.И. Рамстедта «Kalmuckische marchen» («Калмыцкие сказки») [Ramstedt 1909, 74-104]; «Алтн Оргч хаана нутгин Моцгн Оргчк гидг овгн» («Старик по имени Мёнген Оргечик из нутука хана Алтан Оргечи» [Хальмг туульс 1961, 121-127]; «Арсмч хаана ковун Оос Теми Мергн хойр» («Сын Арсамчи хана и Ээс Мерген Темне») [Хальмг туульс 1968, 12-17]. Особенности разработки этого сюжетного типа в устной традиции калмыков рассматривались ранее нами в отдельной статье [Горяева 2016].
Отправление в путь бездетного старика
Зачин сказки на сюжетный тип АТ 508 «Благодарный мертвец» изображает картину богатства и изобилия престарелых супругов. Дожив до возраста 8 000 лет, старик не имеет наследника. Обойдя свои стада четырех видов скота с приплодом, супруг жалуется супруге на свою судьбу: «Тигэд евгн цугтаИинь Ьээхэд хэлэчкэд, хэрж; ирэд:
-
- Эмгн, эмгн, адундан одев - ажркнь унНнларн наачаж;. Укртэн одев -бухнь туИлларн наачаж;, хеендэн одвв-хуцньхурНнларн наачаж;, темэндэн одев - буурнь ботхнларн наачаж;, - гиж; келэд, евгн уйн терэд уульна. Уу-ляд гедргэн киисэд гиж;гиннь арс барад, емэрэн киисэд, мацнаннь арс ба-рад бээнэ». («Так старик весь [скот] осмотрел, вернулся домой:
-
- Старуха, старуха, до табуна доехал - жеребец играл со своим жеребенком. До коров доехал - бык играл со своим теленком, до овец доехал -баран играл со своим ягненком, до верблюдов добрался - верблюд играл со своим верблюжонком, - сказал, загрустил и заплакал. Плача, навзничь падал, кожу на затылке сдирал, вперед падал, на лбу кожу сдирал») [Хальмг туульс I960, 121].
По совету старухи старик отправляется к своему заячи, чтобы испросить наследника. Заячи у монголоязычных народов, в том числе и у калмыков, воспринимается «самовозникшим», «создателем всего» как «божество человеческой судьбы как небесного волеизъявления, даритель счастья и блага, защитник имущества и скота» [Неклюдов 2008]. Отправление к своему гению-хранителю подразумевает путь в иной мир и требует подготовки: «Тигзд овгн йисн давхр темр башмг цутхулж; авад, йисн алд темр тайг келгулж; авад, заячдан одхар йовйар hapad йовна» («Поэтому старик повелел выковать девятислойные железные башмаки, девятисаженный железный посох, взяв их, пешком отправился к своему заячи») [Хальмг туульс I960, 121].
В.Я. Пропп установил на обширном фольклорном и этнографическом материале, «что обувь, посох и хлеб были те предметы, которыми некогда снабжали умерших для странствий по пути в иной мир. Железными они стали позже, символизируя долготу пути» [Пропп 1986, 49].
Долгота пути в калмыцкой сказке подчеркивается также традиционной формулой «едриг одр гил уга, сеег св гил уга» («день за день не считая, ночь за ночь не считая») и усиливается следующей - «кеду вдр св, кеду cap йовснъ кем медиа» («сколько дней, ночей, сколько месяцев шел, кто знает») [Позднеев 1890, 307].
Через сорок девять дней пути богач достигает границ другого ханства: «Долан долан - дечн йисн хонгт йовад, эра гиж; нутгиннь захас давок; hap на. Цааранднь улм йова йовж;, талдан хаана нутгар орад ирна» («Семью семь - сорок девять дней шел, еле перешел границу своего нутука. Дальше он шел и шел, дошел до нутука другого хана») [Хальмг туульс 1961, 121]. Здесь следует отметить, что именно за сорок девять дней, по традиционным представлениям калмыков, душа умершего достигает иного мира.
Зайдя в кибитку на краю хотона, старик от мальчика-манджика -послушника хурула - узнает о том, что надо сделать, чтобы у него родился сын. В сказке «Алтн Оргч хаана нутгин Моцгн Оргчк гидг евгн» («Старик по имени Мёнген Оргечик из нутука хана Алтан Оргечи») прослеживается смена представлений, связанных с выпрашиванием детей. По традиционным верованиям калмыков, каждый человек имеет своего гения-хранителя - заячи, который дарует счастье, богатство, потомство. В приведенном отрывке мы видим, что уже не заячи, а мальчик-манджик дает совет, как обрести наследника.
Сказка, опубликованная А.М. Позднеевым в 1890 г, наиболее ранняя по записи, представляет героя «с золотой грудью и серебряной поясни- цей» («алтеи чееж;тэ, мецгн бегста») [Позднеев 1890, 315]. Эта традиционная формула «чудесные дети» отражает семантическую связь «золотой - солнечный», которая была отмечена В.Я. Проппом [Пропп 1986, 27]. В поздних вариантах сказок герой уже утрачивает золотоносность.
Отправление в путь героя
Повзрослевший герой решает отправиться торговать и просит у отца денег: «<.. .> аав-аав, арсм кенэв, цоокн мецг ас» («<.. .> отец-отец, буду торговать, дай немного денег»). Это желание героя отец не поддерживает: «Я-a, хээмнь, бэгл арсм уга чамд зев эдл-ahpycH бээнэ, - гиж; евгн келнэ» («Я-a, дорогой, не надо, без торговли у тебя достаточно имущества, - сказал старик») [Хальмг туульс 1961, 122].
Старуха-мать поддерживает желание сына и просит супруга дать ему денег. После этого юноша, получив золото от отца, отправляется в путь. По пути на базар юноша встречает человека, который избивает мертвеца: «Тенуг узчкэд Манохин Зэрлг, ю, якжах кумбч, уксн ку гевдэд бээх, хэру нукнурнь дур, - гинэ. Цокнав, мууха уунд зовж;ахмч, ертэ билэ. Орим егл уга укж; оде, тигэд уунэ юукинь авхв гигэд цокжанав, -гиж; келв. Ав, - гигэд тулмта алтан хайж; огэд уксн кууг гедргэн дарул-на» («Увидев это, Манджин Зарлик, йо, ты что умершего бьешь, положи обратно в яму, - сказал. Буду бить, ты чего за него переживаешь, он мне должен был. Не отдав долга, он умер, что теперь с него взять, вот и избиваю его, - ответил. Возьми, - сказал и кинул ему тулум золота, мертвеца обратно закопал») [Хальмг туульс 1961, 122].
Душа усопшего требует успокоения, его следует возвратить в могилу. Отдав долг умершего и подарив покой его душе, герой сказки приобретает чудесного помощника, который в дальнейшем спасает его. Особое отношение к покойникам отмечается и в сказке «Нусха Му» (букв. Соплячок плохой) на сюжетный тип СУС 530 «Сивко-Бурко», когда отец перед смертью просит сыновей ночевать на его могиле [Хальмг туульс 1961, 143].
В сказке «Арсмч хаана ковун Оос Теми Мерги хойр» («Сын Ар-самчи хана и Ээс Мерген Темне») герой после смерти родителей решает заняться торговлей: «Ковунь ухалад, санад бээкэд, эцгиннъ йовж; йовсн кергэр барш кекэо бээхэр санж;ана. Тегэд ковун балЬснд курч ялч нээмэдлж; авхар мортэ hapad йобб» («Сын их поразмыслил, подумал, что будет торговать, решая попутно дела своего кочевья. Поэтому он отправился верхом на лошади в город, чтобы нанять себе работника») [Хальмг туульс 1968, 12].
Перед отправкой в путь герой ищет себе помощника для торговли. Здесь вызывает интерес критерий выбора товарища. Главный герой испытывает кандидата, но претендент не проходит испытания: «Эццн болен мерггр хар залу, би йовнав, - гикэд ирнэ. Не, бэр, шулукар нааран сууж;хот ид, - гинэ. Ковун укс cyyhad авад хотинь иднэ. Хотан идчкэд:
Не, намаг дахж; чадшгоч, - гигэд дуудлЬ дуудна» («Пришел худощавый смуглый юноша, я поеду, - сказал. Ну, держи, садись сюда, ешь, - сказал. Юноша быстро подсел и стал есть. Поев: Ну, ты не сможешь меня сопровождать, - сказал и кинул клич») [Хальмг туульс 1961, 122].
В путь с героем отправляется юноша, который не стал садиться и есть вместе с ним: «Не, нааран сууж; авич, - гинэ. Идти, идти, би суулэс идхгов, - гинэ. Шулукар идхнчнь, ора болж; йовна, - гигэд дакад нег келнэ. Не, ода танла зерглж; хот. яйж; идхв, би йовн йовж; идхгов, -гинэ» («Ну, садись сюда, - говорит. Вы ешьте, ешьте, я в конце поем, -ответил. Быстрее ешь, уже вечереет, - еще раз сказал. Ну, как же я с вами вместе буду есть, я на ходу поем, - ответил») [Хальмг туульс 1961, 122].
Отказ от совместного принятия пищи помощник героя объясняет вполне рационально: «‘Хэр отгт одхла, хамдан cyyhad идэд бээхлэ, та-ниг эзн гихм, намаг эзн гихм? ” - гиж;энэ» («“Когда приедем в чужой оток, будем вместе садиться есть, вас называть хозяином или меня называть хозяином?” - ответил [работник]») [Ramstedt 1909, 91].
Этот момент с испытанием едой прослеживается во всех четырех вариантах сказки и, на наш взгляд, является переосмысленным и трансформированным представлением еды, имеющей «особое значение» для отправившегося в царство мертвых. Так, В.Я. Пропп установил, что «мотив угощения героя ягой на его пути в тридесятое царство сложился на основе представления о волшебной пище, принимаемой умершим на его пути в потусторонний мир» [Пропп 1986, 69].
Найдя себе помощника, герой отправляется в путь, не заезжая домой. Мать-старуха видит проезжающий обоз из семи телег и отправляет старика попрощаться: «Ай, овгн, тер зурИан-долан ацан йовж; йовна, мана Манж;ин Зэрлг кевтэ, оч меднлхнтн, гиж; овгндэн эмгнь келнэ. Овгн ohmp хар улдэн авад, хар нохаНан дахулж; hapad, кевундэн одна. “Не, менд йович, - гигэд, ноха ohmp хар уло хойран егчкэд: Не, уунэс hapad дола хонсн цагтнъ ик хар толЬа xaphx, тер moahahac едрэр daвж; узтн, moahahac давад дола хонсн цагтчнь ик хар хаг xaphx, туунэс бас едрэр давж; узтн, цань дола хонсн цагт ик цакан элсн хаг xaphx, туунэс едрэр давж; узтн ” - гиж; эцгнъ кевундэн келчкэд, мендлэд хэрв» («Ай, старик, там проезжает шесть-семь груженых телег, кажется, это наш Манджин Зярлик, езжайте попрощайтесь, сказала старуха своему старику. Старик взял свой короткий черный меч, свою черную собаку позвал, поехал навстречу сыну. “Ну, будь здоров, - сказал, собаку и черный меч отдал: Ну, как тронетесь отсюда, через семь суток встретится большой курган, постарайтесь тот курган проехать днем, как проедете курган, через семь суток сплошные солончаки будут, попробуйте их тоже днем проехать, после этого через семь суток белые пески покажутся, проезжайте их днем”, - сказал отец своему сыну, попрощался и вернулся домой») [Хальмг туульс 1961, 123].
Здесь следует привести наблюдение В.Я. Проппа о том, что «Движение никогда не обрисовано подробно, оно всегда упоминается только
двумя-тремя словами: “Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли”. Эта формула содержит отказ от описания пути. Путь есть только в композиции, но его нет в фактуре» [Пропп 1986, 48].
Эпический текст дает более детальную разработку мотива пути. Так, мотив преодоления водного пространства встречается в двух песнях Багацохуровского цикла эпоса «Джангар». В песне «О Шара Мангас хане» преодоление водного пространства происходит посредством волшебства. В песне «О Замбал хане» океан выступает пограничной чертой между страной Бумбой и вражеской страной Замбал хана и делит мир как по горизонтали, так и по вертикали. Характерно то, что океан преодолевается эпическим героем вплавь. Еще один способ реализации мотива преодоления пространства в данном цикле - скачки [Убушиева 2011].
Развитие сюжета сказки идет по остановкам, путь героя описывается конкретными локусами, представляющими опасность. Героя калмыцкой сказки у подножия большого кургана, у солончаков и песков, являющихся пограничными зонами, поджидают вредители - семья мусов-то- доедов / мангасы. Здесь следует отметить, что людям среднего мира принадлежит ландшафт равнин: степи, долины являются освоенным пространством. Остальные географические объекты заселены иными существами, духами-хозяевами местности.
Хар толка (букв. черная голова) большой курган - граница двух миров, делящая пространство на «свое» и «чужое». Текст сказок четко передает восприятие неосвоенного пространства как места, населенного враждебными существами. Когда поравнялись с большим курганом, лошади стали мочиться кровью, испражняться сгустками крови («цусар шеекэд, ноэк;гдр саккад»). В полночь, когда работник обходил лошадей, к нему подошел старик, который предложил товарищам ночевать не в голой степи, а в их доме, в котором имеется огонь: «Мана гер тер герл карчасн тер гигэд - хар толка тал заана. Не, та йовж; йовтн, би ар-дастн некдэн дахулад одев - гигэд евгиг йовулад оркна» («Наш дом там, где горит огонек, сказал - указал на большой курган. Ну, вы пока идите, я за вами следом с товарищем приду, - ответил и отправил старика») [Хальмг туульс 1961, 124]. Исследователями отмечается, что, кроме обладания сверхъестественной силой, жители подземного мира зачастую являются хранителями огня. Так, в одной калмыцкой сказке героиня, не доглядев огонь в очаге, испрашивает уголья у старухи с медным клювом, живущей в расщелине земли [Ramstedt 1909, 43].
Большой курган, солончаки, пески - локусы, о которых предупреждал героя отец-старик, являлись местом обитания хтонических существ, питавшихся человечиной: «Омн йовен залу йовад, ик хотхртан ирэд, уудиг татад, дорагшан орад оде. Кевун еердж; ирэд, ууднэ ард зогсад чицнж бээнэ. Тер залу ахнртан келж;энэ: “Махн гидгмахн, хот гидгхот ирчкен бээнэ, тедниг ода иигэд-тигэд сооннъ орэл куртл бээлНжэкэо, оч алж; авий ”» («Мужчина, который пошел вперед, дошел до ложби- ны, открыл дверь и спустился вниз. Юноша приблизился и стал подслушивать за дверью. Тот мужчина говорит братьям: “Мясо мясом, еда едой пришла, подержим их туда-сюда до полуночи, пойдем убивать”») [Хальмг туульс 1968, 13].
Текст сказок отчетливо показывает, что вышеуказанные места следует проезжать в строго определенное время: до полудня и до полуночи. Это время считалось «роковым» у многих народов мира, представления о «лихой минуте» существует у всех славянских народов [Славянские древности 291]. В рассматриваемых сказках отмечается, что старики говорят: у большого кургана не ночуют и не полдничают [Ramstedt 1909, 93].
Отец советует герою проехать большой курган, солончаки и пески днем («одрэр»), но герой пренебрегает этим советом и ночует в этих местах. В полночь старик-щус встречает помощника и зовет в гости путников. Благодаря своему работнику герой избегает смерти от рук мусов (мангасовУлюдоедов, их жен и дочерей. Слуга расправляется с антагонистами при помощи меча главного героя или оружия, которое находит.
Благодарный помощник охраняет и в безопасности доставляет героя и обоз с товаром во владения хана. Обладая знанием языка животных, работник подслушивает разговор сопровождавшей их собаки с ханской пестрой кошкой и узнает, что ее желчь является лекарством для больной дочери хана. Помощник героя добывает желчь кошки, которая грозится навредить герою, превратившись в ядовитую желто-пеструю змею [Ramstedt 1909, 95-96; Хальмг туульс 1960, 125; Хальмг туульс 1968, 16; Калмыцкие волшебные сказки 2020, 215].
После выздоровления ханской дочери главный герой берет ее в жены. Обратный путь домой описывается остановками в тех же локусах, что были в начале пути. После возвращения домой начинается брачная жизнь героя, но благодарный помощник помнит об угрозах желто-пестрой кошки и бдит. Здесь можно отметить, что работник не спит, он не смыкает глаз, ожидая змею, которая должна навредить хозяину. Приведем наблюдения В.Я. Проппа, касаемые запрета сна, восходящего к большой древности: «Замтер собрал очень много материала о запрете сна при рождении, смерти и вступлении в брак. Для нас они важны, косвенно подтверждая связь запрета сна со сферой смерти и рождения, т.е. с сферой, которая была основой обряда инициации» [Пропп 1986, 80-82].
Бодрствование работника дает результат: он разрубает ядовитую светлую змею, которая ползла к постели героя и его жены. Испугавшись того, что яд змеи мог попасть на хозяина, помощник светит и видит, что яд брызнул и попал на щеку девушки [Хальмг туульс 1960, 126; Калмыцкие волшебные сказки 2020, 223] / юноши [Ramstedt 1909, 100].
Наутро девушка обвиняет работника в посягательстве на ее жизнь. После расспросов выясняется, что работником героя был избитый мертвец, долг которого оплатил герой. Испросив соизволения владыки мерт-

вых Эрлик Номин хана, он решил отблагодарить своего спасителя.
Путешествие в мир мертвых
Путь в мир мертвых в рассматриваемых сказках описывается скудно. В сказке «Алтн Оргч хаана нутгин Моцгн Оргчк гидг овгн» («Старик по имени Мёнген Оргечик из нутука хана Алтан Оргечи») герой Манджин Зарлик узнает о том, что его помощник должен вернуться в иной мир, и решает отправиться за ним: «ЯИлав, ода би уксн куунэ сумсмб, уксн куунэ сумснлэ эмд кун йовж болдв? - гиж; Чивчин Хууч келэд, улдтн гигэд сурад бээв. Тер бийнъ Манохин Зэрлг болхш, якао болвчн чамта хамдан йовж; йовад меднэв. Чамаг дахэк; йовад уквчн Иундхшв, - гигэд карен йазриннъ аю талнь чишкэд ууляд йовна. Кесг йовад, болшго болад бээхлэнь, Чивчин Хууч кун болад узгдэд курэд ирнэ» («Яглав, я же душа умершего, разве можно живому человеку отправиться в путь с душой усопшего? - сказал Чивчин Хуучи и стал просить остаться. Но Манджин Зарлик не унимался, хоть как я с тобой вместе пойду, там видно будет. Если даже я умру, сопровождая тебя, будет не обидно, - так думая, шел в ту сторону, куда направился [Чивчин Хуучи], и вопил, плача. Долго шел, когда понял, что [Манджин Зарлик] не отстанет, Чивчин Хуучи принял облик человека и вернулся к нему») [Хальмг туульс 1961, 127]. Текст сказки ранней записи А.М. Позднеева показывает, что по пути в иной мир работник становится невидимым, но пожалев Манджин Зарлика, показывается ему и просит вернуться домой [Позднеев 1890, 345].
Путешествие героя по иному миру в проанализированных сказках изображается на основе представлений, которые сложились под воздействием буддийской картины мира. Так, герои попадают в ад с копьями (шовг там), огненный (Налт там), водяной ^усн там). Испытанием на прочность дружеских уз становится проход по конскому волосу над адской бездной. Благополучно пройдя по тонкому конскому волосу, товарищи вознаграждаются жизнью в мире людей. Владыка смерти Эрлик Номин хан вопрошает у Чивчин Хуучи, почему он явился позже условленного срока и привел с собой живого, и выносит свое решение: «По, по, уксн куунлэ эмд ку якж; хадклв, унн иньг болхла, энун деегур ишкэд картн гигэд, тамин амн deep килИс тэвж; егнэ. Тигэд хоюрн дээвлл уга ишкэд hapad одна. Тигэд Чивчин Хуучиг эмд ку кекэо, Манж;ин Зэрлгтэ хойракинь ах-Оу кекэО тэвнэ» («По, по, как же живого человека держать среди умерших, если вы истинные друзья, то пройдите по этому, сказав, натянул конский волос над пропастью. Вдвоем, не пошатнувшись, прошли. Поэтому [Эрлик хан] оживил Чивчин Хуучи, сделал его побратимом с Манджин Зарликом и отпустил») [Хальмг туульс I960, 127].
По законам сказки обратный путь героя не обрисован подробно, «сказка перескакивает через момент движения» [Пропп 1986, 48].
Заключение
Мотив пути в рассмотренных сказках на сюжетный тип АТ 508 «Благодарный мертвец» реализуется представителями двух поколений. Вначале престарелый родитель (восемь тысяч лет, пятьсот пятьдесят пять лет) отправляется с целью испрашивания наследника к своему заячи - гению-хранителю. Долготу пути символизируют железные башмаки и посох, которые старик берет с собой. Традиционные формулы пути также изображают его долготу.
Сын старика отправляется в путь с целью торговать. По пути герой, вернув долг умершего, возвращает мертвеца в могилу и приобретает таким образом благодарного помощника. Путь героя сказки описывается конкретными локусами: большой курган, солончаки, пески. Эти места являются пограничными зонами, где героя поджидают вредители - семья щусов-людоедов !мангасы. После возвращения герой предпринимает еще одно путешествие, уже в страну мертвых, где они с благодарным мертвецом проходят испытания владыки смерти Эрлик Помин хана и возвращаются в мир людей. Эти представления складывались под воздействием буддийских памятников о хождении в ад и требуют дальнейшего изучения на основе ойратских литературных сочинений, посвященных этой теме.
Список литературы Мотив пути в калмыцких сказках на сюжетный тип АТ 508 "Благодарный мертвец"
- Горяева Б.Б. Сюжет АТ 508 «Благодарный мертвец» в калмыцкой сказочной традиции // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2016. Т. 10. № 4. С. 79-83.
- Дампилова Л.С., Хабунова Е.Э., Чулуун З. Топоним Алтай в мотиве пути в эпосе монгольских народов // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2018. Т. 11. № 5(39). С. 166-173.
- Манджиева Б.Б. Мотивы в эпических песнях джангарчи Телтя Лиджие-ва // Новый филологический вестник. 2022. № 1(60). С. 361-375.
- Манджиева Б.Б. О сюжетосложении песни Малодербетовского цикла калмыцкого героического эпоса «Джангар» // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Эпосоведение. 2021. № 3(23). С. 26-34.
- Манджиева Б.Б. Сказитель Ш.В. Боктаев и его репертуар // Новые исследования Тувы. 2013. № 1. С. 90-100.
- Неклюдов С.Ю. Дзаячи // Мифы народов мира. Энциклопедия. Электронное издание. М., 2008. С. 310. URL: https://www.indostan.ru/biblioteka/ knigi/2730/3412_1_o.pdf (дата обращения 01.08.2022).
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 365 с.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / науч. ред., текстол. коммент. И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2001. 192 с.
- Селеева Ц.Б. Динамические и статические свойства пространства и времени в калмыцком героическом эпосе «Джангар» // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. Т. 4. № 1. С. 173-177.
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. Т. 4. М.: Международные отношения, 2009. 656 с.
- Убушиева Д.В. Мотив преодоления водного пространства и преодоления пути посредством скачек (на материале песен Багацохуровского цикла калмыцкого героического эпоса «Джангар») // Монголоведение (Монгол судлал). 2011. № 5. С. 302-308.
- Хабунова Е.Э., Чао Геджин. Мотив отправления героя, рожденного от медведя, в сказочной традиции тюрко-монгольских народов // Oriental studies. 2019. Т. 12. № 5(45). С. 1026-1033.