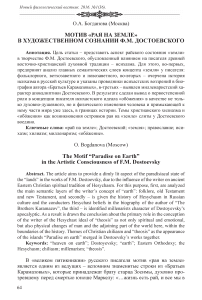Мотив «рая на земле» в художественном сознании Ф. М. Достоевского
Автор: Богданова Ольга Алимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - представить аспект райского состояния «земли» в творчестве Ф.М. Достоевского, обусловленный влиянием на писателя древней восточно-христианской духовной традиции - исихазма. Для этого, во-первых, предпринят анализ главных семантических слоев концепта «земля» у писателя: фольклорного, ветхозаветного и новозаветного, во-вторых - очерчена история исихазма в русской культуре и указаны проводники исихастских воззрений в биографии автора «Братьев Карамазовых», в-третьих - выявлен милленаристский характер апокалиптики Достоевского. В результате сделан вывод о первостепенной роли в концепции писателя исихастского идеала «обóжения» в качестве не только духовно-душевного, но и физического изменения человека и примыкающей к нему части мира уже здесь, в границах истории. Темы христианского хилиазма и «обóжения» как возникновения островков рая на «земле» слиты у Достоевского воедино.
"рай на земле", достоевский, "земля", православие, исихазм, хилиазм, милленаризм, "обóжение"
Короткий адрес: https://sciup.org/14914537
IDR: 14914537
Текст научной статьи Мотив «рая на земле» в художественном сознании Ф. М. Достоевского
В «великом пятикнижии» русского писателя мотив «рая на земле» является одним из ведущих – вспомним знаменитые строки из «Братьев Карамазовых», которые принадлежат брату старца Зосимы, духовно прозревшему перед смертью юноше Маркелу: «…жизнь есть рай, и все мы в
раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай» (14, 262; здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Достоевского даются в круглых скобках: первое число означает том, второе – страницы)1. Сам же иеросхимонах поучал: «…посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит нам только захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей…» (14, 272).
В библейской традиции «рай на земле» обычно понимается в двух смыслах: во-первых, в соответствии с ветхозаветной книгой «Бытие», повествующей о жизни Адама и Евы в Эдеме до грехопадения; во-вторых, исходя из новозаветного пророчества о «тысячелетнем царстве» праведников на земле во главе с Христом (Откр. 20: 2-8). В обоих случаях имеется в виду особое состояние сотворенной и устроенной Богом земли – изначально безгрешное в Эдеме, очищенное от греха и проклятия в хилиазме, – где ничто не мешает постоянному общению человека с его Создателем. Оба эти представления о «рае на земле» маркируют крайние, рубежные точки человеческой истории – начало и конец. Внутриисторическое наступление рая – на данной, наличной, преображаемой одними человеческими усилиями земле – стало многовековой мечтой утопистов, социалистов и атеистов.
Концепт «земля» имеет у Достоевского, по меньшей мере, три семантических слоя: фольклорный, ветхозаветный и новозаветно-евангельский, – которые вступают друг с другом в сложные отношения взаимопроникновения и взаимодополнительности.
Фольклорный субстрат образа «земли» в творчестве писателя в значительной мере был раскрыт уже в первой половине XX в. в исследованиях Д.С. Мережковского, Вяч.И. Иванова, С.И. Смирнова, В.Л. Комаровича, Р.В. Плетнева, Г.П. Федотова, Л.А. Зандера и др.2 Причем было установлено, что Достоевский опирался не только на древнеславянское языческое олицетворение и обожествление «матери-сырой земли», на Руси тождественное эллинскому культу Деметры3, но и на двоеверное полуязыческое-полухристианское, или народно-православное, сближение «земли» с Богоматерью, выраженное в апокрифах и духовных стихах русского народа4.
Ветхозаветных коннотаций (космический масштаб сотворенной Богом земли в книге «Бытие», земля как субстанция человеческого естества, «обетованная земля» и т.п.) касались в своих работах о Достоевском и других писателях, помимо многих вышеназванных авторов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, а из сравнительно недавних, например, Г.Д. Гачев и В.И. Габдуллина5.
Однако особого внимания исследователей удостоились новозаветные смыслы интересующей нас лингвокультурной константы. Ведущая роль здесь, бесспорно, принадлежит работам Иванова «Евангельский смысл слова “земля”» (1909), «Экскурс. Основной миф в романе “Бесы”» (1914), «Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского » (1917),

где впервые были раскрыты главные аспекты знаменитой «софиологиче-ской формулы»6 Достоевского: «Богородица – великая мать сыра земля есть» (10, 116). В разное время образ безвинно страдающей из-за человеческого грехопадения «земли», ждущей своего возвращения в первоначальное райское состояние, осмыслялся также в работах Булгакова, Кома-ровича, Плетнева, Т.А. Касаткиной, О.А. Богдановой7 и др.
Тем не менее, в реальной литературно-исследовательской практике все отмеченные семантические пласты рассматривались, как правило, в сочетании друг с другом, что, конечно же, обусловлено их взаимопроникновением в самих текстах Достоевского. Так, еще Вл.С. Соловьев, защищая писателя от нападок К.Н. Леонтьева, писал:
«И сама земля, по священному писанию и по учению Церкви, есть термин изменяющийся. Одно есть та земля, о которой говорится в начале книги Бытия, что она была невидима и неустроена и тьма вверху бездны, – и другое то, про которую говорится: Бог на земле явиси и с человеки поживе, – и еще иное будет та новая земля, в ней же правда живет. Дело в том, что нравственное состояние человечества и всех духовных существ вообще вовсе не зависит от того, живут они здесь на земле или нет, а напротив, самое состояние земли и ее отношение к невидимому миру определяется нравственным состоянием духовных существ»8.
Из такого расширительного, динамического понимания вырастало со-фийное восприятие «земли» – как в основе своей совершенного, не замутненного грехом Божьего творения, рая – в трудах Булгакова, Б.М. Энгельгардта, Федотова, Зандера, С.С. Аверинцева, А.Н. Паршина9 и др.
Цель настоящей работы – представить аспект райского состояния «земли» в творчестве Достоевского, обусловленный влиянием на писателя древней восточно-христианской духовной традиции – исихазма. Поскольку всесторонний анализ учения и духовной практики исихазма не может быть проведен в небольшой статье, да и не входит в ее задачи, я ограничусь здесь обращением лишь к наиболее авторитетным исследователям исихастской традиции в России – И.М. Концевичу, архим. Киприану (Керну), Г.М. Прохорову, С.С. Хоружему, игум. И.Н. Экономцеву, а также к мнениям и наблюдениям П.А. Флоренского, Г.В. Флоровского, В.А. Котельникова и др. Представленная ими картина аутентична и вполне может служить историко-культурной основой литературоведческого исследования.
Итак, сначала кратко обозначим место исихазма в русской истории и культуре, обратившись к статье Хоружего, где ученый проводит разграничение духовной, религиозной и культурной традиций в России. Духовная традиция , возникшая как способ трансляции от поколения к поколению духовной практики мистико-аскетического православия, – это исихазм, который может быть понят как «актуальное онтологическое претворение» земного человеческого индивида в существо, причастное божественной воле (энергии). «Так получилось, что духовная традиция оказалась [в Рос-

сии] феноменом <…> низовой культуры. Монашеской, простонародной»10. Напомним, что «высокая» русская культура (и литература) ХIХ – начала ХХ в. была продуктом деятельности европеизированного «образованного сословия». Исихазм является частью более обширной религиозной традиции, включающей в себя, помимо установки «обóжения» (т.е. «актуального изменения, претворения самой человеческой природы в Божественную, становления человека “богом по благодати”»11), также и установку «освящения» («сакрального санкционирования и закрепления тех или иных явлений, вещей, сторон земного миропорядка»12, в первую очередь церковной иерархии, власти и государства, и тем самым отделения их от остального, «профанного», мира и противопоставления ему). Если до ХV в. включительно в русском православии в целом доминировала исихастская установка «обóжения», на основе которой и сложился, в своей основе, тип русской духовности, сохраненный прежде всего православным русским простонародьем, то с ХVI по ХIХ в. на первый план в русской религиозной традиции вышла установка «освящения», впоследствии породившая в Русской православной церкви «обрядоверие» и противопоставленность мирской жизни.
Что же касается культурной традиции , то, по мнению Хоружего, «великая русская культура, которая создавалась последние три или два с половиной столетия (т.е. в «петербургский период» русской истории – О.Б. ) <…> была чужда духовной традиции». В послепетровской России, считает ученый, в целом «не сложилось <…> сочувственно-примыкающего отношения двух традиций. А сложилась раздвоенность бытия. Сложилась конфликтность…»13.
Однако, на мой взгляд, расхождение духовной и культурной традиций в России Нового времени хотя и было доминирующим, но все же не тотальным явлением. Так, в 1860–1870-е гг. русская классика в лице Н.С. Лескова, Достоевского и др. обратилась к художественному исследованию истории, учения и быта Русской православной церкви. Началом «русского Ренессанса» конца XIX – начала XX в. игумен Иоанн Экономцев считает приезд Достоевского к старцу Амвросию Оптинскому в 1878 г.: «происходит памятная историческая встреча, лицом к лицу, исихазма и русской светской культуры»14. И все же приоритет в деле возвращения русской культуры «петербургского периода» к духовной традиции исихазма – за И.В. Киреевским: еще в 1840-е гг. известный славянофил, под руководством оптинского старца Макария, перевел на русский язык свод исихаст-ских текстов – «Добротолюбие»15. Добавим также, что в начале 1850-х гг. Оптину пустынь посещал Н.В. Гоголь. Да и А.С. Пушкин, по мнению некоторых исследователей, вполне мог видеться с Серафимом Саровским в начале 1830-х гг. и тем самым приобщиться к традиции исихазма16.
Одной из первых в российском литературоведении отметила в романистике Достоевского «сквозной мотив» «старчества», восходящий к исторической фигуре учителя исихазма ХVIII в. св. Паисия Величковско-го, Р.Я. Клейман. «Старец Молдавский», доказывает исследовательница,
«причастен к творческой истории ”Бесов” (Тихон – О.Б. ), “Подростка” (Макар Долгорукий – О.Б. ), “Братьев Карамазовых” (Зосима – О.Б. )»17. Источником сведений о св. Паисии, задолго до поездки в Оптинский монастырь в 1878 г., могло послужить для писателя «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле пострижника святыя горы Афонския инока Парфения», получившее в 1850–1860-е гг. широкий резонанс в русской общественной мысли. В нем имеется вставная новелла, повествующая о св. Паисии Величковском и его Нямецком монастыре в Молдавии. Вполне возможно, что Достоевский познакомился со «Сказанием» еще в Сибири; в начале 1860-х гг. писатель наверняка читал статьи А.А. Григорьева с многочисленными упоминаниями и высокими оценками «Сказания»; книга Парфения имелась в библиотеке Достоевского, в 1867 г. он взял ее в зарубежную поездку.
Таким образом, влияние исихазма на творчество писателя могло происходить не только в результате непосредственного общения с оптинским старцем Амвросием, чтения мистико-аскетических текстов и наблюдения над простонародным духовным типом, но и под воздействием некоторых явлений русской литературы ХIХ в., прежде всего творчества старших славянофилов. «Исихастский след» у Достоевского можно найти уже в 1860е гг. (например, в записи от 16 апреля 1864 г., сделанной у гроба первой жены – 20, 172–175). Связь образа князя Мышкина (роман «Идиот», 1868) с воззрениями исихастов обосновали Д.Л. Башкиров, В.А. Котельников18.
Соединение Церкви с миром, обращение ее к светской культуре – обычная практика исихазма. Так, Г.М. Прохоров четко выделяет в «исихастском движении» Византии и Руси конца ХIV – начала XVI в. «общественно-политическую» стадию: «преодоление пропасти между монастырем и миром», постепенную «спиритуализацию мирского»19. О том, что «влияние старчества не ограничивается монастырскими стенами», а «распространяется далеко за их пределы», пишет, уже по отношению к XIX в., И.М. Кон-цевич: «Будучи руководящим началом в духовно-нравственных проявлениях жизни и не только иноков, но и мирян», старчество «охватывает и вообще все проявления жизни, как духовные, так и мирские…»20. Отмечая с начала ХIХ в. восстановление в России «умного делания» и «старчества» (практических проявлений исихазма), о. Г. Флоровский считает неслучайным «перекрещивание» в Оптиной пустыни путей Гоголя и старших славянофилов, Леонтьева, Достоевского, Вл. Соловьева и Н.Н. Страхова, и даже Л.Н. Толстого21. Поскольку исихазм есть « общая антропологическая стратегия , цельный образ и метод самореализации человека в его бытийном назначении», то «коренная исихастская формула» – «монастырь в миру» – стала основой мировоззрения ряда светских культурных деятелей: Аксаковых, Киреевских, а также художественной антропологии позднего Достоевского («иночество в миру» Алеши Карамазова)22.
Именно Достоевский – единственный из больших русских писателей – воплотил в крупных художественных произведениях антропологическую концепцию23 и культурные потенции исихазма. Об этом свидетельствуют
настойчивые размышления героя «Бесов» Кириллова: «Будет богом человек и переменится физически . И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства (Курсив мой. – О.Б. )» (10, 94). Есть прямые указания на это и в черновых записях Достоевского: «Мы, очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, беспрерывное существование куколки, переходящей в бабочку» (11, 184); «Свет фаворский: откажется человек от питания, от крови – злаки» (15, 246). В самом деле, исихастский идеал «обóжения» предполагает не только духовно-душевное, но и физическое изменение человека уже здесь, на этой земле. По мнению архим. Киприана (Керна), «в святоотеческой литературе утвердился <…> взгляд на обóжение христианина, как на реальное, существенное приобщение к Богу всего человеческого естества. Это не <…> кажущееся и не в переносном смысле понимаемое причастие всей психофизической природы человека Божеству, ее просветление, прославление, преображение. Так понимали это: преп. Макарий Великий, Каппадокийцы, св. Кирилл Александрийский, св. Максим Исповедник, св. Иоанн Дамаскин, преп. Симеон Новый Богослов (курсив мой. – О.Б. )»24. Раскрывая опыт мистико-аскетического православия и выражая присущее ему стремление к «земному раю христианства», П.А. Флоренский писал: «Если извращение человеческой природы (в результате грехопадения – О.Б. ) влечет за собою извращение всей твари, а устроение человека (т.е. исихастское «целомудрие» и «обóжение» – О.Б. ) – устроение и твари, то у нас рождается вопрос о конкретных чертах этой оцеломудренной твари, т.е. тех начатков райского состояния , которых достигает подвижник уже теперь, в этой жизни, до всеобщего изменения мира. <…> Сходство человека с Богом именно в теле человеческом (курсив мой. – О.Б. )»25.
Итак, для автора «великого пятикнижия» исихазм открывал реальную, внутриисторическую возможность «рая на земле» уже не в утопически-социалистическом (идеал Достоевского-петрашевца 1840-х гг.), но в православно-церковном понимании. Возможность, обусловленную особым типом апокалиптики – упованием на постепенное, мирное, некатастрофическое наступление рая, причем именно в России – наследнице право-славно-исихастской традиции, еще живой, как думалось Достоевскому, в простом народе. В черновых набросках к «Братьям Карамазовым» читаем: «Изменится плоть ваша. (Свет фаворский.) Жизнь есть рай, ключи у нас» (15, 245). Темы «обóжения» и «рая на земле» слиты здесь воедино.
Все вышесказанное перекликается с концепцией Энгельгардта, в соответствии с которой внешний мир мыслился Достоевским-романистом в трех планах: «среда», «почва», «земля». «Среда» – это эмпирическое социальное окружение героя. «Почва» – «совокупность органически создаваемой народной культуры со всеми противоречивыми стремлениями, с <...> хаотическим смешением добра и зла, с <...> жуткими провалами, с <...> косноязычной мудростью и диким изуверством», которая наиболее ярко воплощена в «карамазовщине». «Земля» – это тот прекрасный сад, который «взрастил Господь», взяв «семена из миров иных и посея[в] на
сей земле» (14, 290). По Энгельгардту, «среда», «почва» и «земля» – точки зрения, «с которых взирают на <...> мир герои»26 Достоевского. Одна и та же реальность, в силу их духовного состояния, воспринимается ими по-разному. Таким образом, различение «земли» сквозь «среду» и «почву» – функция духовного зрения героев. «Земля» здесь, по сути дела, Святая Русь – рай, который сокрыт от нас из-за нашей греховности. Получается, что «почва» – это языческое состояние духа, а «земля» – христианское.
Так что не случайно в последнем романе Достоевского языческий «союз с землею», в который стремится вступить Дмитрий Карамазов, превосходится и поглощается «союзом» христианским, который осуществляет Алеша, включив в этот «союз» не только «землю», но и «небо». Вспомним, что перед знаменитой сценой целования «земли» Алеша удостаивается видения Христа. Ведь «земля» у Достоевского может стать искомым раем не сама по себе, даже не через Богородицу (что характерно для народного воззрения), но только через Христа. «Пусть наша земля нищая, – говорится в финале «Пушкинской речи», – но эту нищую землю “в рабском виде исходил, благословляя”, Христос» (26, 148). А в «Братьях Карамазовых» Зосима, при всей своей любви к «земле», утверждает, что «без драгоценного Христова образа пред нами, <...> погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом», род, который, замечу, жил на той же самой «земле». Итак, спасительной силой «земля» обладает не сама по себе, но благодаря «чувству соприкосновения своего таинственным мирам иным» (14, 290).
Будущее наличной русской земли, «почвы», заметно волновало Достоевского периода «великого пятикнижия». Оно осмыслялось в свете апокалипсического пророчества о претворении реально-эмпирической «ветхой земли» падшего, по христианскому вероучению, мира – в «новую землю» блаженного, беспрепятственного Богообщения. Заревом Апокалипсиса окрашен роман «Идиот» (1868). Апокалипсический огонь опаляет страницы «Бесов» (1870–1872). Однако окончательно, буквально по отношению к «русской земле» и народу катастрофических пророчеств писатель не применял. В наброске «Социализм и христианство» (записная тетрадь 1864–1865 гг.) Достоевский развил мысль об эволюционном, безболезненном переходе человечества от «патриархальности» – через «цивилизацию» – к «христианству», идеалу, достижимому «уж по одной логике, по одному лишь тому, что в природе все математически верно» (20, 194). И хотя в «Идиоте» автор осознал невозможность достижения «рая на земле» «по законам природы» (20, 173), т.е. в результате эволюционного развития, он уже здесь обретает вúдение «островков», «зерен» будущей «новой земли» именно в наличной «почве»: эти «зерна» и «островки» – Святая Русь, созидаемая «народом-богоносцем», исповедником истинного христианства – Православия. Сказался осваиваемый Достоевским в эти годы исихастский идеал «обóжения». Поэтому сохранение связи героев из «образованного сословия» с родной «землей» – единственная надежда на их воскресение. «Вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна
фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия <…> помяните мое слово, сами увидите!» (8, 510) – этими словами Лизаветы Прокофьевны совсем не случайно завершается роман «Идиот». Уже в конце своего творческого пути (в 1877 г.), Достоевский устами Смешного человека утверждал: «…я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» (25, 118). А в «Братьях Карамазовых» мотив спасительности «русской земли» и народа как носителя православного сознания только усиливается, несмотря на тревогу автора по поводу их современного духовно-нравственного состояния: «От народа спасение Руси <…> ибо сей народ – богоносец. <…> Землю целуй и неустанно, нена-сытимо люби…» (14; 285, 292), – читаем в духовном завещании старца Зосимы. Таким образом, апокалиптика Достоевского носит не столько катастрофический, сколько милленаристский (хилиастический) характер27.
Важно, что милленаризм Достоевского – в русле христианского, а не иудейского хилиазма. Последний возвещал о чувственно-историческом наступлении Царства Божьего на земле, внутри исторического времени. Собственно же христианский хилиазм, представленный в 20-й главе Откровения Иоанна Богослова в составе Нового Завета, в Православной церкви догматически не определен, о нем существуют лишь мнения 28 . «Православное богословие оставляет этот вопрос открытым»29. Поэтому я считаю возможным утверждать, что Достоевский в данном случае не выходил за границы православного вероучения – ведь «тысячелетнее царство» праведников на земле во главе с Христом он представлял себе как вневременное торжество Церкви.
Не что иное, как контаминация воззрений исихазма и христианского хилиазма, определило авторскую концепцию «рая на земле» в произведениях Достоевского. Исихастски ориентированные герои (архиерей Тихон, странник Макар Долгорукий, старец Зосима, Алеша Карамазов) создают вокруг себя островки рая, в которые постепенно вовлекаются другие люди, где возможны чудеса как физического исцеления (чудотворство Зосимы в монастыре), так и духовного преображения (Грушенька, мальчики – при соприкосновении с Алешей). Вспомним, что Алеша получает дар «обóжения» окружающей жизни (т.е. преображения ее в очаги «рая на земле», что конкретно воплощается в создании общины мальчиков вокруг Илюшечки Снегирева) только после видения Каны Галилейской. Выбор Достоевским этого евангельского эпизода, конечно же, не случаен. Именно здесь впервые произошло чудо преображения скудости человеческой жизни – в изобильную радость , в обетованную «жизнь с избытком». И что наиболее важно для моего рассуждения – все это осуществилось в земной , эмпирической жизни обыкновенных земных людей. Бедная свадьба, пусть на время, превратилась, благодаря Христовой любви и силе, в уголок «рая на земле». Мне кажется, то же можно сказать и об избушке Снегиревых в «Братьях Карамазовых». Конечно, этот «рай на земле» пока неустойчив – из-за неполноты «обóжения»: окончательной победы над смертью еще не произошло. Тем не менее, «воскрешение» замученной Жучки под видом
Перезвона, подготовленное Колей Красоткиным ради утешения Илюшеч-ки, вполне можно интерпретировать в свете исихастско-хилиастических упований автора «Братьев Карамазовых».
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02709) и в ИМЛИ РАН.
Список литературы Мотив «рая на земле» в художественном сознании Ф. М. Достоевского
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972-1990. Т. 14. С. 262
- Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 244-247; Иванов Вяч.И. Религия Диониса//Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 140-141
- Смирнов С.И., проф. Древнерусский духовник. М., 2004. С. 429-473
- Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII веков//Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. Т. XVI. М.; Л., 1960. С. 98-104
- Плетнев Р.В. Земля (из работы «Природа в творчестве Достоевского)//О Достоевском: сборник статей под ред. А.Л. Бема. Прага 1929/1933/1936. М., 2007. С. 153-155
- Федотов Г.П. Полное собрание статей: в 4 т. Т. 3. Тяжба о России (Статьи 1933-1936 гг.). Париж, 1982. С. 236-239
- Зандер Л.А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-на-Майне, 1960. С. 38-42
- Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII веков//Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. Вып. XVI. М.; Л., 1960. С. 24, 98-101
- Смирнов С.И., проф. Древнерусский духовник. М., 2004. С. 443-446
- Михнюкевич В.А. Русский фольклор в художественной системе Ф.М. Достоевского. Челябинск, 1994. С. 152-157
- Бердяев Н.А. О новом религиозном сознании//Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 155-167; Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 40-44
- Гачев Г.Д. Космос Достоевского//Проблемы поэтики и истории литературы: сб. к 75-летию М.М. Бахтина. Саранск, 1973. С. 119-120
- Габдуллина В.И., Островских В.Н. Русская литература в контексте православной культуры. Барнаул, 2011. С. 85-93
- Зандер Л.А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-на-Майне, 1960. С. 49
- Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 31-32; Комарович В.Л. Ненаписанная поэма Достоевского//Достоевский. Статьи и материалы/под ред. А.С. Долинина. Вып. 1. Пб., 1922. С. 189-192
- Плетнев Р.В. Земля (из работы «Природа в творчестве Достоевского)//О Достоевском: сб. статей под ред. А.Л. Бема. Прага 1929/1933/1936. М., 2007. С. 153-154
- Касаткина Т.А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004. С. 368-370
- Богданова О.А. Концепт «земля» в творческом сознании Ф.М. Достоевского и культурных деятелей Серебряного века (Д.С. Мережковского, А.А. Блока, Вяч.И. Иванова, Ф. Сологуба, А. Белого, Г.И. Чулкова)//Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. М., 2013. С. 101-102
- Соловьев Вл.С. Собрание сочинений: в 10 т. 2-е изд. СПб., 1911-1914. Т. 3. С. 222-223
- Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М., 2001. С. 349, 402-403
- нгельгардт Б.М. Идеологический роман Достоевского//Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы/под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. Л.; М., 1924. С. 93-95
- Федотов Г.П. Полное собрание статей: в 4 т. Т. 3. Тяжба о России (Статьи 1933-1936 гг.). Париж, 1982. С. 230-235
- Зандер Л.А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-на-Майне, 1960. С. 36-38
- Аверинцев С.С. София-Логос: словарь. Киев, 2006. С. 398
- Паршин А.Н. «Богородица -мать сыра земля…» (О трех лекциях в Московской Духовной академии)//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2011. Вып. 5 (37). С. 72-78. (Сер. I: Богословие. Философия)
- Хоружий С.С. Духовная практика и духовная традиция. Концепт//ИСА. Институт синергийной антропологии. URL: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_bilingua.pdf (дата обращения 18.02.2016)
- Хоружий С.С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 210
- Хоружий С.С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 212
- Хоружий С.С. Духовная практика и духовная традиция. Концепт//ИСА. Институт синергийной антропологии. URL: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_bilingua.pdf (дата обращения 18.02.2016)
- Экономцев Иоанн, игум. Православие, Византия, Россия. М., 1992. С. 192
- Белова Т.П. Исихазм и русская интеллигенция: история изучения и современный взгляд на проблему//Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции. Иваново, 1996. С. 80
- Краваль Л.А. Пушкин и преподобный Серафим//Духовный труженик. А.С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999. С. 51-53
- Клейман Р.Я. Сквозные мотивы творчества Достоевского в историко-культурной перспективе. Кишинев, 1985. С. 172-173
- Башкиров Д. Пространство слова в романе Достоевского «Идиот»: исихазм и творчество Достоевского//Достоевский и мировая культура. Вып. 17. М., 2003. С. 181-182; Котельников В.А. Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. М., 2002. С. 291-292
- Прохоров Г.М. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы//Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. Т. XXXIV. Л., 1979. С. 9, 16
- Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М., 1993. С. 2
- Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 391
- Хоружий С.С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 232-234
- Хоружий С.С. «Братья Карамазовы» в призме исихастской антропологии//Достоевский и мировая культура. Вып. 25. М., 2009. С. 13-56; Котельников В.А. Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. М., 2002. С. 118
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 393-394
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи. М., 2007. С. 230, 248
- Энгельгардт Б.М. Идеологический роман Достоевского//Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы/под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. Л.; М., 1924. С. 92-93
- отельников В.А. Апокалиптика и эсхатология у Достоевского//Русская литература. 2011. № 3. С. 51-67
- Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 368-434
- Мень А.В. Библиологический словарь: в 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 353