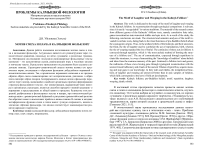Мотив смеха и плача в калмыцком фольклоре
Автор: Убушиева Данара Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена исследованию мотива смеха и плача в калмыцком фольклоре. Актуальным является его реконструкция через типологические сравнения, поскольку он легко «узнаваем» в различных традициях. Материалом исследования послужили разножанровые фольклорные тексты калмыков - это кумулятивные сказки, реконструкция игры в числовые загадки и эпические тексты. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. Структурно-семантический анализ мотива выявил его архаические корни, восходящие к обрядовым функциям добуддийских верований о космогоническом начале. Так, в архаических верованиях калмыков и их предков ойратов обряд смеха символизировал акт воспроизведения, рождения, а обряд плача повторял обряд похорон. Беспрерывность данных актов в фольклоре передается через повтор, являющийся «наиболее архаичным приемом формирования структуры фольклорного текста». Акт коммуникации, выраженный через повторы в цепевидных структурах, является способом передачи «знаний традиции» о верованиях и представлениях из общей памяти о прошлом. Рудименты этих воззрений, разбросанные в фольклорных текстах и жанрах, при типологической реконструкции с древнегреческой буфонией и ритуалами древнетибетской религии бон обретают смысл и восполняют пробелы в нашем знании. В сказках и загадках метафорические функции смеха и плача имеют лучшую сохранность, нежели в эпических образцах фольклора, что вполне соответствует закономерностям развития народного творчества.
Калмыцкий фольклор, добуддийские верования, мотив, повтор, смех, плач, смерть, возрождение
Короткий адрес: https://sciup.org/149139268
IDR: 149139268 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_382
Текст научной статьи Мотив смеха и плача в калмыцком фольклоре
В настоящей статье предпринята попытка провести анализ мотива смеха и плача в калмыцком фольклоре в семиотическом аспекте, изучить его семантику. Этот мотив выбран не случайно: он малоизучен, но хорошо «узнаваем» в различных жанрах народного творчества. «Узнаваемость мотива» является «для А.Н. Веселовского свидетельством его глубочайшей традиционности, корни которой уходили к архаической сказке и мифу» [Говенько 2021, 515].
В отечественной науке проводились исследования данных категорий как отдельных единиц, так и в оппозиции «смех - плач». Проблеме «смеховой культуры» посвящены работы М.М. Бахтина [Бахтин 1965], Д.С. Лихачева [Лихачев 1973], В.Я. Проппа [Пропп 1976] и других. Обрядовые функции смеха и плача исследованы О.М. Фрейденберг [Фрейден-берг 1997], Т.А. Бернштам [Бернштам 2008] и другими. Героический плач рассмотрен В.М. Жирмунским в тюркской народной поэзии [Жирмунский 1974,405]. Семантические функции мотива одновременного смеха и плача
** The paper was prepared within the framework of the research work of the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences “Oral and written heritage of the Mongolian peoples of Russia, Mongolia and China: transboundary traditions and interactions” (State registration number AAAA-A19-119011490036-1).

рассмотрены и в сказочно-эпических повествованиях монгольских народов. Так Д.А. Носов приходит к выводу, что в монголоязычном сказочном фонде данный мотив восходит к обрядовой семантике [Носов 2016]. Н.Н. Николаева и Л.С. Дампилова описали бинарную оппозицию «смех/ плач» в героическом эпосе бурят. Исследователи заключают, что смех и плач в бурятском эпосе связаны с обрядами перехода, а также с проявлением эмоционального состояния героев [Николаева, Дампилова 2018].
Данный мотив был предметом изучения и калмыцких исследователей. Т.Г. Басангова рассмотрела смеховую культуру калмыков в сказках и небылицах [Басангова 2002] и плач в похоронной обрядности калмыков [Басангова 2007, 260-286]. Н.Б. Пюрвеева исследовала героический плач как один из компонентов эпического повествования [Пюрвеева 2003, 158— 161]. Сохранность и вариативность мотива плача в разновременных записях эпической песни из «Джангара» прослежены нами ранее, в результате чего показан его устойчивый характер [Убушиева 2012].
Смеховая культура калмыков отражена в различных фольклорных жанрах - это дразнилки, прозвища, потешки, сказки и др. Обратим внимание, в первую очередь, на цепевидные структуры. Они рассмотрены в различных традициях, а преломление этих знаний применительно к монгольскому, в частности, калмыцкому, фольклору проясняет многие «темные» места. И.Ф. Амроян пишет, что «повтор - явление универсальное, охватывающее все уровни организации фольклорного текста - языковой, стилевой, ритмический, формальный, сюжетный. Кроме того, повтор в том или ином виде встречается практически в любом произведении фольклора» [Амроян 2006, 12]. Исследователем доказано, что «повтор является одним из наиболее архаичных приемов формирования структуры фольклорного текста» [Амроян 2000]. В свою очередь, Т.В. Говенько пишет о том, что «в исследовании “Типология цепевидных структур” (2000) И.Ф. Амроян подтвердила мысль А.Н. Веселовского о том, что “сюжетно-композиционные нанизывания” восходят к архаической модели сознания и речи и, следовательно, являются одним из самых древних способов организации текстов» [Говенько 2021, 514].
В калмыцких сказках таких структур немного, но отдельные сюжеты содержат и цепевидную структуру, и отголоски архаической обрядности. Эти два элемента прослежены нами в финальных формулах двух калмыцких сказок. В образце «Ик арЬта кецклц бор богшадан тууль» («Сказка об очень ловком и самодовольном воробье») это выражено следующим образом: «.. .tere subun-ni ineyeji ineyeji yolyan-ni xayarad iikuji odci» [ГА PO. Ф. 55. On. 1. № 13805, 51] («...тот воробей смеялся-смеялся, у него лопнула толстая кишка, и он умер». - Здесь и далее перевод автора статьи).
Аналогичная финальная формула содержится и в тексте «Тегтхэ овпю тууль» («Сказка о старике Тегтхя»): «...teqtuxa obogiin ineji ineji yolya-ni xayarad iikube» [ГА PO. Ф. 55. On. 1. № 13805, 133 об.] («Старик Тегтхя смеялся-смеялся и умер от разрыва толстой кишки»).
Относительно данного образца Т.Г. Басангова отмечает: «В этом сюже-

те интересен мотив умирания от смеха. У калмыков заразительный смех обозначается выражением “уктлэн инах” - смеяться до смерти» [Басанго-ва 2002, 120].
Наиболее показательна в этом плане сказка о воробье, которую исследователи выделяют как яркий пример кумуляции в калмыцком фольклоре [Басангова, Манджиева 2011, 178]:
050 об. (1) dorbodaqci tuli 050 об. (2) kezenei nige baiji: obogun emegen xoyor baiji: oboson gertti baiji: boqsada yasal dere stiji (3) xosnogini xatxad okoji: camaigi camaigi cini toloyoigi-cin xazxti yaman-du oci kelenei-bi (4) yaman-du odod kelenei: yaman yaman odod tere yasalin toloyoi xaza: tere-ni cini yasaligi xazxu (5) baituyai oboron isikisen tejiji yadaji bainai-bi: tere boqsada-ni camaigi camaigi idekti (6) cinodu odci kelenei-bi: cino-du odonala: odoji okad: cino cino odod tere yamagi ide genelei: (7) cini yama idekti baituyai oboron beltriqsan tejiji yadaji bainai-bi: camaigi camaigi bi (8) camaigi cokiji alaxu adticiner-tu odci keleneibi: odod adticinar-du kelenele: adticinar (9) adticinar odod tere cinoigi cokoji abuqtan: adticinar kelenlei: cini cino cokiji alxu (10) baituyai adticinar kelenei: cini cono cokoji alxu baituyai aduyan geji okad teneji yabunai bida(n): camaigi camaigi noyon-du oci kelenei-bi: (11) noyondani odod kelenei: noyon kelenei cini adticinar cokiji cokixu baituyai orbongen daji yadaji (12) bainai-bi: camaigi camaigi cini orbongi simkti: xuluyuna-du oci kelenei-bi: kelenelei: xuluyuna 051 (1) xuluyuna odod tere noyoni orbonggini sime: cinin noyoni orbong simkti baituyai kdyegen tejiji yadaji bainai-bi: (2) camaigi camaigi mis-tu oci keleneibi gene: mis-du odod kelenelei: mis mis odod xuluyuna ide giji bile: (3) cini xuluyuna oci idekti baituyai kiikeden tejiji yadaji bainai-bi: camaigi camaigi tuyul xariuldaq (4) kiiked-tii oci kelenei-bi gene: odod kelnelei kiikedtii: ktlked ktlked mis oci abuqtun nadxad genelei: (5) cini mis oci abxu baituyai tuyulan neiltilji okad teneji yabunai- bida(n): camaigi camaigi eke-dti cini (6) oci kelenei-bi: eke-dti odod kelnelei: xoyor emegen nosti saibuji stinalai: emegectid emegectid (7) ktlked tani tuyulan neiltilji okad teneji yabunai oci cokiqtun: cini ktlked oci cokixu baituyai (8) nosan sabuji yadaji bainai bidn: camaigi camaigi nosti-cin taraxu ttirgen salkin-du oci kelenei-bi (9) odod ttirgen salkin-du kelenlei: ttirgen salkin kiirci ired nosti-ni tiderni yaryayad orkdrni (10) oriilad yabunalai: emegedni kiikeden cokid: ktlked-ni misigini cokid: mis-ni xuluyunan ided xuluyuna (11) ni orbonggen simed: noyon-ni adticinaran-ni cokid: adticinaran-ni cinan cokid: cino-ni yamayan ided (12) yaman-ni yasalini toloyan xazad: tere subun-ni ineyeji ineyeji yolyan-ni xayarad iikiiji odci: (13) yeke aryatai kenkeling boro boqsadan ttili togosbei [ГА PO. Ф. 55. On. 1. № 13805, 050 об-051]. (Давно это было. Жили старик со старухой. Был у них соломенный дом. Когда воробей сел на [ветку] ясеня, она уколола его в зад. - Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу козе, которая откусит тебе головку. Отправился к козе и говорит: - Коза, коза, пойди и откуси головку тому ясеню. Та: - Не то что откусить головку твоему ясеню, еле прокармливаю своих козлят. Тот воробей: - Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу волку, который съест тебя. Пришел к волку: - Волк, волк, пойди, съешь ту козу, - говорит. - Не то что съесть твою козу, еле прокармливаю своих волчат. - Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу табунщикам, они забьют тебя до смерти. Отправился к табунщикам и говорит: - Табунщики, табунщики, пойдите, побейте того волка.
Табунщики говорят: - Не то что убить твоего волка, сами сходим с ума, потеряв табун. - Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу нойону. Пошел, сказал нойону. Нойон говорит: - Не то что бить твоих табунщиков, еле поднимаю свой живот. - Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу мыши, которая прогрызет твой живот. Говорит: -Мышь, мышь, пойди и прогрызи живот тому нойону. - Не то что прогрызть живот твоему нойону, еле прокармливаю свой выводок. - Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу кошке, - говорит. Пришел к кошке и говорит: - Кошка, кошка, пойди, съешь мышь, - сказал. - Не то что есть твою мышь, еле свое потомство прокармливаю. -Вот я тебя, вот я тебя! Пойду, скажу детям, которые пасут телят, - говорит. Пошел и говорит детям: - Дети, дети, пойдите, возьмите кошку, поиграйте, - сказал. - Не то что твою кошку взять, телят с [коровами] смешали, не знаем, что делать. - Вот я вам, вот я вам! Пойду, скажу [вашим] матерям. Пошел и говорит. Сидят две старухи и перетряхивают шерсть. - Старухи, старухи, ваши дети телят с [коровами] смешали, не знают, что делать, пойдите, побейте их. - Не то что идти и бить твоих детей, не успеваем перетрясти всю шерсть. - Вот я вам, вот я вам! Пойду, скажу быстрому ветру, который раскидает вашу шерсть. Пошел и сказал быстрому ветру. Быстрый ветер прилетел, [подхватил] шерсть, вихрем стал кружить ее, вынося через двери, занося через дымовое отверстие, старухи побили детей, дети побили кошку, кошка съела мышь, мышь прогрызла живот, нойон побил табунщиков, табунщики побили волка, волк съел козу, коза откусила голову ясеню, тот воробей смеялся-смеялся, у него лопнула толстая кишка, и он умер. Сказка об очень ловком и самодовольном воробье закончилась).
По классификации В.Я. Проппа, сказка соотносима с разделом I «Ряд отсылок или насыпок» [Пропп 1976, 249-250], по международной классификации соответствует сюжетному типу ATU2030 «Старуха и ее свинья» [ATU], В классификации фольклорно-мифологических мотивов образец соответствует разделу «М133. Ветер-спаситель» - «Птичка поранилась о колючее растение, просит его наказать, каждый отказывается, поскольку кто-то другой что-то не сделал, последний - ветер, он дует, и все персонажи один за другим совершают необходимые действия» [Березкин, Ду-вакин].
Эта сказка имеет широкое распространение во всей тюрко-монгольской сказочной традиции. Аналогичная сказка есть в казахском фольклоре [Казахские сказки 1962, 191-192]. Монгольская версия бытует в четырех вариантах [Монгол ардын улгэр 1982, 54-56], бурятская в двух [Бурятские народные... 2000, 92-95], алтайская насчитывает 12 вариантов [Алтайские народные... 2002, 403], тувинская -13 [Тувинские народные... 1994, 412— 413]. Среди калмыков впервые эта сказка была зафиксирована Г. Балинтом в 1871-1872 гг. [Kalmyk folklore... 2011, 225-227], затем И.И. Поповым - в 1890-1892 гг. [ГА РО. Ф. 55. On. 1. № 13805, 50 об.-51], далее Н. Очиро-вым - в 1909-1911 гг. [Живая старина 2006, 83]. И она же была записана у сказителей XX в. С. Манджикова [Хальмг туульс 1968, 227-228] и Ш. Бок-таева [Алтн чеежтэ келмрч Боктан Шаня 2010, 42-43]. В сказках о животных ойратов Синьцзяна также есть сказка на этот сюжет «Betege сауап
boqsiryo» (Белозобый воробей) [Betege cayan boqsiryo 1981, 1-5]. Кроме того, в книге Намкай Норбу «Друнг, Дэу и Бон. Традиции преданий, языка символов и бон в древнем Тибете» (1998) в I главе «Друнг - предания» IX параграф назван «Сказки о воробье». Намкай Норбу пишет, что «даже если такие сказания, как “Золотой Мертвец”, “Легенды о масанг” и “Старый воробей”, не связаны с мифами Бон, они, тем не менее, составляют часть древнего друнг. Если говорить о роли традиции друнг в древнем тибетском обществе, то она, на мой взгляд, заключалась в распространении и формировании культуры, то есть примерно соответствует роли средств массовой информации в наше время. <.. .> Я никогда не видел письменных вариантов “Сказок о старом крапчатом воробье”, в которых повествуется о подвигах старого воробья, чрезвычайно ловкого и смышленого, вечно занятого изобретением каких-то новых хитростей. В детстве я слышал три разных эпизода о старом воробье: первый от своей бабушки по матери Цо-гел, когда ей было сто шестнадцать лет, а два других, составляющих часть отдельного рассказа, от своей бабушки по отцу Лхундруб Цо (1864-1945). Позже я слышал другие истории от горожан-тибетцев, но заметил некоторые отличия, что заставляет предположить, что существует множество разнообразных историй об этом эксцентричном персонаже. В будущем я надеюсь найти время записать известные мне эпизоды и считаю, что было бы очень полезно собирать эти истории непосредственно из уст старых тибетцев» [Намкай Норбу 1998].
«Узнаваемость» сюжета и ее цепевидная структура приводят к мысли об архаическом ядре сказки. Так, И.Ф. Амроян пишет, что при помощи слова человек осуществлял акт коммуникации с природой, а также отмечает: «Вероятно, именно в рамках этой коммуникации и на основе ее фундаментальных законов стали оформляться первичные архаические тексты» [Амроян 2006, 6].
Итак, в данном случае мы имеем - птицу, дерево (шип) и цепевидную структуру. Цепевидная структура архаических ритуалов отмечается исследователями в древнееврейских пасхальных песнопениях [Померанцева 1963, 81], древнегреческих буфониях [Толстой 1966], сказках [Пропп 1976], заговорных текстах [Амроян 2006] и др.
Именно она позволяет нам обратиться к типологическому сравнению с древнегреческой буфонией. О.М. Фрейденберг пишет, что «в греческой обрядности существовал чрезвычайно архаический, потерявший всякий смысл обряд, который ведет нас, несмотря на свои очень своеобразные и беспримерные формы, к первичным стадиям обрядов типа майской пары и Ярилы. Я имею в виду буфонии, праздник обрядового убийства священного быка» [Фрейденберг 1997, 88-89].
Сюжет сказки о воробье в целом такой же, как и у легенды буфонии: воробей укололся шипом - быка режут ножом, воробей, жаждущий наказания, начинает поиски того, кто может это сделать, - такие же поиски виновного идут в буфонии. А тот, кто мог бы наказать, перекладывает эту миссию на другого, как и вину за убийство быка. И в сказке, и в буфонии
наказываются невинные. Важным моментом является финал, в котором выясняется, что воробей затеял все как игру: так и в буфонии все оказывается розыгрышем. Но в сказке воробей умирает от смеха. О.М. Фрейден-берг объясняет: «дело в том, что буфонии, как и майская обрядность, как свадьба, еда, похороны и т.д., никакой причинно-следственной фабулы не имеют; перед нами известное количество параллельных метафор полиста-диального характера, которые различно интерпретируют основной образ 'жертвоприношения’, смерти для воскресения» [Фрейденберг 1997, 89].
Если шип, уколовший воробья и запустивший всю цепь, рассматривать как фаллический символ, то смех - это зарождение, смерть же - это не конечный этап, а «рождающее начало», что в космогоническом масштабе соответствует цикличности природных систем, круговороту природы: восходу и закату, смене зимы на весну, старого года на новый, а, по О.М. Фрейденберг, «первоначальному браку» неба и земли [Фрейденберг 1997, 68], который также преломляется в сюжете калмыцкой сказки о воробье. Если смех - это солнце, которое, в свою очередь, тождественно небу, смерть - это земля, а шип дерева/дерево - это фаллический символ, соединяющий их. Вся эта реконструкция усиливается цепевидной структурой сказки, символизирующей беспрерывную смену воспроизведений.
Другим жанром калмыцкого фольклора, содержащим, на наш взгляд, не менее архаические воззрения калмыков, являются загадки.
И.И. Попов подробно описал бытование игры и зафиксировал важный элемент, относящийся к нашей теме, - это акт осмеяния проигравших. Приведем краткое описание игры:
«Загадки, называемые по-калмыцки тайльгатай (по выговору тэльгэтэ) туу-лисъ, т.е. сказки (смысл которых надо разузнать) распутать - есть одна из игр калмыцкой молодежи. Мальчики и девочки собираются преимущественно в зимнее время в одну кибитку, разделяются на две партии и начинают предлагать друг ДРУГУ загадки <...>. Партия А дает ответ и сама снова начинает предлагать загадки партии В и так дальше до тех пор, пока у какой-либо партии выйдет запас ее загадок. А так как у ней непременно есть уже одна загадка, неразгаданная ею, то противная партия начинает посмеиваться над ней за то, во-первых, что она не отгадала загадки, и за то, во-вторых, что не может предложить загадки. Эти посмехи и называются йандакъ. Как они производятся будет видно из примера, который мы приведем. Посмехами и оканчивается игра.
Итак, приведем пример игры: играющих собралось 11 человек: 1) Кугультэ; 2) Бйвэ; 3) Мушка; 4) Сангаджи; 5) Шарко; 6) Дорджи; 7) Лиджи; 8) Путя; 9) Ун-джу; 10) Аюда; 11) Нану. Толгачи 1-й партии, состоящей из 6 человек, - Кугультэ, толгачи 2-й из остальных пяти - Лиджи. Положим начинает партия Лиджи: «Нэ-гинь - ола» предлагает вопросы она. «Нэги юзсюнь кугэнъ тавхий-чи» (т.е. вопрос: один - разгадай - ответ: разве не угадают раз виденного человека). Партия Кугульты следовательно отгадала (надо заметить, что на загадку можно дать не больше 3 ответов, если ни один из них не будет отгадкой, то хотя бы в четвертый раз и отгадана была загадка, это не принимается в расчет). Тогда партия Лиджи

снова спрашивает: «Хойир?» (Два?). Партия Кугульты отвечает: «Хойир гартанъ бэрьсэнъ тавхийчи?» (Разве упустишь то, что держишь обеими руками?). Снова партия Лиджи говорит: «Гурвунъ?» (Три?). Партия Кугульты не может отгадать. Тогда начинает спрашивать уже партия Кугульты: «Дорвонъ?» (Четыре?). Партия Лиджи отвечает: «Юкуурин дбрвбн коконъ» (Четыре соска у коровы). Партия Кугульты снова спрашивает: «Тавунъ?». Партия Лиджи отвечает: «Гаринъ та-вунъ хургунъ» (Пять пальцев на руке). Партия Кугульты спрашивает: «Зурганъ?» (Шесть?). Партия Лиджи не знает отгадки. Тогда его партия должна сказать отгадку на «Гурбанъ?» (Три?), которую не знала партия Кугульты: «Гурванъ кблини чидырлесэнъ мбринъ харанъ одху билэ?» (Куда уйдет конь, у которого спутано три ноги?). А дальше снова начинает давать загадки партия Кугульты: «Доланъ?» (Семь?). Партия Кугульты говорит: «Одонъ долонъ бурханъ» (Семь звезд Большой Медведицы). Партия Лиджи продолжает: «Найманъ?» (Восемь?). Партия Кугульты говорит: «Найманъ кокотэ олокчинъ кичигудэнъ эсэ тэджэджи чадху-вий?» (Разве не может прокормить своих щенят сучка, когда у ней 8 сосков?). Партия Лиджи спрашивает: «Иэсунъ?» (Девять?). Партия Кугульты не знает отгадки. Партия Лиджи спрашивает отгадку «Зурганъ?» (Шесть?). «Зурганъ юкюрэнъ сасанъ эмэгэнъ бвбгбнъ хойоръ айракъ чигэ эсэ кэджи уджи чадху билю?» (Разве не могут сделать и пить вдоволь айраку и кумысу бабка и дед, которые доят шесть коров?). Дальше же партия Кугульты не знает загадки. Тогда толгачи 1-й партии Лиджи говорит: «Шулугаръ кэлэ, эсэ кэльхлэ-чинь, чамайги йандагалнава» (Говори скорей, если не скажешь, я назначу над тобой посмеяние). Партия Кугульты все-таки не говорит новой загадки. Тогда толгачи Лиджи начинает спрашивать у кого-либо из своей партии, например, Путя: «Иандакъ йундакъ йугини абунай-чи» (Иандак, йундак, что возьмешь?). Путя отвечает: «Толгагини авна-ва» (Возьму голову). Лиджи: «Тэрюгэръ йу кэнэ-чи?» (Что с ней будешь делать?). «Шавуръ кэнэ-вэ» [Сделаю колотушку], - говорит Пути. Лиджи: «Шавраръ йу кэнэ-чи?» (Что будешь делать той колотушкой?). Пути отвечает: «Таса цокна-ви» (Забью прикол). Тогда толгачи Лиджи спрашивает у другого члена своей партии, например, Унджу: «Иандак йундак йугини авна-чи?» (Что возьмешь?). Унджу: «Гарйни авна-ва» (Возьму руки). Лиджи: «Гарарэнъ йу кэнэ-чи?» (Что будешь делать с руками?). Унджу: «Таса кэнэ-ви» (Сделаю прикол). Лиджи: «Гасаръ йу кэнэ-чи?» (Что будешь делать с этим приколом?). «Гэртэнъ чикидху авна-ви» (Привяжу к нему арканами кибитку [во время сильного ветра]). Затем толгачи Лиджи спрашивает у третьего члена своей партии, например, Аюды: «Иандак, йундак, йугини авна-чи?» (Что возьмешь?). Аюда: «Кблйни авна-ви» (Возьму его ноги). Лиджи: «Колэрэнъ йу кэнэ-чи?» (Что будешь делать с его ногами?). Аюда: «Кошу кэнэ-би» (Сделаю подпорку [для кибитки во время ветра]). Лиджи: «Кошугэръ йу кэнэ-чи?» (Что будешь делать с подпоркой?). Аюда: «Гэрэнъ салькинъ болхолайги тулна-би» (Когда будет ветер, подопру кибитку) и так дальше по числу играющих разбирается все тело на части при чем даются те или другие ответы для смеха» [ГАРО. Ф. 55. On. 1. № 13807, 2-4].
Как пишет С.В. Мирзаева, «концепция наказания проигравших, которая, несмотря на разные названия (у калмыков - осмеяние, у бурят и
алтайцев - “продажа”), имеет одинаковую семантику выкупа частей тела проигравшего и трансформации их в различные предметы» [Мирзаева 2020, 796]. Также исследователь отмечает, что «загадка (дэу) в широком смысле как тайный, символический, язык была одним из символов государственности у древних тибетцев» [Мирзаева 2020, 793].
В этой связи важно отметить, что описанная И.И. Поповым игра в числовые загадки от одного до десяти, возможно, берет свое начало в добуд-дийском «ритуале оленя с ветвистыми рогами», смысл которого заключается в подношении выкупа ради продолжения жизни [Намкай Норбу 1998]. Аналогии прослеживаются в основных элементах - это выкуп и числа от одного до десяти. В ритуале - выкуп человеческой жизни, а в загадке - выкуп частей человеческого тела. А также можно указать трансформацию частей тела человека в предметы с фаллической символикой в игре в загадки, а с деревянными рогами оленя с той же семантикой - в ритуале.
Кратко перескажем сюжет: «Вначале, у истоков бытия было три измерения пустого пространства, было Светоносное Видение, была Сияющая тьма. <...> Светоносное Видение сделал небытие бытием, заставил появиться зарю и взойти солнце. Сияющая Тьма сделал бытие небытием, заставил спуститься ночь, заставив умирать живых. Из нижней части своего тела Сияющая Тьма (произвел) царя, министра и вассала дуд и все время требовал выкуп и проявлений магии» [Намкай Норбу 1998]. Далее следует, что для выкупа людей было сделано подношение из парящей птицы, раскачивающегося дерева и бродящего по земле оленя как дар божествам и духам. Затем следуют вопросы и ответы между божествами, духами и птицей, оленем и деревом.
Диалог между божествами, духами и оленем имеет числовые ряды, параллели к которым прослеживаются в игре в числовые загадки. Оленя спрашивают: «О, ты, олень, поднесенный как выкуп, почему у тебя рога, ветвящиеся на десять отростков...?» [Намкай Норбу 1998]. Олень отвечает: «Что касается десяти отростков, ответвляющихся от каждого рога, то первый - выкуп за тело, второй - выкуп за речь, третий - выкуп за ум, четвертый - выкуп за четыре вида рождения, пятый - выкуп за пять скандх, шестой - выкуп за шесть разрядов существ, седьмой - выкуп за “семь раз рожденных”, восьмой - выкуп за восемь составляющих сознания, девятый - выкуп за основу всего, десятый - выкуп за того, ради которого делается этот ритуал. Вот почему у меня десять отростков рогов...» [Намкай Норбу 1998].
Очевидна и цепевидная структура, построенная на ряде вопросов и ответов, как и сказка о воробье, и легенда буфонии.
К тому же отдельные элементы ритуала перекликаются опять же со сказкой и легендой. Для проведения ритуала изготавливают глиняного оленя: его правый рог делают из «мужского дерева» (береза), левый рог -из «женского дерева» (разновидность ивы), требуются ритуальные стрелы, штыри и многое другое. Внутрь оленя также помещаются разные символические предметы. Центральным является выкуп (подношение) за детей.
Олень находится на шерстяной кошме или рассыпанном ячмене [Намкай Норбу 1998] (~ древнегреческий бык, съевший пшеницу). Если объяснять, почему в греческой легенде о буфонии в жертву приносят живого быка, а в тибетском ритуале олень глиняный, то Намкай Норбу допускает, что «Бон оленя, предположительно, служил также и источником ритуалов, совершаемых приверженцами жертвоприношений животных» [Намкай Норбу 1998].
Возвращаясь к насмеханиям в игре в загадки, О.М. Фрейденберг пишет, что суд был частью погребальной обрядности, акт обвинения - тот же акт убийства для воскресения, а суд и смех с игрой, инсценировкой являются обрядовой жертвой Смеху как божеству. В свою очередь, 'смех’, 'улыбка’ семантизируются сначала как новое сияние солнца, как солнечное рождение [Фрейденберг 1997, 89-92].
В этой связи становится ясным значение слова яндаг, которым обозначают насмешки в игре с загадками среди калмыков. В современном калмыцком языке это слово утрачено, но, если отталкиваться от того, что смех - это божество, в тибетском языке слово yang dag означает «совершенный» [Рерих 1986, 229], в монгольском языке лексема 'яндаг’ имеет значение «святой-пресвятой» [Большой академический монгольско-русский словарь 2001, 465], то, на наш взгляд, можно трактовать его семантику как «божества Смеха» (в терминологии О.М. Фрейденберг).
Если в сказках и загадках смех и плач имеют неразрывную связь, то в эпосе она утрачена. Единственным примером, в котором проявляются обе категории, может служить пословица, обнаруженная в Малодербетовском цикле (далее М.Ц.) «Джангара»:
I песня М.Ц. - 25 об. (20) emgen emgen uliqsiyigi suryan ineqsigi sura gedtiq bisiyti [PO БВФ СПбГУ. Calm. C. 4, 1 тетрадь, 25 об.] (Старуха, старуха, плачущего поучай, смеющегося спроси, не так ли говорят).
В этой пословице, по всей видимости, отразилось архаическое представление калмыков о смехе и плаче. Так, ТЕ. Басангова указывает, что «громкий беспричинный смех всегда настораживал, о чем свидетельствует пословица - “У смеющегося спроси причину, а плачущего успокой” или “Не каждый, кто смеется - друг, не каждый, кто сердится - враг”. Речь, сопровождаемая смехом, - признак обманщика» [Басангова 2002, 120].
II песня М.Ц. - 40 об. (24) araq ulan (25) xongyor all zun dundan kotolod (26) xargni geji yobanai bi araq ulan (27) xongyor boqsed inebi: ulan sara bir-med (28) surba ulisiggi surayu inesi- (29) gi sura gebe: zara susan (30) utu cayani mini nada kebei 41 (1) zaraqdad yobaqsan ulain sara (2) birmad biyer mini nada baribici (3) zarad suqsan utu cayanarci (4) cigi nad barigsen tigei bi zaraq- (5) dad yobuqsan biyercini nada (6) bariqsen tigei bi: altan tugin (7) yozurasu araq ulan xongyongi (8) abanai bi: gektilecin orgon tolya (9) xoyorcin yayad ese zarad odanai (10) ged inebti [PO БВФ СПбГУ. Calm. C. 4, 2-я тетрадь, 40 об.-41] (Еду я с намерением встретить и увести к себе [Алого Хонгора]. Алый Хонгор расхохотался. Шара Бирмен из гор спросил: «Плачущего учи, смеющегося спроси», - сказал. Не над Уту Цаганом ли, что
заставил меня [отправиться], насмехаешься? Не надо мной ли, Шара Бир-меном из гор, веление исполняющим, насмехаешься? Я не насмехаюсь ни над Уту Цаганом, что отправил тебя. Не насмехаюсь ни над тобой, веление исполняющим. Я насмехаюсь над тем, что челюсть твоя не отделилась от головы, когда сказал ты о том, что хочешь увести Алого Хонгора из-под золотого знамени).
В данном примере можно усмотреть драматический смех, или же гомерический смех Хонгора над тем, кого он не считает сильным противником, что, по нашему мнению, также может являться отголоском обрядового смеха в эпосе.
В Багацохуровском цикле песен «Джангара» нами не обнаружены какие-либо проявления смеха, но цикл содержит плачи, восходящие к обрядовым действиям.
Так, мы выделили несколько эпизодов с плачем. В двух из них плач предваряет временную смерть, т.е. смерть и новое рождение.
Джангар плачет перед отправлением в Нижний мир к кузнецу Кёке:
II Б. Ц. 31 (25) - ayari zandan arman cuqlulji abad aranzala (26) zerde deren dtired aba: arsan xara nilbusiyyan cuburiilen xailed: [PO БВФ СПбГУ. Calm. C. 17, 31] (Огромное свое сандаловое копье собрав и перекинув через аранзала Зерде, священные прозрачные слезы стал проливать).
Джангар плачет по своему табуну, угнанному в нижний/водный мир, но в этом случае подразумевается временная смерть богатыря Савара, переходящего между мирами для возвращения табуна:
I песнь Багацохуровского цикла (далее - Б.Ц.) - 46 (7) mon ulan xacir (8) degeren mondor xara nilbusan cacala (9) xalebai [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 46] (По румяным щекам своим град прозрачных слез роняя, плакал).
В другом событии противник Джангара рождается с плачем, что можно расценить как предвестник его гибели:
III песнь Б.Ц. - 39 (28) tere mangyus xani xatuni (29) tere soi kukiilji baiji: kobtin yarad ulid unuqsan dugmi sonsuba (30) bi: busu saradan torobebi: bolzoq saradan dungsi yarbabi: [PO БВФ СПбГУ. Calm. C. 17, 39] (В ту ночь хатун того хана мангаса рожала. Я услышал плач родившегося мальчика: «Не в тот месяц родился я. Не в срок родился я»),
В Багацохуровском цикле отразился известный жанр «плач-слава», в котором дается краткое изложение деяний и заслуг богатыря:
I песня Б.Ц. 17 (26) - xan jangyarin zergedii: yaqca kobti- (27) gen yasalangtu mangyiisin oron tala yaqcar odnai gekeleni: abci stiqsan (28) arkin kolbortiled xayji orokoba: aldar jangyar xani omnoni ulin (29) angxarayaji stinai: yazar dundu yaqca ese bilii: yalab dundu oncin (30) ese bilii: debekiidiini jibir tigei ese bilii: deqderkiidiini nokod tigei (31) es bilii: diibirTn ciltin mini ese bilii: diirkiilunngin naran mini (32) ese bilii: dosi altan ulan beldiini: xada ciltini xabcilasu yaqcar (33) uruyiiqsan narin ulan bura mini bilii: biyen tablji baiyad (34) dobotoldoq tas yaridin siiriilge mini ese bilii: 18 (1) ergeji dobotoldiiq ere biirgiidin degdemel mini ese bilii: soyani (2) kiiced tigei sobstir ulan bodong yaxai mini ese bilii: yaqca tire (3) mini yasalangtu mangyasin oron-
du yabulji orkod: aldar jangyar (4) xatatayan amin metii baturmiidtayan arken uyad siixu bolnai ci (5) toro sajin xoyiilagTcin ken tobkiiniiluqsun bi: tomor sumun amicin (6) ken batalad oqsen bi: je tessi iigei mangyosin oron-du: tenngsesi iigei (7) sulmu: lobosorya nokodtei xani oron-diini ilgebeci: xalinngi ulan (8) xonngyorei iigei gekele: xari dorbon oroni camdu omoqltizai: yertiim- (9) jin torogi xada metii baiyiildiiq kiicin cini: burx-ani sajigi naran (10) metii manduliildaq kiicin cini: doci iilii kiirkii nasundan dorbon iiziigein (11) docin tiimen xagi: dorotei kolden morgiildiiq kiicin cini kene kiicin (12) bile ged tiliba: boqsoryan diingge mondor xara nilbusan cubiiriilba: [PO БВФ СПбГУ. Calm. C. 17, 17-18] (Рядом с ханом Джангаром [пребывая], услышал, как сказал он о том, что единственного сына его в страну мангасов одного отправляет. Араку, которую держал, выкинул. Перед славным ханом Джангаром слезы проливая, обратился: - На всей земле, не один ли он? Во все времена, не сирота ли он? Для взмаха крыльев ведь нет у него? В [момент] нерешительности подмоги ведь нет у него? Не моя ли он гордость? Не мое ли торжествующее солнце он? У широкого подножия горы Алтан, из расселины скалы одиноко выросшая тонкая лоза для меня? Не хватка ли он самого себя направляющего и нападающего гаруды? Не птенец ли он мой, кружась нападающего самца беркута? Не молодой ли трехлетний вепрь он мой с неокрепшими клыками? Единственного моего ребенка отправив в страну мангасов, Славный Джангар с хатун своей и богатырями, дорогими, как жизнь, будешь сидеть и аракой угощаться? Кто укрепил державу и религию твои? Кто жизнь твою, что в железной стреле, укрепил? Дже\ В страну невыдержанного мангаса, в помощниках шулмусов и лубсурга имеющего, в страну этого хана отправляешь? Если сказать, что нет горячего Улан Хонгора, как бы чужеземные четыре стороны не вдохновились! Укрепляющий как скалу правление окружающим миром - мощь твоя! Веру в бур ханов, как солнце, возвеличивший - мощь твоя! Сорока лет едва достигнув, сорок туменов ханов четырех сторон света к своим ногам в стременах поклониться заставивший - мощь твоя! Все это чья заслуга была? - говоря, плакал. С воробья величиной град прозрачных слез проливал).
В нашем случае «плач-слава» по богатырю Хонгору исходит от его отца Бёке Мёнген Шигширги, тем самым сужаясь до определения «мужской плач». Следует отметить, что «жанр мужского плача <...> полностью исключает прославление живых» [Абаев 1995, 19]. Но эпический текст подразумевает отправление героя на битву с грозным противником, что влечет за собой неминуемую гибель богатыря. Здесь плач предваряет гибель героя, что и подтверждается «временной смертью» богатыря Хонгора.
Все эпизоды с плачем в Багацохуровском цикле связаны с временной смертью, которая подразумевает смерть и рождение, что соответствует изначальной семантике мотива смеха и плача.
Таким образом, структурно-семантический анализ мотива смеха и плача в калмыцком фольклоре выявил его архаические корни, восходящие к обрядовым функциям добуддийских верований о космогоническом начале. О.М. Фрейденберг пишет, что «обряд плача дублирует обряд похорон <...>; обряд смеха дублирует акт воспроизведения <...> И то и другое в генезисе - не частный акт частного человека, а факты коллективной обще-
ственности, осмысляемое как космогоническое начало, метафоры которого - “плач” и “смех”» [Фрейденберг 1997, 105].
Акт коммуникации, выраженный через повторы в цепевидной структуре, является способом передачи «знаний традиции», куда, по мнению М. Хоппала, «в первую очередь входит набор верований и представлений участников коммуникации, а также их общая память, общая информация о прошлом» [цит. по: Неклюдов].
Следовательно, мы имеем крупицы архаических реликтов с разностадиальными напластованиями, и наш семантический анализ носит вероятностный характер, ведь, как пишет С.Ю. Неклюдов, «семантика существует как бы “за текстом”, скорее “вне его”, чем “внутри него”, хотя, конечно, надо помнить, что все подобные определения являются лишь метафорами, позволяющими более или менее наглядно представить этот практически непредставимый предмет» [Неклюдов].
Список литературы Мотив смеха и плача в калмыцком фольклоре
- Абаев В.И. Жанровые истоки «Слова о полку Игореве» // Абаев В.И. Избранные труды. Т. 1. Религия. Фольклор. Литература. Владикавказ: Ир, 1990. C. 509-537.
- Амроян И.Ф. Типология цепевидных структур. Тольятти: Междунар. акад. бизнеса и банк. дела, 2000. 122 c. URL: https://ruthenia.ru/folklore/amroyan1.htm (дата обращения: 01.11.2021).
- Амроян И.Ф. Повтор в структуре фольклорного текста (на материале русских, болгарских и чешских сказочных и заговорных текстов): автореф. дис. ... канд. филол. н. М., 2006. 46 с.
- Басангова Т.Г. Смеховая культура калмыков (предварительные замечания) // Смех: истоки и функции. СПб.: Наука, 2002. С. 119-126.
- Басангова Т.Г. Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2007. 592 с.
- Басангова Т.Г., Манджиева Б.Б. Калмыцкая кумулятивная сказка: проблемы классификации и сохранности текста // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. Т. 4. № 1. С. 177-181.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 с.
- Березкин Ю.Е., Дувакин Е.Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: https://ruthenia. ru/folklore/berezkin/ (дата обращения 01.11.2021).
- Бернштам Т.А. Феномен «смех-плач» в русской народно-православной культуре // Христианство в регионах мира. Вып. 2. СПб.: Наука, 2008. С. 298-376.
- Большой академический монгольско-русский словарь. Монгол орос дэлгэрэнгуй их толь. Т. 4. Х-Я / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. М.: Academia, 2002. 532 с.
- Говенько Т.В. Теория А.Н. Веселовского о мотиве и сюжете в отражении фольклорной сказки // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2021. Т. 3. № 3. С. 511-518.
- Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. 727 с.
- Лихачев Д.С. Древнерусский смех // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск: Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева, 1973. С. 84-92.
- Мирзаева С.В. О народно-бытовой традиции загадывания загадок у донских калмыков (по материалам И.И. Попова) // Oriental Studies. 2020. Т. 13. № 3. С. 790-803.
- Намкай Норбу. Друнг, Дэу и Бон: традиции преданий, языка символов и бон в древнем Тибете / пер. с англ. Ф. Маликова и др. М.: Либрис, 1998. 362 с. URL: https://www.twirpx.org/file/2465175/ (дата обращения: 01.11.2021).
- Неклюдов С.Ю. Семантика фольклорного текста и «знание традиции». URL: https://ruthenia.ru/folklore/neckludov14.htm (дата обращения: 01.11.2021).
- Николаева Н.Н., Дампилова Л.С. Мотив смеха/плача в героическом эпосе бурят // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. N° 12 (90). Ч. 2. С. 244-248.
- Носов Д.А. Семантика одновременного плача и смеха в народных сказках монголов, бурят и калмыков // MONGOLICA-XVI. СПб.: Петербургское востоковедение, 2016. С. 51-54.
- Померанцева Э.В. Русская народная сказка. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 128 с.
- Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре // Пропп В.Я. Фольклор и действительность: избранные статьи / сост., ред., пред. и примеч. Б.Н. Путилова. М.: Наука, 1976. С. 174-204.
- Пюрвеева Н.Б. Поэтика героического эпоса «Джангар». Элиста: Джангар, 2003. 240 с.
- Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. Вып. 8. М.: Наука, 1986. 311 с.
- Толстой И.И. Обряд и легенда афинских буфоний // Толстой И.И Статьи о фольклоре. М.; Л.: Наука, 1966. С. 80-96.
- Убушиева Д.В. Сохранность и вариативность эпического текста (материал трех вариантов песни «О том, как не покоренный в семи поколениях свирепый Хара Кинес пленил Алого Хонгора благородного, льва из львов» (1862, 1969, 1971 гг.) // Давид Кугультинов - поэт, философ, гражданин. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося российского поэта. Элиста: Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 2012. С. 132-138.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / подгот. текста, общ. ред. Н.В. Брагинской. М.: Лабиринт, 1997. 445 с.
- Uther H.J. The types of international folktale: a classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson / ed. staff S. Dinslage. Helsinki: Suomal. tiedeakat., 2004. 619 p.