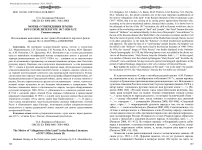Мотив "утверждения земли" в русской литературе 1917-1920-х гг. Статья вторая
Автор: Богданова Ольга Алимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
На материале художественной прозы, поэзии и эссеистики Д.С. Мережковского, С.Н. Булгакова, Г.И. Чулкова, И.А. Бунина, М.М. Пришвина, А.М. Ремизова, С.Н. Дурылина, М.А. Волошина и др. в статье рассмотрена одна из важнейших модификаций мотива «утверждения земли» в русской литературе революционных лет (1917-1920-е гг.) - упование на ее спасительную роль по отношению к предавшему, по мнению названных авторов, свое Отечество русскому народу. Показано, как в результате произошедшего в огне революции 1917 г. сдвига в русской национальной картине мира, обусловленного разрывом отождествлявшихся столетиями понятий «земля» и «народ», именно «земля» стала главной носительницей «святости» как национальной идентичности. В виду «недостоинства» народа в эпоху русской катастрофы (Первой мировой войны, победившей революции и Гражданской войны), центр тяжести в составе понятия о родине, России, переместился на другую его составляющую - землю, «святость» которой теперь нуждалась во все большем обосновании и утверждении. Чем бледнее становилась мысль о «богоносности» народа, тем ярче обнаруживалась в русской литературе 1900-1910-х гг. убежденность в «святости» родной земли. В 1916 г. «вечный» образ «Святой Руси» впервые отобразился в православной церковной гимнографии. В 1918 г. в службу всем русским святым была внесена знаменитая стихира: «Русь святая, храни веру Православную». В связи с этим в ряде литературных текстов рассмотрены смежные мифологемы «Святой Руси» и «Невидимого града Китежа», получившие особую сотериологическую актуальность в период радикальной ломки, опасной для самого существования исторической России.
Мотив "утверждения земли", "грех земле", народ, революция 1917 г., "святая русь", Россия, "невидимый град китеж"
Короткий адрес: https://sciup.org/149127100
IDR: 149127100 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00072
Текст научной статьи Мотив "утверждения земли" в русской литературе 1917-1920-х гг. Статья вторая
В эсхатологическом «Слове о погибели русской земли» А.М. Ремизова, написанном вслед за октябрьскими событиями 1917 г, видим картину, сходную с бунинскими произведениями революционных лет. Вспоминая о чудесном спасении России в лихолетье Смутного времени (начала XVII в.), автор писал: «поднялись русские люди во имя русской земли <...>» [Ремизов 2000, 404]. «Русская земля» здесь самостоятельная величина, святыня, ради которой идут на подвиг. Однако теперешние «вожди слепые <.. > душу вынули из народа русского», он потерял человеческий облик -«<...> слышу обезьяний гик», когда «пинают и глумятся над святыней <...>», «матерью <...>униженной» [Ремизов 2000, 405-406]. «Смертный грех», «грех <...> непрощаемый» русского народа в том, что он «землю забыл <.. > свою колыбельную» [Ремизов 2000, 409]. Симптоматично, что «Слово к матери-земле» и «Заповедное слово Русскому народу» писатель создал каждое само по себе, противопоставив в них две прежде нераздельные составляющие России. В первом из «Слов» Ремизов прямо обратился к земле с просьбой о спасении русского народа: «Смилуйся, мать <...>» [Ремизов 2000, 411-412]. Во втором призвал «обокравший самого себя» народ к покаянию: «стукнись коленами о камень <.. >, поцелуй ее, оскорбленную, поруганную тобою землю, и, встав, подыми свое ярмо и иди» [Ремизов 2000, 415, 420].
Осмысляя сломы революционной эпохи в эссеистических записях «В своем углу» 1924 г, С.Н. Дурылин заметил, что из уст русского народа, когда-то сложившего былины и великую песню «Не шуми ты, мати, зе- леная дубравушка», теперь раздается похабная частушка. Одно это, по мнению Дурылина, свидетельствует о «страшном перерождении» «всего душевно-телесного его состава», перестройке «из высшего в неизмеримо низшее вещество всех клеток и атомов его тела», перемене «к неизмеримо худшему, заведомо гнилому, всего состава его крови <...>» [Дурылин 2006, 156]. А в более раннем рассказе «Грех земле» (1919), написанном в разгар революционных событий, автор дал объяснение случившемуся с его народом. Первая часть рассказа ведется от лица кладбищенского священника, принимавшего «в покаянные дни <.. > всенародную общую исповедь» [Дурылин 2017, 200]. И вот среди обычных человеческих грехов: воровства, зависти, осуждения, ропота, отчаяния и т.п., - из уст молодого, красивого, сильного солдата прозвучало «неканоническое» признание: «<...> я <...>, батюшка, <...> земле грешен» [Дурылин 2017, 202]. И это был «главный грех», мучивший солдата «давящей» тоскою и не способный выразиться в словах. И еще это был грех целого поколения «детей страшных лет России» [Блок 1997, 187] - Первой мировой войны и революции. Что же сделал этот солдат и миллионы таких же, как он, вопрошал автор, «что самое слово не вскрывает томящего греха», а только повторяется с тоской: «“Я землю обидел. Я земле грешен”. Что же он сделал?» [Дурылин 2017, 204].
Мотив греха против матери-земли, тесно соединенный с представлением о ее святости, был присущ исконно языческому миросознанию русского народа на протяжении веков, что отражено в былинах и духовных стихах [см.: Федотов 1982]. Из него вытекал мотив исповеди земле, «странный обряд русской древности», имевший двойственный, языческо-христианский, характер [см.: Смирнов 2004]. Под влиянием православной церкви в народе постепенно сложилось софийное почитание земли как воплощения Богородицы - вспомним «софиологическую формулу» из «Бесов» Достоевского: «Богородица - великая мать сыра земля есть <.. .>» [Достоевский 1974, 116], - которое соединило языческое понятие о «грехе земле» с христианским покаянием [см.: Зандер 1960].
Однако в дурылинском рассказе сама постановка вопроса указывает на разделение земли и народа, который, «согрешив» своей земле, утерял качества, делавшие его народом именно этой земли, т.к. совершенный «грех земле» был настолько серьезен, что не мог быть ни исповедан, ни, соответственно, прощен...
Отмечая возросший интерес русской культуры Серебряного века к фольклорному духовному стиху, А.И. Резниченко пишет: «<.. > трактовка матери-заступницы Земли безгрешной как страдающей от человеческого греха характерна для 1910-х гг, когда теллурические мотивы присутствовали в творчестве многих современников С.Н. Дурылина - и поэтов, и философов (достаточно вспомнить философов С.Н. Булгакова, свящ. П.А. Флоренского, кн. Е.Н. Трубецкого; поэтов Н.А. Клюева и Вяч. Иванова). Однако здесь еще нет речи о метафизическом предательстве, непроща-емом грехе. Тема непрощаемого греха (вариант: всеобщей бесноватости) в разных своих формах появляется в русской философской риторике только после Октябрьского переворота 1917 г. и Гражданской войны» [Резниченко 2017, 197-198].
Если обратиться к творчеству М.А. Волошина революционных лет, то увидим, как в неопубликованной при жизни статье «Русская бездна» (1919) он настойчиво говорил о спасительной роли русской природы, русской земли по отношению к населявшему ее народу и в Смутное время, и в периоды борьбы с Карлом XII, с Наполеоном, и в годы Первой мировой войны: «Когда слабели люди, на защиту Руси выступала стихия и отвечала врагу то морозом, то пламенем пожаров, то непреодолимыми пространствами»; «<...> когда Франция и Англия боролись за свое существование, - у нас в России было чувство безопасности: “География постоит за нас”» [Волошин 2008, 412]. В стихах, приведенных в другой неопубликованной при жизни статье тех же лет - «Россия распятая» (1920), Волошин сосредоточился на характеристике «безумием объятого», «бесноватого» народа, который свою родину «сам выволок на гноище, как падаль» [Волошин 2008, 464-465]. «Иудин грех» русского народа по отношении к России непростителен по определению - по аналогии с евангельской историей о предателе Христа, который сам обрек себя на гибель... А в стихотворении «Китеж» читаем:
Святая Русь покрыта Русью грешной И нет в тот град путей <.. > [Волошин 2008, 493]
Другими словами, «Святая Русь», святая русская земля жива, несмотря на отпадение от нее Руси революционной. Однако связь между ними оборвана...
Не столь пессимистично стихотворение «Заклятье о Русской земле». В фольклоре заклятье - жанр народной обрядовой поэзии, обладающий магической интенцией, направленной на осуществление желаемого. Хотя автор и верил в то, что «Русь встанет» благодаря некоему «железному Мужу» - фольклорно-мифологическому персонажу, поедающему человеческие боли и беды и тем самым освобождающему от них, - в момент написания стихов земля лежала
Разоренная, Кровавленная, опаленная. По всему полю -Дикому - Великому -Кости сухие - пустые, Мертвые - желтые <.. >
Тем не менее, очевидно, что «Свято-Русская» земля, превращенная обезумевшим народом в «Дикое поле», в недрах своих сохранила спаси-

тельный, целительный, свой воскресительный потенциал:
Не пламя гудит, Не ветер шуршит, Не рожь шелестит — Кости шуршат, Плоть шелестит, Жизнь разгорается... <.. > [Волошин 2003, 364-365]
Свидетельство о разделении земли и народа найдем и в поэме А.А. Блока «Двенадцать», где идущие по мостовой красногвардейцы подбадривают друг друга так:
Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь -В кондовую, В избяную, В толстозадую!
Эх, эх, без креста!
[Блок 1999, 12]
Показательно, что отмеченный сдвиг в национальной топике конца 1910-х - начала 1920-х гг. обнаруживается в творчестве публицистов, прозаиков и поэтов разной идейно-эстетической ориентации: символистов (Д.С. Мережковский, М.А. Волошин, А.А. Блок, Г.И. Чулков) и неореалистов (А.М. Ремизов, И.А. Бунин, М.М. Пришвин, С.Н. Дурылин), - что, как нам кажется, свидетельствует о его масштабности.
Неудивительно поэтому, что, в виду «недостоинства» народа в эпоху русской катастрофы (Первой мировой войны, победившей революции и Гражданской войны), центр тяжести в составе понятия о родине, России, переместился на другую его составляющую - землю, «святость» которой теперь нуждалась во все большем обосновании и утверждении. Недаром многовековая и многозначная мифологема «Святой Руси» обрела новое дыхание, причем это случилось еще в преддверии грозовых событий первых десятилетий XX в., как раннее обнаружение подземных исторических токов, еще не вышедших на поверхность жизни. Чем бледнее становилась мысль о «богоносности» народа, тем ярче обнаруживалась в русской литературе 1900-1910-х гг. убежденность в «святости» родной земли.
Так, в докладе «Евангельский смысл слова “земля”», прочитанном в петербургском Религиозно-философском обществе в 1909 г, Вяч.И. Иванов противопоставил «землю» как «Невесту» Христа, вписавшего «в Землю свой новый завет ей» и начертавшего «на ней знак своего обета», «миру сему» как плененному Сатаной «наличному порядку» [Иванов 1994 а, 151, 147]. Развивая высказанные мысли в статье «Живое предание» (1915),
Иванов писал, что «Святая Русь» - это «чистое задание, всецело противоположное наличному, данному состоянию русского мира». Тем не менее, она неотделима «от видимой и грехом оскверненной Руси», являясь «ее душой, корнем, глубью». «Живою связью» между «этими глубинами и наружною поверхностью» служит сонм русских святых, которые в течение веков сопровождали российскую историю и почитались русским народом [см.: Иванов 1994 Ь, 348-349]. Исчезновение святых с русской земли, по логике ивановской мысли, разорвет связи между «Святой Русью» и современной ему Россией, лишив последнюю главного источника жизненной силы. В самом начале катастрофического 1917 г. в работе «Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского» Иванов продолжал настаивать на первостепенной роли сохранения святости для самого существования России: «Святая Русь есть Русь святынь <...> и Русь святых», «соборность вокруг святых», «агиократия, как господство святых» [Иванов 1994 с, 334-336]. В том же эссе поэт-философ, обратившись к образу Алеши Карамазова, говорил, что герой Достоевского «полагает <.. .> основание <...> новой “святой Руси”, “святой Руси”-дочери» [Иванов 1994 с, 320], тем самым намечая будущий фазис существования «Святой Руси», подчеркивая перспективность и огромную актуальность для входящей в революционную бурю России этого, казалось бы, осколка далекого прошлого.
По следам путешествия в нижегородские леса к озеру Светлояр, берега которого издревле считались «святой землей» благодаря сокрытому в этих местах легендарному Китежу, М.М. Пришвин опубликовал повесть «У стен града невидимого» (1909), нацеленную, как и все его творчество, «на фиксацию настоящего, отдельных эпизодов текущей перед глазами автора жизни» [Кнорре (Константинова) 2017, 145]. Гостя накануне в имении одной доброй помещицы в средней России, он, с одной стороны, удивлялся «обыкновенным козлоногим мужикам», не могущим с радостью жить на своей земле и постоянно против чего-то протестующим, с другой - с неподдельной любовью восклицал: «Родная земля... Я хотел бы поцеловать ее... Но у нас в бедной равнине не принято выступать с такими чувствами <.. .>» [Пришвин 1982, 394, 389]. Однако встреченный им близ святого озера иной народ - старообрядцы - был накрепко соединен со своей землей: «Старушки и старички выросли из земли, подсели к костру» [Пришвин 1982, 413]. Тем не менее, и здесь автор замечает новую тенденцию - на холме с выстроенной новообрядческой церковью «<...> с усердием щелкают подсолнухи, сплевывают <...>, кое-где курят. Ни одного староверского аскетического лица <...>» [Пришвин 1982, 433]. «На святую землю плюют», - горюет старообрядец Ульян. «Мерзость и запустение, - отзываются другие» [Пришвин 1982, 434]. А народный вольнодумец Прохор Иванович, которому «церкви не надо, он прямо с богом беседует», словно прозревая сквозь десятилетие, слышит, как «земля плачет. Вот видишь. Не верь красным, не верь белым. Ох, земля-то плачет. Прытко плачет земля» [Пришвин 1982, 445].
С.Н. Дурылин в работе 1913 г. «Рихард Вагнер и Россия. Вагнер о будущих путях искусства» одним из первых в русской литературе связал с мифологемой «Святой Руси» «сказание о невидимом граде Китеже» как «главном создании русского народного христианского мифомышления» [Дурылин 2014 а, 89]. Размышляя о смысле знаменитой сцены целования земли в «Братьях Карамазовых», философ писал: «Не один Алеша упал на землю, услыхав призыв горький к земле: ранее его упал на китежскую землю русский народ в лице десятков, сотен, тысяч, сходящихся к Невидимому Граду. Глубочайшее откровение Достоевского здесь совпадает с вековым народным мифомышлением о земле и слезах: ибо Китеж ушел в землю только до Второго Пришествия, и земля свята, она освящена невидимыми китежскими крестами, доныне сияющими в глуби земной <...>» [Дурылин2014 а, 96-97]. Ав «Лике России» (1916)утверждал: «<...> идеал Святой Руси <...> указывает <...> путь, которым должна идти <...> Русь, осуществляя свое призвание» [Дурылин 2000, 275; курсив С.Н. Ду-рылина]. В разгар бедствий и разрушений 1923-1924 гг. он и в Челябинской ссылке, как к «хлебу насущному» для уже послереволюционной России, обращен все к тому же идеалу: «Святая Русь <...> есть как бы душа России, ее внутреннее, сокровенное, умопостигаемое ядро <...>»; «<...> без <.. > “Святой Руси” <.. > и Россия тускнеет, блекнет и превращается в <.. .> ужасное держимордовское государство <.. .>» [Дурылин 2014 Ь, 659, 658].
О возросшей актуальности «вечного» образа «Святой Руси» как сокровенного православного идеала и того «малого стада», ради которого и сохраняется Россия, свидетельствует и то, что в преддверии темных десятилетий он отобразился, наконец, в церковной гимнографии. Впервые «Святая Русь» прозвучала в 1916 г. в гимне, входившем в службу священномученику патриарху Московскому и всея Руси Гермогену, автором которой был протоирей Илия Гумилевский: «Богу нашему тобою слава, тебе же, священномучениче Ермогене, довлеет радоватися во свете лица Его и непрестанно молитися, да не погибнет Русь святая». В последнем икосе песни 7-й св. Гермоген назван «предстателем за землю нашу» (курсив мой. - О.Б.). В 1918 г. в составленную иеромонахом (позднее епископом) Афанасием (Сахаровым) и профессором Петроградского университета Б.А. Тураевым службу всем русским святым была внесена и утверждена Поместным собором знаменитая стихира: “Русь святая, храни веру Православную <...>”» [см.: Гайда 2013].
Еще в 1916г. Дурылин пророчески предупреждал: «Есть некий закон исторического возмездия, немедленно вступающий в грозную силу, как только нарушена правда добра и истины в исторической жизни народа»; «исторические неудачи и беды есть не случайность, а справедливая кара за нарушение народом в его исторических деяниях Божественного закона» [Дурылин 2000,270,269]. Революция и Гражданская война в 1917-1921 гг. обнажили болезненные, трагические противоречия русской жизни, привели к катастрофическим сдвигам в русской картине мира. Однако цели-

тельные силы национальной души - «<.. .> небывалое цветение святости: святость мучеников, исповедников, духовных подвижников в миру» [Федотов 1990,239], искупительный подвиг тысяч христианских новомучеников 1920-1930-х гг. - также были призваны к действию.
Список литературы Мотив "утверждения земли" в русской литературе 1917-1920-х гг. Статья вторая
- Гайда Ф. Что значит «Святая Русь»? // Нескучный сад. 2013. № 5-6 (88). URL: http://www.pravoslavie.ru/63409.html (дата обращения 4.12.2018).
- Дурылин С.Н. В своем углу. М., 2006.
- Дурылин С.Н. Лик России // Дурылин С.Н. Русь прикровенная. М., 2000. С. 232-290.
- Дурылин С.Н. Рихард Вагнер и Россия. Вагнер о будущих путях искусства // Дурылин С.Н. Статьи и исследования 1900-1920-х годов. СПб., 2014. С. 71-106.
- Дурылин С.Н. Заметки о Нестерове (Впечатления, размышления, домыслы). III. Святая Русь // Дурылин С.Н. Статьи и исследования 1900-1920-х годов. СПб., 2014. С. 650-660.
- Дурылин С.Н. Грех земле (Письмо к другу): рассказ // Христианское чтение. 2017. № 1. С. 200-208.
- Зандер Л.А. Земля благая // Зандер Л.А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-на-Майне, 1960. С. 31-62.
- Кнорре (Константинова) Е.Ю. Дневники и художественные произведения М.М. Пришвина в период Первой мировой и гражданской войн: жанр и концепция «творческого поведения» // Кризисные ситуации и жанровые стратегии / ред.- сост. В.В. Савелов, В.И. Тюпа, О.В. Федунина. М., 2017. С. 141-152.
- Смирнов С.И., проф. Исповедь земле // Смирнов С.И., проф. Древнерусский духовник: исследование с приложением: материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. М., 2004. С. 429-473.
- Федотов Г.П. Мать-земля. К религиозной космологии русского народа // Федотов Г.П. Полное собрание статей: в 4 т. Т. 3. Тяжба о России (Статьи 1933- 1936). Paris, 1982. С. 219-240.
- Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990.