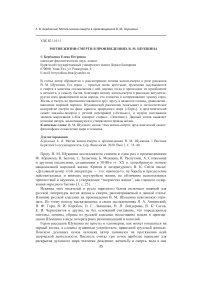Мотив жизни-смерти в произведениях В. М. Шукшина
Автор: Берзкина Е. П.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье автор обращается к рассмотрению мотива жизни-смерти в ряде рассказов В. М. Шукшина. Его герои - простые люди, крестьяне, труженики задумываются о смерти в моменты столкновения с ней, именно тогда и происходит их приобщение к вечности, к смыслу бытия. Благодаря мотиву жизни-смерти в рассказах актуализируется идея нравственной силы народа, его единства и сопереживания чужому горю. Жизнь и смерть не противопоставляются друг другу, а являются силами, уравновешивающими мировой порядок. Шукшинский рассказчик показывает и онтологическое восприятие смерти на фоне красоты природного мира («Горе»), и архетипический сюжет свадьбы-похорон с речной переправой («Осенью»), и мудрое постижение законов мироздания («Как помирал старик», «Земляки»). Данный мотив выявляет позицию автора, заключающуюся в утверждении правды жизни.
В. м. шукшин, мотив, тема жизни-смерти, архетипический сюжет, философское осмысление мира и человека
Короткий адрес: https://sciup.org/148316613
IDR: 148316613 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Мотив жизни-смерти в произведениях В. М. Шукшина
Берёзкина Е. В. Мотив жизни-смерти в произведениях В. М. Шукшина // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 2. С. 35–40.
Прозу В. М. Шукшина исследователи ставили в один ряд с произведениями Ф. Абрамова, В. Белова, С. Залыгина, Б. Можаева, В. Распутина, А. Солженица и другими писателями, создавшими в 50-80-е гг. XX в. своеобразную эпопею национальной народной жизни. Критик и литературовед В. К. Сигов писал: «Духовный центр этой литературы — это, наконец-то, не борьба и преодоление действительных и мнимых неустройств жизни, не обличение всевозможных препятствий и неувязок, а утверждение “творчества жизни”, как главного содержания народного бытия» [3, c. 25].
Искания этих писателей в русле народного бытия включают важный для русской литературы мотив жизни и смерти, рассматриваемый в данной статье. Влияние русской классики на произведения В. М. Шукшина невозможно отрицать. По этому поводу высказывались в своих исследованиях JI. A. Аннинский, В. Ф. Горн, В. И. Коробов, О. Г. Левашова, H. JI. Лейдерман, В. К. Сигов, Е. В. Черносвитов и другие, не без оснований считавшие, что определенные эпизоды, мотивы, образы из русской классики неосознанно вошли в произведения Шукшина в виде литературных реминисценций и аллюзий.
Герои рассказов Шукшина не просты и одномерны, как может показаться на первый взгляд, а сложны душевным устройством, праведной трудовой жизнью. Поиском духовных основ человека автор занимался на протяжении всей творческой деятельности. Писатель считал три точки наиболее важными для раскрытия духовного мира человека: рождение, женитьбу и смерть, видя в них высшую предопределенность, соединение начала и конца. Он считал, что поведение человека в момент смерти, его помыслы, чувства и слова являются показателем нравственных основ личности. Эту особенность его произведений исследователи отмечали не раз: «Требуется немалая художественная (да и человеческая!) сила, чтобы достоверно, художественно, убедительно показать смерть» [4, с. 7].
Постижение героями Шукшина неотвратимого конца земного пути происходит в русле того мортального кода, когда понятия жизни и смерт не просто противопоставлены друг другу, а взаимопроникают друг в друга, создавая единое дуальное восприятие мира. К мотиву смерти автор обращается в целом ряде рассказов: «Горе», «Заревой дождь», «Как помирал старик», «Залетный», «Жил человек», «Осенью», «Солнце, старик и девушка», «Охота жить», «Земляки» и других.
На соотношении красоты природного мира и переживаний смерти жены-старухи построен рассказ «Горе» (1967). Героем-рассказчиком является взрослый человек, повествующий о случае из своего детства. Обрамлением произведения становится величественный пейзаж лунной летней ночи, сопрягающей земное и небесное, придающей мотиву смерти универсальный смысл, обращенный к непреложной истине о вечности бытия и конечности человеческого существования. Видение луны вызывает у героя воспоминание, когда он, будучи двенадцатилетним мальчишкой, случайно становится свидетелем того, как старик-сосед Нечаев, три дня назад похоронивший жену, разговаривает с ней. Он не может смириться с потерей близкого человека, спрашивает, что ему теперь делать без нее, и никак не может унять слезы. Горе старика настолько всеобъемлюще, что мальчишка-подросток, до этого наслаждавшийся прекрасной летней ночью и видом луны, тоже оказывается поглощен этим чужим, но таким близким несчастьем: «Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла. Горе маленького старика заслонило весь прекрасный мир» [5, с. 228]. Невозможно испытывать радость, когда другого человека охватывает горе; сочувствие и сопереживание, умение сострадать, жалеть — вот что вкладывает Шукшин в нравственный облик своего героя.
Другой ведущий мотив данного рассказа — гнетущее, непосильное одиночество, с которым главный герой никак не может смириться: «Узнал я в ту хорошую, светлую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку» [5, с. 226]. Старик, оставшийся совершенно один, без жены и детей, которые разъехались по разным городам, не знает, что ему делать дальше одному и как жить, когда он никому не нужен. В этот период смерть не воспринимается стариком как естественное явление человеческой сущности. По русской православной традиции, грех впадать в уныние, поскольку жизнь важнее и больше момента смерти, но герой не может успокоиться, смириться с этим непреложным законом бытия. И он уже не уход жены оплакивает, а свое одинокое существование.
Выходом из депрессии становится преодоление одиночества, разговор с кумом, соседом, и жизненное начало побеждает, потому что воплощением жизни является осознание себя частью мира, людей, народа, чужих горестей и радостей. Успокоение для старика наступает лишь тогда, когда он слышит рассказ своего кума о том, как на войне прямо у него на руках погиб молодой лейтенант и как кум после этого не мог смотреть в глаза его отцу, сообщая о гибели сына. Автор проводит мысль о том, какую важную роль в сознании русского человека играет православное христианское смирение: у других бывает еще хуже, поэтому нужно продолжать жить и не роптать на судьбу, как бы тяжело ни было.
В финале рассказчик отмечает, что в это время на улице все также сияла луна: «В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут — сияет!» [5, с. 229]. Сияние луны стало восприниматься героем-рассказчиком как «мертвенное». Природа высока и отстранена от человеческого горя или радости, именно благодаря этому создается онтологическое восприятие смерти как неотъемлемой части гармонии мира, где противоположности уравновешены.
Мотив жалости и участия в чужой судьбе становится важным в понимании конфликта рассказа «Заревой дождь» (1966), хотя и принимает несколько иной характер. Если в «Горе» жалость к старику была бы естественным проявлением для любого человека, то в данном рассказе жалость принадлежит конкретно православному сознанию: герой Кирька — раскулаченный крестьянин, жалеет умирающего Бедарева, который в свое время причинил ему немало горя. «Шел Кирька и грустно смотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему жалко? Грустно было и жалко, и все» [5, с. 318]. В минуту чужой беды и смерти (Кирилл видел, как содрогнулась от ужаса дочь Ефима, Нина) собственные обиды отходят на второй план, становятся мелкими, незначительными. Сострадание, сопереживание, проекция чужого горя или чужой радости на свою жизнь — черты, отличающие православного русского человека. Реакция Кирьки на смерть «врага», примирение, потребность высказаться и облегчить свою душу указывают на приобщение героя к вечному смыслу бытия.
Другой вопрос, связанный с мотивом смерти, который поднимает в «Заревом дожде» Шукшин, — это вопрос совести. Кирька появляется в больничной палате именно тогда, когда Ефим Бедарев уже близок к смерти, и начинает взывать к его совести: «Я хочу узнать: как вобче-то? Мучаешься?» [5, с. 314], на что Ефим лукавит и отвечает, что ему все равно, хотя в душе тяжело переживает предчувствие скорой смерти. Он продолжает упорно стоять на своем мнении о том, что раскулачивание, создание колхоза, которыми он занимался большую часть своей жизни — это великий шаг к переменам во благо всему народу: «Хотел, чтобы таких дураков, как ты, меньше было» [5, с. 315], говорит Ефим Кирьке, считая, что его совесть должна быть чиста. Но все же он мучается душевно, ощущает несоответствие своего давнего общественного долга и нынешнего человеческого чувства. Противостояние бывших классовых врагов становится внутренним конфликтом ума и сердца, именно в последние предсмертные минуты Ефим силится что-то сказать, но уже не может, духовного очищения героя не происходит.
Особую мифопоэтическую функцию окна в данном рассказе выделяет А. И. Куляпин. «Кирька, появляющийся в окне больничной палаты умирающего Ефима, становится персонификацией Смерти и даже говорит от ее имени... Не вызывает сомнений использование Шукшиным окна в функции мифопоэтического символа в сцене смерти Ефима...» [2, с. 98]. Именно окно становится границей, разделяющей два мира (социальный и природный), два сознания (государственное и народное) и два состояния (смерти и жизни). Дождь — это слово выведено автором в названии рассказа — способствует очищению в природном мире и одновременно указывает на очищение от обид и бед души Кирьки. Дождь олицетворяет жизнеутверждающее начало, и потому финал рассказа можно считать светлым.
В рассказе «Солнце, старик и девушка» изображено отношение 25-летней девушки-художницы к умершему слепому старику, которого она начала рисовать. Ей становится неловко, что она задавала старику обычные вопросы-клише: трудно ли было жить, много ли приходилось работать, жалко ли было сыновей, погибших на фронте, и разговор она поддерживала чисто внешне, лишь как форму общения. Он был интересен ей как натурщик для портрета. Но узнав о его смерти, она ощутила жалость к этому чужому человеку: «На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей» [6, с. 21].
Автор показал драматическую ситуацию столкновения героини — молодой девушки с непреложными законами бытия. Однако тайна человеческой жизни и подвига так и не откроется до конца ни ей, никому другому. Девушка только после смерти узнает, что старик был уже лет десять слеп, и единственное, что было доступно его внутреннему зрению, было солнце. Более того, автор сближает старика и солнце — оба были одиноки и далеки от суеты окружающего мира, равнодушны к мирским потребностям и происходящему на земле. Только этим можно объяснить название рассказа, в котором солнце — его герой наряду с людскими характерами. И его сияние во время осознания героиней смерти воспринимается как некий нравственный солнечный «ожог», который позволил ей стать взрослее и мудрее.
В рассказе «Как помирал старик» автор стремится к максимальной объективности. В. К. Сигов пишет: «Рассказ как бы освобождается от всего лишнего и, самый небольшой по объему, занимает центральное место в миницикле» [3, с. 63]. Старик остро ощущает приближение конца жизни: «Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его» [7, с. 134]. Он считал, что его собственная жизнь была полной и глубокой, в ней было главное: дом, дети, труд, односельчане.
К приближающейся смерти старик относится просто и мудро, его волнуют заботы окружающих людей, он переживает за то, что морозы стоят сильные, а снега мало. Он говорит последнее «прости» жене, извиняется: «Я маленько заполошный был» [7, с. 134]. Смерть воспринимается стариком как естественная неизбежность, он замечает за собой, что не стало сил, что ноги стали остывать, но ни страха, ни отчаяния не испытывает. Более того, он дает практичные советы жене, например, отдать курицу соседу, которому на морозе могилу копать. В последних видениях ему представляется богатый урожай хлеба, даже ощущая приближение смерти, он продолжает думать о жизни. Время действия рассказа — только один день, вбирающий целую жизнь в трудах, работе, радости от красоты природы.
В изображении Шукшиным особого крестьянского отношения к смерти много общего с произведениями «Привычное дело» В. Белова, «Течет речка» Е. Носова, «Последний срок» В. Распутина. Его герой остается до последнего вздоха открытым жизни, проявляя нравственную и духовную силу. «Жизнь погнула, но не сломила его судьбу, протрясла, но не исказила душу. Такой тип героя позволяет показать писателю нравственную силу народа... Трудолюбие, доброта, близость к миру природы, чуткость и умение понять другого, активная сила памяти, одухотворенность всех больших и малых проявлений бытия, деятельное отношение к жизни, сила, способная преодолеть все невзгоды — эти качества присущи герою, который воплощает авторский идеал...» [3, с. 68].
А рассказе Шукшина «Осень» проявился архетипический смысл смерти, который складывается из мотива воды-реки и осенней переправы, туманной и дождливой погоды. События и впечатления одного дня передаются от лица паромщика Филиппа Тюрина. Символично соседствуют два события — с одного берега на другой вначале перевозят свадьбу — рождение новой семьи, утверждение жизни, а затем — гроб с покойником, выступающий констатацией смерти, что явственно свидетельствует о фольклорно-мифологическом начале.
Когда Филипп смотрел на свадьбу, то вспомнил свою молодость, как любил самую красивую девушку, но не женился, поскольку был деревенским активистом, а ее родители требовали венчаться, чего он себе позволить не мог. Так и увезли его Марью в другое село и выдали там замуж. Позже женился и сам герой, но не любил жену и думал всегда о Марье. И теперь ему приходится везти ее мертвую из города в село. «Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья... Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи» [6, с. 217].
Драматизм ситуации усиливается тем, что муж Марьи Павел не разрешает Филиппу проститься с ней, посмотреть на нее в последний раз. Будучи в молодости соперниками, они и перед смертным одром не могут простить друг друга. Герои чуть не подрались, высказали обоюдные претензии, тяжкое горе еще больше развело их, а не соединило. Кончина близкого и любимого человека представляется мужчинам тягостной утратой, которую надо каждому пережить самостоятельно, наедине с собой. Только позже Филипп, успокоился: «Теперь уж чего... — сказал себе Филипп окончательно. — Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь» [6, с. 219]. Неотвратимость жизненного конца осознается крестьянским сознанием просто, без излишнего философствования и психологического надрыва.
Но порою герои Шукшина испытывают внутреннее мучение, которое им трудно понять и объяснить. По этому поводу Л. А. Аннинский точно сказал: «Эта заполошная маята шукшинских героев все чаще переходит теперь в его собственную потаенную думу. Она спокойней, в ней есть какая-то обезоруживающая открытость, она — не о том или ином герое, а вообще о людях, обо всех, о нас с вами» [1, с. 252]. Например, часто фигуру объективного повествователя сменяет «я» автора-рассказчика, который задает мучительные вопросы о смысле жизни, как в рассказе «Дядя Ермолай. И эти тревожные раздумья окрашивались у Шукшина в разные тона, «неразрешимые» вопросы задавались с разной степенью напряженности, в них можно обнаружить трагическую безысходность и светлую печаль, крик души «на пределе» и скорбные думы о конечности бытия, печальные мысли о сиюминутности человеческой жизни, в которой так мало места было красоте. «Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел», — так завершает Шукшин рассказ «Земляки» [6, с. 42].
Безусловно, мотив жизни-смерти не исчерпывает себя в этих рассказах, но выделенный нами условный цикл объединен именно живым отношением автора ко всему происходящему, позицией его рассказчиков, напоминающих об искреннем желании человека быть активным до последней минуты. Уровень приобщения шукшинского героя к универсальному смыслу жизни и смерти показан различным — в зависимости от готовности личности к духовному поиску, обращенному не только в мир живого человеческого участия, но и в мир, связанный с отношением к вечному, непреходящему.
Список литературы Мотив жизни-смерти в произведениях В. М. Шукшина
- Аннинский Л. А. Путь Василия Шукшина // Аннинский Л. А. Тридцатые - семидесятые. Литературно-критические статьи. М., 1978. С. 228-268.
- Куляпин А. И. "Окно" и "дверь" в системе символов В. М. Шукшина // Культура и текст. 1997. № 2. С. 98-101.
- Сигов В. К. Русская идея М. В. Шукшина. Концепция народного характера и национальной судьбы в прозе. М.: Интеллект-Центр, 1999. 302 с.
- Черносвитов Е. В. Пройти по краю: В. Шукшин: мысли о жизни, смерти и бессмертии. М.: Современник, 1989. 237 с.
- Шукшин В. М. Брат мой. Рассказы, повести. М.: Современник, 1975. 447 с.
- Шукшин В. М. Рассказы / сост. Л. Федосеевна-Шукшина. М.: Московский рабочий, 1980. 256 с.
- Шукшин В. М. Полн. собр. рассказов в одном томе. Современная отечественная проза. М.: Эксмо, 2012. 428 с.