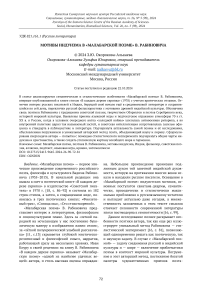Мотивы индуизма в "Малабарской поэме" В. Рабиновича
Бесплатный доступ
В статье анализируются семантические и стилистические особенности «Малабарской поэмы» В. Рабиновича, впервые опубликованной в книге стихов «В каждом дереве скрипка» (1978) с учетом критических отзывов. Отмечен интерес русских писателей к Индии, берущий своё начало ещё в средневековой литературе и сохранившийся по сей день, переклички русской фольклористики с мотивами древней индийской культуры. Обозначена связь поэтики Рабиновича с традициями советской поэзии, творчеством Обэриутов и поэтов Серебряного века, историей мировой культуры. Выявлены приемы языковой игры и подтекстовое отражение атмосферы 70-х гг. XX в. в России, когда в условиях очередного витка «холодной войны» усилилась антивоенная риторика, а во внутренней политике царил так называемый застой, и советская интеллигенция сопротивлялась засилью официоза и стандарта в публицистике и литературе. Подчеркнута актуальность самой поэмы и её исследования, обусловленная погружением в уникальный авторский метод поэта, объединяющий науку и лирику. Сформулирована сверхзадача автора - попытка с помощью стилистического эксперимента подчеркнуть общие черты индуизма и христианства, а также создать утопическую картину всеобщего мира и гармонии.
Малабарская поэма, поэтика в. рабиновича, мотивы индуизма, индия, фольклор, советская поэзия, аллюзия, подтекст, языковая игра, ирония, энтомосемизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148330427
IDR: 148330427 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-98-72-81
Текст научной статьи Мотивы индуизма в "Малабарской поэме" В. Рабиновича
EDN: OZNDUN
Введение. «Малабарская поэма» — первое эпическое произведение современного российского поэта, философа и культуролога Вадима Рабиновича (1935–2013). В начальной редакции она вышла в свет в поэтической книге «В каждом дереве скрипка» в издательстве «Советский писатель» в 1978 г. [18, с. 86–92] и состояла из 182 строк-стихов, а затем, в сокращенном виде, появилась в трех поэтических книгах: «Фиолетовый грач», «Синица ока», «Сто стихотворений».
«Малабарская поэма» В. Рабиновича представляет интерес в литературном, философском и социокультурном плане. Здесь за «легкой пародией на исчезающую у нас постепенно буколическую манеру в изображении жизни селян», за «лёгкой полуиронической улыбкой рассказчика» [11, с.13] скрывается глубокий мистическо-религиозный и философский смысл, нарратив, работающий сразу на нескольких уровнях. Иван Киуру в своей рецензии на книгу В. Рабиновича «В каждом дереве скрипка» называет «Малабар-скую поэму» «одной из наиболее удачных вещей» автора, и столь высокая оценка оправдан- на. Небольшое произведение пронизано подлинным духом той заветной индийской духовности, которую на протяжении многих веков искали и находили русские писатели. Освещение в «Малабарской поэме» индуистских мотивов, основных постулатов санатана-дхармы, семантически, просодически и стилистически максимально приближено к русскоязычному читателю и выглядит актуально даже сегодня, а множественность заложенных в этом тексте смыслов отвечает склонности современной литературы эпохи постмодерна к семиотичности [16, с. 99].
Данное исследование полнее раскрывает особенности поэтики автора, так как еще раз иллюстрирует уникальный метод Рабиновича — стилистический эксперимент [16, с. 81], позволяющий одновременно решать как поэтическую, так и научную задачу. В случае с «Малабарской поэмой» — задачу соединения русской и индийской культуры и — шире — включение проблематики поэмы в контекст мировой культуры. Погружение в этот авторский метод, постижение богатой палитры художественных приемов поэта- шестидесятника В. Рабиновича позволяют по-новому оценить логику развития современной литературы. Все это обусловило актуальность исследования.
Методы исследования . В работе использованы литературоведческие методы — сравнительноисторический, структурно-семиотический, лингвистический, биографический, формальный, интертекстуальный.
История вопроса. Интерес к Индии прослеживается в русской литературе с давних времён, что отчасти обусловлено наличием единой исторической общности [13, с. 177]. Индия то представлялась страной загадочной и крайне опасной, становилась «преградой» на пути к земному раю, как в историко-географических памятниках «Хронике» Георгия Амартола» и «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, то превращалась в символ поиска нового смысла, в «Страну Мысли», как в периоды, подобные Серебряному веку [5, с. 164]. Само путешествие в Индию считалось сакральным событием, это был религиозный переход из жизни обыденной в сферу духовную «от собственной греховности» [12, с. 211]. Особое место Индии в древнерусской литературе отмечалось многими учеными: об этом говориться, к примеру, в статье А.С. Дёмина «Индия в древнерусской литературе» [7, с. 197], в работе А.Я. Соколовского «Индийские мотивы в русской культуре», в исследовании Л.О. Свиридовой «Утопический образ Индии в древнерусских письменных памятниках».
Культурно-историческое взаимодействие России и Индии, непосредственное или опосредованное, не прерывалось, но в разные периоды обретало новые черты и звучание. Прочным литературно-культурным связям двух стран посвящены диссертация Е.В. Фисковец [25], статьи Т.В. Бернюкевич [5]. Л.В. Спесивцевой [25], Н.А. Даренской [6], А.К. Морье [15], А.Н. Люсого [13] и других ученых.
Результаты исследования . В исследовании индийского контекста в конкретной поэме В. Рабиновича нам помогут две рецензии, С. Золотцева и И. Киуру, написанные в 1979 г., по следам первой книги поэта, а также статьи о творчестве писателя и труды по поэтике русской литературы.
Творческое устремление к востоку в «Мала-барской поэме» В. Рабиновича можно расценить как попытку постижения неизведанного, духовного, что возможно только в экзотическом, сказочном, а не в реальном пространстве. Поэма побуждает к духовной работе как автора, так и читателя. Рабинович мастерски обыгрывает принцип противопоставления мира обывателя и мира книжника, мира идеального и мира банального, поля яркого метафорического слова и дискурс бесстрастного официоза. Таким образом в «Малабарской поэме» просматриваются тема поэта и поэзии, вектор взаимоотношения поэта и власти, контраст духовного и косного. Интимное, обращенное к каждому читателю, слово поэта не исключает и впечатляющего обобщения.
«Постепенно, по мере движения поэмы, эта горстка идущих к священной реке бедных людей перерастает в глазах читателя в символ нащупывающего свои пути — во мраках своей истории — человечества. Форма обратилась в дух, — в поэзию» [11, с. 13]. Опубликовав «Малабарскую поэму» под иным названием — «Джунгли. Марш мира» — в сборнике стихотворений и поэм «Фиолетовый грач» в 1988 г. [20, с. 70–75], то есть спустя десятилетие, автор прямо указал на антивоенную направленность произведения и масштаб творческой задачи. Действительно, разве только индийские и русские культурные реалии просматриваются в тексте? Наивно-романтичные восклицания и старославянизмы говорят о присутствии темы европейской книжности. Не даром в контексте первой поэтической книги В. Рабиновича заметна стилистическая перекличка «Малабарской поэмы» со стихотворением «Ах, братец одуванчик» [18, с. 56–57], отсылающим к наивно-исповедальной поэтике Франциска Ассизского. Значит, речь идет о союзе народов мира, чтобы «Звенело и пело / На разных наречьях / Во славу прекрасных / Детей человечьих…» [18, с. 90], причем, в настоящем времени, — в современность поэт постоянно возвращает читателя, завороженного медитативным шагом индусов, с помощью разговорных слов и фраз — своеобразной рефлексией рассказчика: «Короче: индусы / Шагали сквозь джунгли»; «Так мне говорили, / А вы уж поверьте»; «Жука-паука… / Но с какой это стати, // По праву какому / Жука убивати?!» [18, с. 86–89].
Но вернемся к Индии. Индуистская философия, религиозные обряды, приметы местного быта и экзотической природы наполняют небольшую поэму особым колоритом. При этом Рабинович избегает манипуляции сложными терминами. Похоже, вслед за Бальмонтом в «индийском мышлении», богатом «разнообразием рассвета и заката» [3, с. 93], мог бы признаться и Рабинович.
Станислав Золотцев в своей рецензии отмечает, что поэма Рабиновича «сложна и виртуозна», но оговаривается: «всё же от неё остаётся ощущение перевеса эрудиции, литературных познаний автора над его ощущением мира, удивлением жизни» [9, с. 283], с чем мы не можем согласиться. Легкость произношения зарифмованных строк и простота сюжета способствуют интуитивному пониманию постулатов индуизма и столь же естественному, логичному их соединению с основами христианского мировоззрения. Библейскую заповедь «не убий» и за печатленный в евангелии призыв Христа быть чистыми и бесхитростными, как дети, без труда угадает любой человек, даже факультативно знакомый с русской культурой, в подтексте концовки поэмы. Этот наивный светлый гимн разумному человеку и всему живому на земле и начинается с расхожей русской фразы — «все живы-здоровы»:
Все живы-здоровы.
О, как это мило — Любить-щебетать
Средь подлунного мира!
Так вот почему Все живое звенело, Звенело и пело, И благоговело.
Так вот почему
Все живое кружило, И благо дарило, И благоволило
Безусым индусам С душою дитяти, Которым нельзя
Никого убивати [18, с. 92].
Именно гуманность замысла делает «Мала-барскую поэму» художественно цельным и универсальным, вневременным эпосом. Отсюда, пожалуй, простая форма и язык поэмы (обилие разговорной лексики), подчеркнутая «детскость» и наивность.
Присущая поэтике В. Рабиновича интертекстуальность [16, с. 81] проявляется и в «Малабар-ской поэме». В языковой игре с разностильной и устаревшей лексикой, в игривой инвентаризации мира насекомых и зверей можно заметить тонкие аллюзии на детские стихи Обэриу, сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха» и «Тараканище» и популярную песенку В. Шаинского на стихи Н.
Носова «В траве сидел кузнечик». Есть в поэме и скрытая, подтекстовая ирония. Она порадует пытливого читателя, который знает или захочет узнать о том, что паук-прицеяд и медоед вовсе не безобидные существа и вряд ли достойны трогательного к себе отношения: «ушибить» злобного хищника медоеда, чья кожа-броня не пробиваема ни стрелой, ни мачете, просто невозможно, а случайно задев ядовитого паука-птицеяда, рискуешь быть укушенным. К слову, на присутствие загадки автор слегка намекнул тем, что выделил данную строфу за счет необычной ассонансной рифмы:
И не раздавить Паука-птицеяда, И не ушибить Старичка-медоеда [18, с. 87].
Можно пойти дальше, усмотрев в сложном словом — «старичка-медоеда» — с одной сторо- окказиональном существительном с оценочным ны, связь с внешностью хищника, шерсть кото- рого в верхней части туловища отличается серебристым блеском, напоминающим седину, с другой стороны — аллюзию на имя Старичка-Боровичка, лесного духа из славянской мифологии, управляющего грибами.
«Лексический оттенок слова, например архаизм или провинциализм, — писал М. Бахтин, — указывает на какой-то другой контекст, в котором нормально функционирует данное слово (древняя письменность, провинциальная речь…)» [4, с. 317]. Заповедная русская фольклорность в «Малабарской поэме» обеспечена повтором слов и фраз, как в народных песнях и за-кличках («Нельзя убивати / Нельзя убивати» [18, с. 86]), а также устаревшими и просторечными словами и выражениями («убивати», «дитяти», «далече», «заране», «по крайности», «клонилися долу», «тяжелые вежды»). [18, с. 86–92] Игра с устаревшей лексикой популярна среди современников писателя. Подтверждение мы обнаруживаем, к примеру, в его статье «Аэропланы и ангелы. Кросскультурные конфигурации», где Рабинович к месту цитирует строчки Юнны Мориц, содержащие экспрессивный глагол «плако-ти»: «К утру прорезалось крыло. / Торчит молочное из мякоти. Ах, господи! Не надо плакоти: / С крылом не так уж тяжело» [24, с. 111].
Выверенная звукопись также важна для поэта, потому что она настраивает на песню, сопровождающую монотонное, выматывающее действие, отсылает к русской истории, как будто это бурлаки на Волге тянут баржу, а не бредут изможденные индусы, чередуя свистящие вдохи-выдохи.
По узкой тропинке, Худы и безусы, Ступали индусы, Ступали индусы.
Свисали лохмотья Подобьем одежды.
Клонилися долу
Тяжелые вежды [18, с. 86].
В эту исконно русскую сказовость вплетаются прецедентные имена индийской культуры: Малабар, Джамна, Сакья-Муни. При этом ни один образ не выпадает ни из смыслового, ни из фонетического, ни из эстетического ряда. Здесь стоит напомнить: в русском фольклоре присутствуют не только прямые упоминания Индии, но и многочисленные отсылки к восточным мотивам. В качестве примера приведем сказку о Еруслане Лазоревиче или былину о Дюке. Да и сказка о Жар-птице, по мнению В.В. Стасова, уходит корнями в рассказы индийского автора XII в. Сомадевы. [23, с. 109] На этих единых духовных критериях двух народов, на стыке двух фольклорных традиций искусно взращивает свою Индию Вадим Рабинович. И так же искусно переплетает две нити — христианство и индуизм.
Что есть путешествие пресловутых индусов, как не поиски рая? Или Будды? Или Спасителя? Разумеется, в «Малабарской поэме» все дорожки и тропки ведут к Богу. И насколько тяжёлым окажется путь к желанному покою, настолько и отдохновение будет полным. Вода Джамнана, наконец-то утоляющая жажду, служит здесь подобием сомы, из гимнов ригведы, духовным, очищающим средством, квинтэссенцией счастья.
Захвати свет, захвати солнце, и все, что приносит счастье, о сома, и сделай нас лучше! [21, с. 302].
Сопрягая мотивы христианства и индуизма, Рабинович не механически смешивает краски идей, слов и выражений, а добивается благозвучия и благопонимания, синергетического эффекта. В результате алхимии слов рождается обновленный язык веры, нечто новое и одновременно извечное, глубоко близкое и понятное.
Успех такого сложного действа, на наш взгляд, связан с глубокой предварительной философской проработкой вопроса о сущности Бога и божественного. Именно поэтому «Малабарская поэма» не стала «наукообразной, популярной повестью в стихах — об основах буддизма или индуизма». Автор не отстранен от своих героев, в тексте «угадывается его сочувствие поклонникам той наивной пантеистической религии, для которых все сущее и живое священно, ибо являет воплощение их бога» [11, с. 13].
Таким образом, самый высокий и сложный семантический пласт поэмы — это, очевидно, попытка описать универсальный момент бытия, причем в этом стремлении «обновить мифологическое время» поэт был не одинок. А. Македо-нов в книге «Свершения и кануны» описал тенденцию отечественной поэзии конца 70-х годов: с помощью лирики в каждом событии «достигать устойчивости мифа», искать чудесное в повседневно-реальном» и привел в пример образ «замороженного мяса мамонта у Вознесенского», а также стихотворный цикл Е. Винокурова «Мифы» [14. с. 327]. Сам В. Рабинович в беседе с Г. Бурбулисом «О мудрости и природе поэтического» назвал свое «заглядыванье в прошлое» «топикой припоминаний с целью понимать что-то из утопического предвидения» [19, с. 236].
В пространстве поэмы Рабиновича происходят и более понятные для читателя метаморфозы, к примеру синтез культур и эпох, о чем во многом говорит соседство устаревшей лексики с современной. Заметно и смешение стилей: разговорного, художественного и официальноделового. Присутствие официоза, канцелярских выражений служат маркером времени, 70-х годов, а также инструментом создания иронии и самоиронии. Попутно В. Рабиновичу удается высмеять издержки советского дискурса, наполненного газетными штампами. В пользу присутствия этой темы в поэме говорит хотя бы 17-я строфа: здесь единственная живо звучащая строчка — «Мельчайшего зверя» — буквально зажата в тисках трех канцелярских строк, не передающих ни эмоций, ни интересной мысли. Любитель поэзии, конечно, понимает, что поэт ерничает, но подспудно усваивает отвращение к пустому формальному слову и начинает больше ценить изящные тропы, такие эпитеты, как «дурная, ночная ухмылка убийцы» [18, с. 89] или окказиональные энтомосемизмы (названия насекомых в художественных текстах): вглядимся в «комашку-букашку» «бабочку-лист», «птицу-малинку», «жука-паука» из «Малабарской поэмы» [18, с. 88].
Тема жесткой советской цензуры удачно вписана в конец поэмы и занимает одиннадцать строф: автор передает жесткую критику безымянного чиновника с нарочитым пафосом называя его мыслителем: «Лишь некий мыслитель, / Любитель мясного, / Уже приготовил / Сердитое слово. / Учитель-ревнитель / И нравоучитель, / Худющих индусов / Пустой обличитель». [18, с. 90] Отрицательный герой поэмы перегибает палку, упрекая вегетарианцев в том, что они едят растения, которые тоже можно считать живыми. В этой ситуации автор-рассказчик, несмотря на свою кротость, находит в себе силы дать отпор оппоненту: «Мыслитель, оставьте / Свои укоризны!..» [18, с. 92]. Разумеется, есть биографический подтекст у этого отступления в поэме. Сложные взаимоотношения с цензорами Рабинович в красках описал в своей книге «Алхимия», в главе «Постскриптум». Требования к автору порой выдвигались абсурдные. К примеру, фраза «вернуться к нашим драконам», вызвала подозрение, потому что, по мнению редактора, можно было лишь «вернуться к нашим баранам», как во французской поговорке. [17, с. 681] Однако никакие проблемы не отняли у поэта жизнелюбия и желания иронизировать и шутить.
Бесконечный юмор, изобретательность — неизменные черты идеостиля В. Рабиновича, который, как академик П. Капица, «уверен, что наука и поэзия должны быть веселыми, и считает этот постулат одной из важнейших имита-фор» [2].
Идти далеко им До берега Джамны. До влаги
Сухие гортани их жадны.
Но если немножечко
Им поспешить,
То можно, пожалуй, Жука раздавить,
Жука-паука...
Но с какой это стати, По праву какому
Жука убивати?! [18, с. 89].
В конце процитированного отрывка автор-рассказчик не зря возмущается. Описанная ситуация уже напрямую связана с основными постулатами индуизма. Дело в том, что Санатана-дхарма строится на принципе всеприсущности бога (параматмы), где изначальная истинная природа всех живых существ без исключения, вплоть до «личинки, еще не живой» вечна и духовна. Истребление любого живого существа приводит к сбою в цикле перерождений, оставляя погибшего насильственной смертью в той же форме. Это и есть дхарма, духовный закон.
Всем людям из той Малочисленной джати Нельзя убивати, Нельзя убивати [18, с. 86].
Максимально наглядно выглядит это отрицание насилия на реальном историческом фоне, в свете факта: область Малабар стала первой индийской территорией, колонизированной британцами. Здесь часто возникали народные волнения, в том числе известное Малабарское восстание или Восстание мопла 1921 года. Возможно, в этом факте — ключ к символике названия поэмы. Притесняемый народ, полностью сознающий свое главное право — свободу жить, не мог не бастовать.
И ликующий, «звенящий» финал поэмы — не что иное, как художественное отображение кармы как следствия деяний человека, его духовных и жизненных установок, мыслей и устремлений. Всё, полученное людьми в этой жизни, является следствием их прошлых поступков. Картину мира вокруг себя человек рисует сам, сам складывает свою судьбу из крошечных кубиков-мгновений. Бог ничего не даёт и не забирает, бог есть чистая энергия и порядок.
И жажду студили Джамнанской водою. И златоголосо Звенело живое.
Звенело и пело На разных наречьях Во славу прекрасных Детей человечьих... [18, с. 90].
Индуистская идея состоит в том, что накопленная человеком карма записана в его тонком теле в виде тончайших звуковых вибраций. Добавим: неоднократно повторяющийся в поэме мотив «звона» соотносим с благовестом, то есть снова две религии становятся на одну ступень.
Другой символ индуизма, колесо сансары, означает круговорот рождения и смерти. И мо- тивы метемпсихоза в «Малабарской поэме» обозначены тонко и деликатно. Рабинович преподносит сюжет как действие, которое происходило в прошлом (малабарская быль) и происходит сейчас, на наших глазах. Эту идею поддерживает умелая игра с хронотопом.
Смешавшись с высокой
Зеленой травою, Им под ноги сверху Бросалось живое.
Но, как говорят Малабарские были,
Они и тогда
Никого не убили [18, с. 89].
Позитивный финал означает: колесо сансары совершило поворот, и это действие снова будет происходить в будущем. Мировая гармония не пострадала, а временной диапазон произведения еще больше расширился.
Не случаен также образ коровы: «Секло их прутье, / Ибо не было крова. / Но с ними священная — / Рядом — корова» [18, с. 88]. Как и мать-земля, корова-мать рождает все живое, она прародительница Гау Мата и символ бескорыстного жертвования. Такие же бескорыстные жертвы приносят индусы Рабиновича, поступаясь комфортом и благополучием ради «не то что гаура, не то что барана», но и «мелкой рыбки», «малой птахи» [18, с. 86]. Так как корова — священное животное, «а-гхнья» [10, с. 18], то есть, «та, которую нельзя убивать», она встаёт в один ряд со всеми обитателями окружающего мира, которых старательно оберегают герои поэмы. Кроме того, через культ коровы автор подключает к дискурсу зороастризм, джайнизм, а также традиции Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рим, согласно которым корова тоже считается благородным животным.
Наконец, нельзя обойти стороной и такое базовое понятие индуизма, как гуру, духовный наставник, учитель. В «Малабарской поэме» за гуру можно принять рассказчика. Высокая роль поэта видится здесь и рецензенту Ивану Киуру: «Индусы бредут с берегов священной Джанмы, а над ними весёлым и полуироничным ангелом-хранителем витает дух поэта». [11, с. 13] Автор словно озвучивает добрую, красивую, лукавую сказку с хорошим концом, не давая оценочных суждений, оставляя читателю право самостоятельно делать выводы и строить аналогии. Тако- ва «всемирная отзывчивость» [8, с. 37] Рабиновича, таков его творческий путь.
Выводы. В отличии от многих русских писателей Рабинович использует индийские мотивы не в пейзажной, а в философской лирике, определяя этим их особенное звучание и значение в контексте своего уникального авторского метода. Индуистские мотивы в «Малабарской поэме» не цель, а средство, способ выражения автором своей картины мира. Синтез культур, стилей и времен делает это произведение интересным для исследования и позволяет обращаться к разным сферам знания. Рабинович сумел поставить необычный эксперимент: скрестить русскую народную культуру с народной индийской культурой, и две религии, которые в его понимании также являются частью культуры. В итоге поэт построил модель идеального нравственного мироустройства, а заодно сумел вписать в текст реалии России 70-х годов.
В. Рабинович не просто знакомит читателя с «былью» далёкой страны, преподносит азы индийской философии, религии и культуры, он погружает его в мир индусов, побуждая к сочувствию и пониманию. А по большому счету и автор, и читатель путешествуют к самому себе, истинному, чистому, наивному. «Малабарская поэма» Рабиновича и вся его первая книга «В каждом дереве скрипка» есть, по замечанию критика, «не что иное, как очень даже нелегкий путь обнаружения сути творчества: от самовыражения вообще, от поиска средств этого самовыражения — своего стиля, — к поэзии; от внешней яркости, броскости — к более надежному, глубокому потаенному свету» [11, с. 14].
Zulfiya Yu. Okorokova-Alkaeva, Senior Lecturer, Department of Humanities E-mail: zalkaeva@bk.ru
Список литературы Мотивы индуизма в "Малабарской поэме" В. Рабиновича
- Азадовский, М. К. История русской фольклористики / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2014. — 1056 с.
- Алькаева, З. Портрет Вадима Рабиновича, или читая его новую книгу // Зинзивер. — No 6 (26) [Эл. ресурс]. — URL: https://magazines.gorkv.media/zin/2011/6/portret-vadima-rabinovicha-ili-chitava-ego-novuvu-knigu.html (дата обращения: 10.10.2024).
- Бальмонт, К. Д. Полное собрание стихов. Т.5. — М.: Скорпион, 1911. - 148 с.
- Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского [Текст]. - 3-е изд. - Москва: Худож. лит., 1972. - 470 с.
- Бернюкевич, Т. В. Буддийские мотивы в лирике К. Бальмонта / Т. В. Бернюкевич // Гуманитарный вектор. -2010. - № 2(22). - С. 164-168. - EDN MSXVUP.
- Даренская, Н. А. Индия в творчестве Н. С. Гумилева / Н. А. Даренская // XV международные научные чтения (памяти Капицы С.П.): сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 01 октября 2017 года. - М.: ООО "Европейский фонд инновационного развития", 2017. - С. 43-51. - EDN ZOILWT.
- Дёмин, А. С. Индия в древнерусской литературе // Герменевтика древнерусской литературы. Сборник 21 / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН; гл. ред. О.А. Туфанова. М.: ИМЛИ РАН, 2022. С. 197-215.
- Дударева, М. А., Рождественская, О. Ю. Язык поэзии Вадима Рабиновича: феномен всемирной отзывчивости // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. - 2024. - Т. 26. - № 4 - С. 37-43.
- Золотцев, С. В каждом дереве скрипка // Новый мир. - 1979. - №9. - С. 282-283.
- История и культура Древней Индии: Тексты / Сост. А.А. Вигасин. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 352 с.
- Киуру, И. Найти в дереве скрипку. Рецензия на книгу В. Рабиновича «В каждом дереве скрипка», апрель 1979 г. - 14 с. Личный архив А.Н. Рылевой.
- Лотман, Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Учёные записи Тартусского государственного университета. - 181 выпуск. - Тарту, 1965. - С. 210-216.
- Люсый, А. П. «Индия духа» и серебряный ноль. Новая сцена для культуры Серебряного века от Елены Шахматовой / А. П. Люсый // Вопросы культурологии. - 2021. - № 2. - С. 177-182. - DOI 10.33920/nik-01-2102-09. - EDN RHAIJU.
- Македонов, А. В. Свершения и кануны [Текст]: о поэтике русской советской лирики 1930-1970-х гг. - Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985. - 358, [1] с. - Б. ц.
- Морье, А. К. Индия - Россия: литературно-культурное взаимопонимание / А. К. Морье // Художественное образование и наука. - 2019. - № 4. - С. 127-138. - DOI 10.34684/hon.201904016. - EDN ZOYKEN.
- Окорокова-Алькаева, З. Ю. Интертекст как исследовательский эксперимент поэта и культуролога Вадима Рабиновича (на примере анализа эссе «Футуристический диптих») / З. Ю. Окорокова-Алькаева // Известия Смоленского государственного университета. - 2019. - № 3(47). - С. 81-102. - DOI 10.35785/2072-9464-2019-47-381-102. - EDN MLTCXG.
- Рабинович, В. Л. Алхимия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. - 704 с.
- Рабинович, В. Л. В каждом дереве скрипка. [Текст] / В. Рабинович. Стихи. Художник Владимир Левинсон. -М: Советский писатель, 1978. - 96 с.
- Рабинович, В. Л. Синица ока стихотворения и поэмы / Вадим Рабинович. - Москва: Стратегия, 2008. - 270, [1] с. ил., портр.; 20. - (Политософская библиотека); ISBN 5-9234-0079-0.
- Рабинович, В. Л. Фиолетовый грач.: Стихотворения и поэмы / Вадим Рабинович; [Худож. В. Левинсон]. - М.: Сов. писатель, 1988. - 220 с.
- Ригведа. Избранные гимны. / Перевод, комментарий и вступительная статья Т.Я. Елизаренковой. - М.: ГРВЛ. 1972. - 418 с.
- Спесивцева, Л. В. Тема Востока в лирической поэме Серебряного века / Л. В. Спесивцева // Гуманитарные исследования. - 2013. - № 2(46). - С. 087-093. - EDN QJIIKX.
- Стасов, В. В., Пыжиков, А. В. Происхождение русских былин (Неожиданный Владимир Стасов). - М.: Концеп-туал, 2019, 416 с.
- Философский век. Альманах. Вып. 32 Бенджамин Франклин и Россия: к 300-летию со дня рождения. Часть 2 / Отв. редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. - СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2006. - 345 с.
- Фисковец, Е. В. Образ Индии в русской литературе (между реальностью и мечтой): специальность 10.01.01 "Русская литература": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Фисковец Елена Валерьевна. - Петрозаводск, 2011. - 22 с. - EDN ZODZHP.