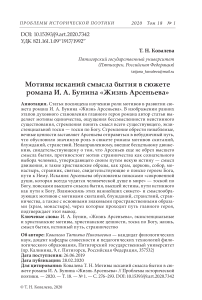Мотивы исканий смысла бытия в сюжете романа И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
Автор: Ковалева Татьяна Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению роли мотивов в развитии сюжета романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». В изображении ранних этапов духовного становления главного героя романа автор статьи выделяет мотивы одиночества, ощущения бессмысленности неистинного существования, стремления понять смысл всего существующего, экзистенциальной тоски - тоски по Богу. Стремление обрести незыблемые, вечные ценности заставляет Арсеньева отправиться в небудничный путь, что обусловило значимую роль в сюжете романа мотивов скитаний, блужданий, странствий. Ненаправленному, внешне бесцельному движению, свидетельствующему о том, что Арсеньев еще не обрел высшего смысла бытия, противостоят мотив странничества как сознательного выбора человека, утверждающего своим путем некую истину - смысл движения, и такие христианские образы, как храм, церковь, собор, монастырь, странник, святые, свидетельствующие о поиске героем Бога, пути к Нему. Искания Арсеньева обусловлены поисками «сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире» - тоской по Богу, поисками высшего смысла бытия, высшей истины, пути истинного как пути к Богу. Взаимосвязь этих важнейших сюжето- и смыслообразующих мотивов с мотивами скитаний, блужданий, странствий, странничества, а также с основными знаковыми пространственными образами (храм, монастырь), через которые проходит путь главного героя, подтверждает этот вывод.
И. а. бунин, "жизнь арсеньева", экзистенциальные и христианские мотивы, христианские ценности, тоска по богу, жизнь, смысл бытия, истинный путь, странничество
Короткий адрес: https://sciup.org/147226243
IDR: 147226243 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7342
Текст научной статьи Мотивы исканий смысла бытия в сюжете романа И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
Р оман И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» начиная с середины 1950-х гг., периода реабилитации писателя-эмигранта в русской литературе, неизменно вызывает интерес отечественных исследователей. В работах ученых, появившихся за прошедший период и посвященных этому уникальному произведению И. А. Бунина, затрагивались вопросы историколитературной характеристики романа в контексте творчества писателя и литературной эпохи, велись исследования творческой истории произведения, поднимались проблемы специфики тематики, проблематики, образа главного героя, художественного времени–пространства, способа повествования и художественного метода Бунина.
В настоящее время одной из актуальных задач бунинове-дения является изучение компонентов внутренней структуры, элементов поэтики романа Бунина «Жизнь Арсеньева» как художественного целого. К числу таких значимых составляющих, наряду с сюжетом, персонажем (героем), образом, хронотопом, жанром и др., ученые, заложившие основы и разрабатывающие проблемы исторической поэтики, относят мотив как важнейший сюжетообразующий и смыслообразующий элемент произведения [Веселовский], [Бахтин], [Фрей-денберг], [Гаспаров], [Мелетинский], [Неклюдов], [Захаров, 1998, 1992, 2012], [Путилов], [Силантьев, 2004, 2001], [Томашевский], [Тюпа, Ромодановская], [Бердникова], [Соболев] и др. Исследователи едины в том, что изучение системы мотивов позволяет наиболее полно воссоздать и охарактеризовать сюжет, проблематику художественного произведения, образ главного героя, понять авторские идеи.
Как специальный аспект изучения исследователи особо выделяют мотивы, связанные с главным героем. Характеризуя связь героя и мотивов, ученые выявляют и описывают персонажную « морфологию сюжетных мотивов» [Фрейден-берг: 221–222], «хронотоп героя», «пространство героя», «хро-нотопические мотивы» романных жанров, сюжетов ([Бахтин], [Лотман, 1993, 1987], [Топоров], [Есаулов, 1995, 2004], [Зaxapoв, 1992, 2012] и др.), «мотивные комплексы героев» определенных сюжетов, жанров, литературных направлений ([Бахтин], [Силантьев], [Топоров] и др.).
К необходимости изучения системы мотивов «Жизни Арсеньева» нас подтолкнуло исследование нами художественного времени и пространства романа Бунина как важнейших концептуально значимых элементов поэтики, что позволило выявить ряд ключевых хронотопов бунинского романа и связанных с ними ведущих мотивов, которые характеризуют путь главного героя: это «храм (церковь, собор) как образ христианского хронотопа», царские врата в храме [Ковалева, 2017: 130, 131], небо как обитель Бога [Ковалева, 2016], мотивы истинного и неистинного пути, мотивы Пути к Богу и Пути по воле Бога [Ковалева, 2017: 133, 135].
Вместе с тем исследование образа главного героя, его поступков, характера его движения по жизни требует дальнейшего изучения системы мотивов, поэтому в настоящей статье мы продолжаем начатое ранее исследование.
С самого начала в романе Бунина «Жизнь Арсеньева» сосуществуют два плана повествования, два пространственновременных измерения. Первый — жизнь души, у которой «нет чувства своего начала и конца»1. Это пространственно-временное измерение связывает человека с вечностью, с Богом [Ковалева, 2016: 372]. Второй план повествования и второе пространственно-временное измерение — жизнь человека как существа физического, быстротечное время человеческой жизни.
Первая книга «Жизни Арсеньева», начиная со II главы, представляет собой воссоздание ощущений и впечатлений души человека, входящего в жизнь, познающего ее через ощущение себя в пространстве и времени. В самых ранних младенческих и детских воспоминаниях Арсеньева запечатлелись не лица родных людей и не картины жизни дома, а образы земли, неба, мира природы как части Вселенной. Ранние детские впечатления Арсеньева складываются из образов «пустынных полей, одинокой усадьбы среди них», «вечной тишины этих полей, их загадочного молчания» (9), пустынности, безлюдности и одиночества человеческого существования в огромном мире: «Где были люди в это время?», «я совсем, совсем один в мире» (9), «А не то вижу я себя в доме и опять <…> в одиночестве» (10), «Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества?» (9).
В описаниях младенчества и раннего детства героя преобладают мотивы одиночества, грусти, томления, необъяснимой тоски — это состояния, необычные для ребенка, которые автор объясняет не внешними, а глубинными, онтологическими, экзистенциальными причинами. Бунин, пожалуй, первым в мировой литературе описал феномен вхождения души человека в земную жизнь. Этот феномен заключается в том, что для младенческой души родной мир пока не земной, а горний, из которого она пришла и в который ее неодолимо влечет. Поэтому ребенок смотрит «в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое» (9). «Синяя бездна» неба и прекрасные высокие белые облака очаровывают его душу, влекут к себе, восхищают:
«Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире!» (9).
Все эти чувства объединяет стремление души ребенка к Богу, восприятие Его как родного отца — Отца небесного. Бунин создает удивительно прекрасные образы, передающие это единство души человека с Богом: чарующий поднебесный простор в представлении ребенка — горний мир, обитель Бога; синева неба — это «чьи-то дивные и родные глаза, <…> отчее лоно» (9).
Описывая процесс формирования в герое осознанного отношения к себе и к миру, в воспоминаниях Арсеньева уже в детстве, а затем в отрочестве и юности Бунин особо выделяет сложный комплекс мыслей и чувств, в котором ключевым является экзистенциальный вопрос «Зачем все существует?». Порой ребенку все в мире казалось бессмысленным: «…все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало» (30), «…все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью» (67). И в то же время страстно хотелось понять, зачем, для чего все существует? Вот, забравшись на чердак дома в усадьбе, маленький Алеша наблюдал «ее мирно текущую жизнь, как посторонний <…> и думал: для чего это? Должно быть, для того только, что это очень хорошо. <…> зачем, уже восемьдесят лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и цветными стеклами, бабушка, мать матери. <…> Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пульки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики?» (30–31).
Взрослый Арсеньев часто вспоминает и описывает мучительное состояние, когда душа ребенка, подростка, юноши томилась мыслями о бренности всего земного, стремилась понять смысл всего существующего, остро ощущая, что в жизни «чего-то <…> очень недостает» (104). Так возникают в романе мотивы, которые Бунин определяет экзистенциально: «зов пространств», мотивы грусти, необъяснимой тоски, одиночества, неких неопределимых смысла и цели жизни, чего-то такого, в «чем этот смысл обнаружится»:
«Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему …» (здесь и далее курсив мой. — Т. К .) (9).
И вдруг, как в озарении, герой сам называет еще одну глубинную причину своей тоски и жажды движения вдаль, связанную с теми «смыслом и целью , с тем главным», что ищет его душа в жизни и в мире:
«…грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее , не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это» (9).
В этом фрагменте начала романа Бунин дает важнейшее объяснение онтологического импульса к дальнейшему неостановимому движению героя: найти эту «сокровенную душу» (9), то «недостающее», но очень важное, о чем говорили глубина неба и даль полей. Бунину как гениальному художнику удалось передать феномен ощущения душой ребенка Божьего присутствия в мире: чувство « сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире » (9), и поиск ее — это и есть чувство и поиск Бога, Отца Небесного .
По сути, в этих признаниях героя дается образное объяснение экзистенциальной тоски по Богу . Это состояние человека точно описано святителем Феофаном Затворником: « Дух, как сила, от Бога исшедшая, — ведает Бога, ищет Бога и в нем одном находит покой » [Феофан Затворник: 46]. Характеризуя такого рода тоску, святитель утверждал, что одним из ярчайших проявлений « жажды Бога » душой человека является «всеобщее недовольство ничем тварным. Что означает это недовольство? То, что ничто тварное удовлетворить духа нашего не может. От Бога исшедши, Бога он ищет, Его вкусить желает и, в живом с ним пребывая союзе и сочетании, в Нем успокаивается. Когда достигает сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может» [Феофан Затворник: 48].
Интуитивные прозрения детства в отрочестве и юности трансформируются в серьезные размышления героя о смысле жизни. Как одно из ключевых событий отроческой поры Арсеньева Бунин описывает эпизод, связанный с раздумьями подростка Алеши над словами отца, сказанными после ареста старшего сына, который участвовал в студенческих демонстрациях:
«— Вздор, пустяки! — говорил он твердо. — Эка, подумаешь, важность! Ну, арестовали, ну, увезли и, может, в Сибирь сошлют <…>. Да и вообще все вздор и пустяки! Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский, — все пройдет!» (77–78).
Размышляя над словами отца, юный Арсеньев переживает настоящее потрясение:
«Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки, — однако оттого, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел, стал огромным, бессмысленным, и мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его, меж тем как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем!» (78).
Юная душа Арсеньева внутренне не принимает поверхностно-легкомысленных слов отца о бессмысленности человеческой жизни. В словах Тихона Задонского о бренности человеческой суеты, перекликающихся с ветхозаветной мудростью «Все суета сует. Все проходит» (см.: Еккл. 1:2), характеризующей кратковременные житейские ценности, заключена лишь часть истины, потому что в них нет ответа на вопросы «В чем смысл жизни? Для чего она дана человеку?». Но душа помогает герою найти ответы на мучающие его вопросы. Скитаясь по городу, Арсеньев приходит к стенам монастыря и там переживает настоящее прозрение: на громадных воротах монастыря, на их створах, он видит написанных во весь рост «двух высоких, могильно-изможденных святителей в епитрахилях, с зеленоватыми печальными ликами, с длинными, до земли развернутыми хартиями в руках: сколько лет стоят они так — и сколько веков уже нет их на свете? Все пройдет, все проходит, будет время, когда не будет в мире и нас, — ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, — а эти древнерусские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все так же бесстрастно и печально стоять на воротах…» (78).
Монастырь, святые древнерусские старцы со священным и мудрым писанием говорят герою о том, что в жизни есть вечные, непреходящие ценности. А пронзительная любовь к родным, к себе, к миру помогают понять, что жизнь не вздор и не пустяки. В душе Арсеньева соединяются два измерения человеческого существования: первое — с точки зрения неповторимости человеческой жизни, преходящей, конечной, но все же прекрасной со всеми ее радостями и горестями, обретениями и потерями; второе — с точки зрения христианской вечности, тех непреходящих Божественных ценностей, что есть в мире и в душе человека.
«И, сняв картуз, со слезами на глазах, я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жальче себя и брата, — то есть что я всё больше люблю себя, его, отца с матерью, — и горячо прося святителей помочь нам, ибо, как ни больно, как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга…» (78–79).
В качестве одного из главных этапов духовного становления героя в юности Бунин показывает его глубокие, серьезные раздумья над онтологическим вопросом: в чем заключаются смысл и цель бытия? Размышляя о том, что же такое «жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире» (131), Арсеньев, кроме ее бытового, обыденного уровня («смена дней и ночей, дел и отдыха» — 131), кроме чувственно-эмпирически-логи-ческого познания («беспорядочное накопление впечатлений, картин, образов», «непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем» — 131), в качестве главной выделяет именно онтологическую, экзистенциальную составляющую : « Жизнь <…> есть <…> нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить , и — связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец обнаружится » (131–132). Подчеркивая исключительную значимость этих размышлений героя, Бунин выделяет их в отдельную главу, лишенную внешнего сюжетного движения, но глубоко содержательную для понимания исканий героя и выражения авторских идей: движение Арсеньева обусловлено стремлением найти в жизни «некую суть ее, некий смысл и цель, что-то главное» (131). Вспоминая ироническое замечание в отношении своих стремлений «вдаль», герой напрямую соотносит «даль» с поиском смысла: «И впрямь: втайне я весь простирался в нее (в даль. — Т. К .). Зачем? Может быть, именно за этим смыслом ?» (132).
Стремление обрести незыблемые, вечные ценности, находящиеся вне времени и пространства, и заставляет Арсеньева отправиться в «небудничный путь». Потому-то так притягивают к себе Арсеньева дорога, даль, простор степи: они таят в себе пока еще неясную интенциональную перспективу, создают ситуацию «выхода» к новой реальности, прорыва в иное, экзистенциальное измерение. В открытом пространстве простора, дали, где «горизонталь» переходит в «вертикаль», где осуществляется связь Неба и Земли, есть возможность для движения-развития. Движение героя вдаль есть выражение неосознанного стремления к «верху» пространства, к небу — обители Бога, к некоему высшему смыслу. Поэтому трудно согласиться с утверждением, что в романе «Жизнь Арсеньева» «нет целеустремленного движения героя» [Колобаева: 137], что «вообще не какая-либо цель определяет его поступки и внутреннее развитие» [Колобаева: 137]. О том, что смысл и цель движения есть и они чрезвычайно важны для героя, свидетельствуют глубокие размышления и признания Арсеньева, целый комплекс мотивов движения и «сквозные» пространственные образы романа.
Среди пространственных образов и мотивов «Жизни Арсеньева» самым частотным является «сквозной» образ дороги. Очевидно, что в романе Бунина происходит «реализация метафоры “жизненный путь”», «слияние жизненного пути человека (в его основных переломных моментах) с его реальным пространственным путем-дорогой, то есть со странствованиями» [Бахтин: 152].
Действительно, в романе часто встречается образ дороги, что позволяет определить хронотоп дороги одним из ключевых. Бунин вводит в повествование множество реальных дорог: в Елец и Орел, в Курск и Воронеж, в Харьков и Севастополь, в Москву и Петербург, в Витебск и Тамбов, в Задонск, Белгород, Черкассы, Кременчуг, Липецк и т. д. Буквально в каждой книге романа звучат признания главного героя о любви к дороге: о «вечной жажде дороги», движения, о «чувстве пути», о «чувстве дали, простора», о «кочевой страсти». Взрослый Арсеньев вспоминает, как в детстве и отрочестве, учась в гимназии, по вечерам приходил на вокзал и с волнением
«встречал и провожал поезда на станции, в толкотне и суете приезжающих и уезжающих, завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны “дальнего следования”, замирал, когда огромный швейцар <…> пел зычным, величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой грустью, куда и какой поезд отправляется» (85).
Вспоминая свою юность, Арсеньев признавался, что в поездках у него «захватывало дух от радости» (85). Даже полосатый тик диванного чехла напоминал герою вагонный и звал в дорогу. «Вот видите этот тик? <…> Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно, тянет ехать» (213), — с волнением признавался Арсеньев, рассказывая о своей жажде дороги, движения, пути.
Неоднократные признания героя, звучащие на страницах романа, свидетельствуют о том, что движение для него жизненно необходимо. Это неостановимое движение выражается в скитаниях, странствиях и странничестве героя. Названные мотивы — это слова из самохарактеристик Арсеньева, которыми он определял свое движение по жизни: «Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества» (165). «И вскоре я опять пустился в странствия » (156) и др. Мотивы скитаний, странствий героя — мотивы ненаправленного, порой внешне бесцельного движения — это знаки того, что Арсеньев еще не обрел высшего смысла бытия.
Бунин показывает, как однажды его герой хотел остановиться, отказаться от пути, от движения, от мира, жить в замкнутом пространстве, в своем маленьком мирке. Арсеньев подробно рассказывает об эпизоде такого существования в пятой книге: он жил тогда на подворье Никулиной, снимая у нее комнату, — в тихом местечке, недалеко от которого находились монастырь и кладбище, что вносило особое спокойствие и умиротворение в жизнь человека, как бы на время отрывая его от суетной мирской жизни и напоминая о вечном. Арсеньеву нравились тишина, покой, уют в доме Никулиной, ласковость, неторопливость хозяйки и особая внутренняя гармония, которая ощущалась во всем, что она делала и говорила, в том, как она вела себя. Это было спокойствие счастливого человека, нашедшего в жизни все, что ему нужно. «Дикие мысли и чувства» рождались тогда в Арсеньеве: «…вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, под мерный бег будильника!» (179). Однако Бунин с помощью символических деталей интерьера дома Никулиной: двух картин — дает оценку такого возможного существования своего героя, одновременно показывая два варианта жизненного пути с отказом от мира: первый вариант — путь святого, второй — путь «мертвой души»:
«Над одним диваном висела картина: удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижинка, а возле хижинки — кротко согнувшийся старчик, положивший ручку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого; над другим — нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем: фотографический портрет старика в гробу, важного, белоликого, в черном сюртуке, — покойного мужа Никулиной» (179).
На первой картине было воссоздано известное изображение святого старца Серафима Саровского, укротившего в лесу свирепого медведя, — это путь человека, отрешившегося от мира и посвятившего свою жизнь Богу, путь отшельника, путь святого.
На этот возможный путь указывает также хронотоп монастыря , несколько раз возникающего на пути Арсеньева, что позволяет говорить о его значительной роли в романе. Это, как будто случайное в контексте одной главы, упоминание о монастыре оказывается не случайным в контексте всего произведения. Монастырь находится недалеко от тихого подворья Никулиной, где так нравилось жить Арсеньеву. Лики святых на воротах древнего монастыря помогают герою понять, что в жизни есть вечные ценности. Собор и «древний монастырь на вершине» (219) выделяет Арсеньев в описании малоросского городка, в котором началась совместная жизнь героя и Лики. Неожиданно в повествовании о юношеской жажде самореализации в творчестве Арсеньев упоминает о поездке в Святогорский монастырь, о том, как «гонялся» за послушником по двору монастыря, «напрасно домогаясь, чтобы он устроил» его пожить в монастыре (206). Монастырь в романе — это символ полного отказа от мирской жизни и ее соблазнов, очищения души, символ смирения, любви к Богу, устремления к Нему и служения Ему.
Но поскольку Арсеньев не пришел в душе к вере, смирению и кротости, а главное, не обрел высшего смысла жизни — не пришел к Богу, как святой Серафим Саровский, — Бунин показывает второй возможный вариант жизни в замкнутом мире: отказ героя от Пути, от движения, развития, поиска смысла бытия и пути истинного — это смерть, знаком которой является для Арсеньева фотография покойника, умершего мужа Никулиной.
Важнейшими для понимания исканий героя, направленности его движения в отрочестве и юности являются мотив странничества и образ странника — знаки, свидетельствующие о поиске Бога, пути к Нему . Арсеньев особо выделяет в своих воспоминаниях встречу со странником (XV глава пятой книги), которая происходит в церкви, сакральном центре мира и служит толчком к дальнейшему пути героя. Введенный в повествование в момент напряженных духовных поисков Арсеньева этот образ предстает в романе знаковым, символизируя странничество самого Арсеньева:
«Потом я, по своему обыкновению, пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь <…> в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ, склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно, иночески и женски висевших вдоль щек; в левой руке он твердо держал высокий деревянный посох, за долгие годы натертый до блеску, за плечами у него был черный кожаный мешок, он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех» (211).
Это подробное, с выразительными деталями описание странника построено так, что на первый план выходят не просто странствия, скитальчество, бродничество, но странничество как сознательный, добровольный выбор человека, духовное подвижничество как путь святого отшельника, утверждающего своим путем некую истину — смысл движения. Не случайно в описании странника повторяются изобразительновыразительные средства, подчеркивающие в его образе схожесть с ликами святых, отрешенность от суетного мира, твердую веру в Бога. Полная отрешенность, посох, который «он твердо держал в руке» (211), свидетельствуют о том, что странник знает о конечной цели пути и полон решимости пройти свой путь. То, что странник изображен в молитвенном стоянии в церкви, знак того, что это путь к Богу как к главной цели движения. Восхищение, которое вызывает странник у Арсеньева, свидетельствует о духовной жажде такого же пути, такой же веры, такой же твердой внутренней убежденности в истинности пути — пути к Богу. Впереди у юноши Арсеньева была вся жизнь, полная открытий, обретений, счастья и потерь, соблазнов, испытаний. Но главное: Арсеньев продолжает искать ту сокровенную Истину, без которой существование становилось бессмысленным.
Экзистенциальные мотивы, связанные с поисками высшего смысла бытия, высшей истины, являясь определяющими для движения Арсеньева, выражают идею Пути [Ковалева, 2017], заявленную уже в самом начале романа, во вступлении к нему, и организующую все повествование. Мотивам бессмысленного, неистинного существования в романе противостоят мотивы поиска высшего смысла жизни, обусловленные интенциональностью сознания героя и создающие важнейшую для понимания романа оппозицию бессмысленность—смысл. В «Жизни Арсеньева» антитеза, заложенная в этой оппозиции, снимается утверждением высшего смысла, высшей истины, в которых человек, «земля» могут быть связаны с «небом», с Богом, а «низшее», греховное может трансформироваться в «высшее». Эта идея обнаруживается в христианском хронотопе и в целом в христианском тексте романа [Ковалева, 2017, 2016].
Искания Арсеньева обусловлены тоской по Богу, поисками высшего смысла бытия, высшей истины, пути истинного как пути к Богу. Взаимосвязь мотивов поиска «сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире», смысла и цели жизни, истинного пути, скитаний, блужданий, странствий, странничества, а также основных знаковых пространственных образов (храм, монастырь), с которыми связан путь главного героя, подтверждает этот вывод.
Список литературы Мотивы исканий смысла бытия в сюжете романа И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. - М.: Худож. лит., 1986. - С. 121-291.
- Бердникова О. А. Реминисценции, цитаты и мотивы Псалтири в творчестве И. А. Бунина // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. - Вып. 10. - С. 315-328 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1458029841.pdf 10.15393/j9.art.2012.362 (25.05.2019). DOI: 10.15393/j9.art.2012.362(25.05.2019)
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. - М.: Высшая школа, 1989. - 404 с.
- Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. - М.: Наука, 1993. - 304 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. - 287 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. - М.: Кругъ, 2004. - 560 с.
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. - Вып. 5. - С. 5-30 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2472 10.15393/j9.art.1998.2472 (25.05.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472(25.05.2019)
- Зaxapoв В. H. Историческая поэтика и ее категории // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. - Вып. 2. - С. 3-9 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2355. 10.15393/j9.art.1992.2355 (25.05.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1992.2355(25.05.2019)
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. - М.: Индрик, 2012. - 264 с.
- Ковалева Т. Н. Типы художественного времени и их роль в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Проблемы исторической поэтики. - Вып. 14. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. - С. 361-383 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482920692.pdf 10.15393/j9.art.2016.3603 (25.05.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2016.3603(25.05.2019)
- Ковалева Т. Н. Путь по воле Бога в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. - Т. 15. - № 2. - С. 127-140 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1499089355.pdf. 10.15393/j9.art.2017.4381 (25.05.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2017.4381(25.05.2019)
- Колобаева Л. А. От временного к вечному: Феноменологический роман в pyсской литературе XX в.: ["Жизнь Арсеньева" И. А. Бунина и "Доктор Живаго" Б. Л. Пастернака] // Вопросы литературы. - 1998. - № 3. - С. 132-144.
- Лотман Ю. М. О сюжетном пространстве русского романа XIX столетия // Учен. зап. Тартуского гос. университета. - Тарту, 1987. - Вып. 746. - С. 102-114.
- Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. - Таллинн: Александра, 1993. - Т. 1. - С. 386-464.
- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. - М.: Наука, 1986. - 318 с.
- Неклюдов С. Ю. О некоторых аспектах исследования фольклорных мотивов // Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов: сб. науч. тр. - Л.: Наука, 1984. - С. 221-229.
- Путилов Б. Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору: сб. ст. в память В. Я. Проппа. - М., 1975. - С. 141-155.
- Силантьев И. В. Мотив в системе художественного повествования. - Новосибирск: Изд-во ИДМИ, 2001. - 236 с.
- Силантьев И. В. Поэтика мотива. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 296 с. (Язык. Семиотика. Культура)
- Соболев Н. И. Проблемы поэтики повествования в творческой истории повести И. С. Шмелева "Росстани" // Проблемы исторической поэтики. - Вып. 13. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. - С. 492-506 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1456403022.pdf 10.15393/j9.art.2015.3450 (25.05.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2015.3450(25.05.2019)
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 334 с.
- Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. - М.: Наука, 1983. - С. 227-284.
- Тюпа В. И., Ромодановская Е. К. Словарь мотивов как научная проблема // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: от сюжета к мотиву. - Новосибирск, 1996. - С. 3-15.
- Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. - М.: Правило веры, 1996. - 336 с.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. - М.: Лабиринт, 1997. - 448 с.