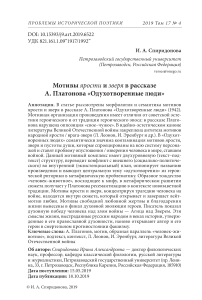Мотивы ярости и зверя в рассказе А. Платонова "Одухотворенные люди"
Автор: Спиридонова Ирина Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены морфология и семантика мотивов ярости и зверя в рассказе А. Платонова «Одухотворенные люди» (1942). Мотивная организация произведения имеет отличия от советской эстетики героического и от традиции героического эпоса: в рассказе Платонова нарушена оппозиция «свое-чужое». В идейно-эстетическом каноне литературы Великой Отечественной войны закреплена антитеза мотивов народной ярости / врага-зверя (Л. Леонов, И. Эренбург и др.). В «Одухотворенных людях» семантически значима контаминация мотивов ярости, зверя и пустоты души, которые спроецированы на всю систему персонажей и ставят проблему опустошения / озверения человека в мире, ставшем войной. Данный мотивный комплекс имеет двухуровневую (текст-подтекст) структуру, переводит конфликт с внешнего (социально-политического) во внутренний (экзистенциальный) план, оппонирует названию произведения и выводит центральную тему «одухотворения» из героической риторики в метафизическую проблематику. Образное тождество «человек-животное» , восходящее к мифу, в метафорическом развитии сюжета получает у Платонова ресемантизацию в контексте новозаветной традиции. Мотивы ярости и зверя, концентрируя трагедию человека на войне, находятся внутри сюжета, который открывает и завершает лейтмотив любви. Мотивы свободной любовной жертвы и благодарения жизни вынесены в финал духовной эволюции героев. Писатель показал духовную победу человека над злом войны - Агнца над Зверем. Эти смыслы жизни, выстраданные русским народом в веках истории, утвержденные в его православной духовности, заново открывают автор и его герои в смертельном противостоянии фашизму.
А. платонов, мотив, образная параллель "человек, животное", контекст, л. леонов, и. эренбург, литература великой отечественной войны
Короткий адрес: https://sciup.org/147226229
IDR: 147226229 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6522
Текст научной статьи Мотивы ярости и зверя в рассказе А. Платонова "Одухотворенные люди"
Р ассказ А. Платонова «Одухотворенные люди» (1942) занимает особое место в литературе Великой Отечественной войны. В тяжелый, переломный период 1942–1943 гг. он был издан семь раз: в журналах «Краснофлотец» (1942, № 21) и «Знамя» (1942, № 11), в авторских сборниках «Броня» (1942) и «Рассказы о Родине» (1943), в антологии «Сталинское племя» (1943), отдельными брошюрами: «Одухотворенные люди» — в серии «Герои Отечественной войны» издательства «Молодая гвардия» (1942) и «Бессмертный подвиг моряков» — в серии Военно-морского издательства НКВМФ СССР «Моряки — Герои Советского Союза» (1943). Этот рассказ стал народным чтением, одним из опорных произведений «литературы национального самоспасения» [Акимов: 81–82], что обусловило его выбор для более детального анализа мотивной структуры в этнопоэтическом аспекте. Мотив, по А. Н. Веселовскому, есть «образный ответ» на запросы времени [Веселовский: 448]. Развивая идеи Веселовского, В. Н. Захаров определяет этнологическую проблематику как один из центральных, научно актуальных вопросов исторической поэтики; в изучении национальной специфики русской литературы исследователь особое внимание уделяет православным аспектам этнопоэтики отечественной словесности [Захаров].
Реставрация национальной памяти — одна из главных заслуг русской литературы Великой Отечественной войны. Исторический, религиозный, бытовой, философский, художественный опыт, аккумулированные в национальной культуре, были необходимы человеку и народу, чтобы выстоять в трагические годы войны. Военные произведения Платонова ответили на этот духовный запрос. Национальная картина мира «прописана» в названиях его военных произведений: «Божье дерево (Дерево Родины)», «Одухотворенные люди», «Домашний очаг», «Взыскание погибших», «Девушка Роза», «Среди народа (Офицер и крестьянин)» и др.
«Одухотворенные люди» посвящены героической обороне Севастополя в ноябре 1941 г., подвигу моряков, которые ценой жизни остановили танковые атаки фашистов на рубеже Ду-ванкойского шоссе. Сохраняя документальную основу, Платонов пишет рассказ, а не очерк. В журнале «Краснофлотец», где был напечатан первый сокращенный вариант произведения под названием «Слава», его сопровождает редакционное примечание: «Подвиг пяти моряков, о котором рассказывает А. Платонов, вдохновил уже многих писателей и поэтов. Эти произведения несхожи в деталях , но во всех них авторы с наибольшей силой стараются воспроизвести героическое событие и его высокий патриотический смысл » (курсив здесь и далее в цитатах мой. — И. С .)1.
«Несхожесть в деталях» в представлении героического события и его патриотического содержания прослеживается у Платонова на всех уровнях художественного текста, о чем сигнализирует сложная мотивная структура, в которой нарушена оппозиция «свое–чужое», что ведет к реорганизации не только героической модели советской литературы, но и фольклорной традиции героического эпоса. Назначением литературы огненных лет писатель считал не только «службу вечной славы», но и «службу вечной памяти — всех мертвых и всех живых»2. Жанровую специфику «Одухотворенных людей» сам Платонов обозначил в письме к жене с фронта как «реквием в прозе»3.
Андрей Платонов разделил героико-патриотический пафос Великой Отечественной, но он также сознавал, что в одном историческом событии трагически сошлись две войны: «священная война» спасения Родины и война, которая стала «постоянным явлением» цивилизации и глубоко проникла в души людей, — «вечная война»4. Анализу двух мотивов, которые формируют в «Одухотворенных людях» трагический подтекст героического сюжета, и посвящена данная статья.
Мотивы ярости и зверя в платоновском сюжете выступают единым семантическим блоком, в кульминационной точке схождения фиксируя преображение человека в яростного зверя в смертельном бою. Образное тождество человека и животного исконно в мировой культуре, оно играет важную роль в мифах разных народов, в том числе в русской мифологии, хранит память о разных стадиальных отношениях человека и природы, о драме обустройства человека в цивилизации, о поиске человеком своего истинного человеческого содержания. В художественном произведении «функцию конкретизации (универсального. — И. С.) образа несут метафоры. <…> Образ оформляется при помощи отдельных, совершенно различных, конкретно применяемых метафор; они, таким образом, семантически тождественны, но всегда морфологически различны» [Фрейденберг: 51]. Опираясь на этот базовый принцип «Поэтики сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг, проследим морфологию и семантику мотивов ярости и зверя в художественной структуре рассказа «Одухотворенные люди».
В «Одухотворенных людях» мотив ярости присутствует уже в первом «батальном» предложении:
«А он (Красносельский. — И. С .) бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости»5.
Кто «он», повествователь пояснит позже — персонажу, открывающему сюжет «смертельного боя», придано семантическое расширение. Далее мотив ярости объемлет разных героев и разные эпизоды трехдневного сражения русских моряков за Севастополь от рукопашного боя до битвы «живых душ» с железными танками врага, аккумулируя разные смыслы: «Он (Красносельский. — И. С.) с криком ярости, изгоняющим страх и содрогание тела, ворвался в окоп <…> и сразил врага прикладом в лоб» (75); «…маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости» (78); «Он (комиссар Поликарпов. — И. С.) поднял над головой, как знамя и как меч, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростной и удовлетворенной радости своего сердца, погибающего за родивший его народ: “Вперед! За Родину, за вас!”» (79); «…во-евал он (Красносельский. — И. С.) с яростью и ровным упорством…» (88); «Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина» (95); «Но второй танк (врага. — И. С.) с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко» (103); «Одинцов дрожал от горя и ярости» (106); «И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко» (107).
Ярость — состояние вдохновения и ожесточения боя. Ярость моряков-краснофлотцев, защищающих Севастополь, в платоновском повествовании мотивирована жизненной необходимостью смертельного ответа врагу в Отечественной войне.
В первый день войны В. И. Лебедевым-Кумачом и А. В. Александровым была написана «Священная война»: ярость благородная стала лейтмотивом патриотического гимна народа в Великой Отечественной войне. «Смерть немецким оккупантам!» — этим призывом открывались все советские периодические издания, он звучал по радио и на митингах, его повторяли про себя. Литература военных лет работала на вооружение «рассвирепевшей», по определению А. Толстого, совести нации: «Возмездия!» А. Толстого, «Наука ненависти» М. Шолохова, «Убей его» К. Симонова, «Ярость. Репортаж с Харьковского процесса» Л. Леонова, «Слово ненависти» А. Твардовского, «Убей!» И. Эренбурга. Эти произведения нельзя изъять из трагического контекста времени: защита родной земли, жизни близких, будущего нации требовала реализации любви к Родине в ярости-ненависти к агрессору, патриотического долга — в смерти врага.
Лексемы ярость (благородная) и ненависть (священная), отредактированные эпитетами, стали синонимами в чрезвычайных обстоятельствах войны с фашистским агрессором, однако имеют разную культурную семантику и образный потенциал. Значение ненависти замкнуто в поле отрицательных человеческих эмоций: это «чувство сильнейшей вражды, неприязни»6, которое отрицает (уничтожает) самый образ объекта ненависти (ненавижу = не вижу). Ярость полисеман-тична, означает максимальную интенсивность состояния / действия: лексема хранит первобытную память «о яри как высшем проявлении производительных сил»; корень яр- (*jar) и его производные характеризуют в славянской и русской мифологии богов, природные стихии, флору, фауну, человека7. Как эмоциональное состояние человека ярость имеет негативное, «низкое» значение («сильный гнев», «бешенство»), но сохраняет и положительные коннотации («крайняя увлеченность, настойчивость, напористость <…> в осуществлении какого-либо действия»8).
В «Одухотворенных людях» отсутствует лексема ненависть 9, в то время как любовь и ее дериваты использованы многократно: «Она (девушка — И. С .) плакала от чувства любви , от памяти по человеку, который был сейчас на войне…» (74); «…это она (мать — И. С .), полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь » (74–75); «…его хранила любовь к своей невесте» (88); «И от него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери…» (107) и т. д.
Мотив любви у Платонова вступает в сложный, напряженный сюжетный диалог с мотивом ярости . Последний трижды персонально закреплен в повествовании за Иваном Красносельским, русским богатырем, о котором сказано:
«…он бы должен свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив; одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью» (88).
«Невидимая сила», управляющая им с «благородной точностью», — любовь к невесте. На войне показано трагическое раздвоение героя, в котором живут два взаимоисключающих, насильственно объединенных войной чувства:
«Он жил <…> в счастье своей любви <…> и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни » (88).
Центральным для темы беспощадности войны, у которой один закон «убей!» и для агрессора, и для защитника Родины, является в «Одухотворенных людях» эпизод, где получает лексическое оформление мотив зверя, и характеризует он у Платонова защитников Отечества. Анималистическая тема занимает важное место в платоновском творчестве, присутствует она и в данном рассказе, что позволяет говорить именно о мотиве зверя при однократном прямом лексическом обозначении его в повествовании. Свою роль в сюжетной реализации мотива зверя у Платонова играет мотив ярости с его мифопоэтической памятью родства животного и человека. Ниже приведем фрагмент текста, где сходятся два мотива, курсивом выделив художественные элементы, которые «свидетельствуют» о превращении человека в зверя, о неизбежной и необходимой для победы переплавке патриотизма в смертельную беспощадность к врагу и к себе:
«Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем. <…>
Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя , погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа:
— Давай их крошить , командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил так народ, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал! .. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!
— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял с себя винтовку.
Одинцов дрожал от горя и ярости .
— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо» (105–106).
В развитии сюжета «Одухотворенных людей» мотив зверя существует в блоке лейтмотива ярости как вариант и одновременно кульминация. В рассмотренном эпизоде мотив зверя становится смысловым центром и включает в свое семантическое поле ярость как вариант. Именно мотив человека-зверя придает рассмотренной сцене статус сюжетного события. Сюжетное событие, в отличие от мотива, «должно обладать как раз противоположным признаком — единичности; повторяемость сюжетного события лишает его качества событийности» [Дымарский: 149]. На лингвопоэтическом уровне событийность актуализирована глагольной формой прошедшего времени совершенного вида («До чего они нас довели — я зверем стал!»), что придает сказанному значение состоявшегося, завершенного события. Это личное признание Юрия Паршина, потрясенного бездной ярости зверя, которую он в себе открыл; но то же самое чувствуют и сознают и другие краснофлотцы. В «горе и ярости» Одинцов ответит товарищу: «Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни!» (106).
Мотивы любви и ярости реализованы в анализируемом эпизоде как повтор неповторяемого. Патриотизм, любовь к ближнему, чувство товарищества заявлены в рассказе главными побудителями героической борьбы моряков. Но, лишь прожив беспощадную ярость боя, они открывают в себе новую по качеству и силе способность любить. Это первое переплетение мотивов. Мотив качественно новой высшей любви сопряжен с мотивом качественно новой высшей ярости — ярости зверя , — которую обнаруживают в себе герои и которая трагически обеспечивает исполнение патриотического долга: «Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее: лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить » (102). Это второе переплетение мотивов, которое уже не позволяет «развязать» трагический узел противоречий. М. Шелер, рассматривая феномен трагического в его бытийной данности, отмечает, что антагонистические начала в трагическом событии явлены как «определенное свойство мира, данное в самом событии <…> в мгновенно связанной данности. <…> Даже более того: это может реализоваться в одном и том же качестве, в одной и той же силе, в одной и той же способности или возможности» [Шелер: 304– 306]. Любовь и ярость у Платонова — ядро художественной формулы трагического самораздвоения человека на войне.
При эстетическом оформлении трагического в линейной длительности художественного текста важна композиционная последовательность смены–сцепки мотивов. Русские моряки, не имея возможности в настоящем, которое есть звериная ярость боя, претворить выстраданное ими знание истинной ценности любви, свободно входят в смерть, в ней осуществляя свою тождественность Жизни, восстанавливая утраченную гармонию бытия («Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни!»).
Положительный, в ряде случаев, оправдательный смысл, который получает в «Одухотворенных людях» лексема ярость при описании психологического состояния защитников Севастополя, сохраняется писателем и в единожды присутствующей в тексте рассказа характеристике одержимости боем фашистов:
«Но второй танк (врага. — И. С .) с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко» (103). Нарушение границы свое–чужое обнаруживается у Платонова и в развитии мотива зверя . Мотив зверя лексически оформлен и получает кульминацию в сюжете при характеристике защитников Отечества, при этом включает в себя зоологические характеристики врага («гады», «волосяной червь», «пустые шкурки от человека»). Английский переводчик и исследователь творчества Платонова Р. Чандлер отмечает как устойчивую и семантически важную конструкцию платоновского текста принцип конъюнкции: «Он использует удивительный предлог; создает эмоциональное предложение, написав и , где мы ожидаем но …»10. «Сбои», «путаница» в мо-тивной структуре «Одухотворенных людей» сигнализируют об исторической трагедии воюющего человека по ту и эту сторону смертельного противоборства.
Для пояснения специфики мотивной структуры у А. Платонова обратимся к литературе огненных лет. Л. Леонов, писатель одного с Платоновым поколения, активно выступал в годы Великой Отечественной войны в жанре художественно-публицистического очерка. О военных произведениях писателя О. Михайлов пишет: «Перед нами та же проза Леонова, с ее уплотненным, на пределе возможностей языка словом, с ее многозначностью и внутренним свечением» [Михайлов: 598].
Мотивы ярости и зверя — сквозные в творчестве Леонова 1941–1945 гг. В очерке «Наша Москва» (1941) дан метафорический образ «Москвы — громадной летописи», хранительницы национального и мирового культурно-исторического опыта. Рассказ о Москве ноября 1941 г. пронизан патриотическим пафосом, но лексема «любовь» в тексте отсутствует — ее замещает «ярость»: «Слишком много воспоминаний у нас о Москве, и потому родина полна решимости защищать этот древний мировой город. <…> Всею индустриальной громадой порабощенной Европы напирает на нас враг, но никогда Гитлер не увидит коленопреклоненной нашу Москву. С каждым днем крепнет ярость нашего народа »11. В очерке «Размышление у Киева»: «Она (победа. — И. С .) в десятке признаков и прежде всего в нашей неукротимой, все возрастающей ярости »12.
Кульминация темы национального гнева — очерк 1943 г. «Ярость. Репортаж с Харьковского процесса», где ярость идет вслед и в одном блоке с мотивом мщения. «Пусть скорбь о безвинно убитых женщинах и детях наших будет потом, когда свершится мщение . А пока лишь сжимаются кулаки, и уже недостаточным оказывается бедный инструмент человеческой речи. Советские пушки и автоматы полнее и убедительнее выразят наше немое презрение и ярость …»13.
Спутник-антагонист мотива народной ярости в военных выступлениях Леонова — мотив врага-зверя (он является одним из ведущих в разработке темы врага у И. Эренбурга, М. Шолохова, А. Толстого, Б. Полевого и др.). В очерке «Наша Москва» мотив врага-зверя введен в повествование вслед мотиву народной ярости . Народную борьбу с захватчиками автор художественно воссоздает как борьбу с опасным «лесным зверем», опираясь на авторитет фольклорной традиции. Устойчивая антитеза мотивов ярости (защитников отечества) / зверя (врага) характерна для сюжетно-композиционной организации многих военных произведений Леонова. Во всех случаях мотивы ярости и зверя идеологически разведены: первый представляет в сюжете тему сражающегося за свободу народа, его любовь к родине, воплотившуюся в ненависть к врагу, второй — вероломного агрессора, его преступления против русского народа и человечества.
У Леонова есть прецеденты, когда мотив народной ярости включает в себя анималистические образы, но эти редкие включения лишь подтверждают общее правило. Мотив благородной ярости сражающегося за свободу народа диктует выбор образов животных, закрепленных в мировой и национальной культурной традиции как «благородных». В очерке «Поступь гнева»: «Что же сказать вам, освободители Харькова? Дрались, как львы? Мало! Как орлы когтили вы вражескую нечисть на поле боя? Мало!..»14. Даже сравнения с этими царственными животными оказываются недостаточными для характеристики ярости воинов-освободителей. При этом выстраиваются анималистические оппозиции, в которых высокое, благородное начало противостоит низкому, бесчестному. Так, «орлиной» и «львиной» ярости освободителей Харькова противостоит смертельно раненный, но еще сильный и опасный враг-«волк»15. Животные образы, входящие в состав мотивов народной ярости и врага-зверя, как и в фольклорной традиции, этико-эстетически закреплены за каждой из противоборствующих сторон и не подлежат переадресовке. Фашизм — смертельная угроза человечеству, цивилизации и культуре. Именно из этой идеи вырастал разоблачительный образ-мотив врага-зверя. Тему врага-нелюдя у Леонова продолжают и развивают фантастические образы: «гомункулы» («Документы, сделанные кистью»), «оборотни», «упыри» («Имя радости»), «вурдалаки», «черти» («Немцы в Москве»), «дьяволы» («Ярость. Репортаж с Харьковского процесса»), — свидетельствующие о враждебности фашизма всему живому, его несовместимости с жизнью.
Звероподобные, хтонические образы врага даны в военной новеллистике И. Эренбурга («Василиск», «Хуже зверей», «Волк в чепчике», «Живые тени», «Черные души» и др.). В 1942 г. рассказы, разоблачающие бесчеловечную сущность фашизма, выйдут отдельным сборником под общим названием «Василиск». Поясняя читателю название, И. Эренбург писал:
«В древности люди считали, что существует мифический зверь василиск. По описанию Плиния, василиск — ужасен. Когда он глядит на траву, трава вянет. Когда он заползает в лес, умирают птицы. Глаза василиска несут смерть. Но Плиний говорит, что есть средство против василиска: подвести его к зеркалу. Гад не может выдержать своего собственного вида и околевает.
Фашизм — это василиск. Он несет смерть. Он не хочет взглянуть на самого себя. Германия боится зеркала: она завешивает его балаганным тряпьем. Она предпочитает портреты чужих предков. Но мы ее загоним к зеркалу. Мы заставим немецких фашистов взглянуть на самих себя. Тогда они сдохнут, как василиск»16.
Таких ярких зооморфных образов-метафор врага нет в военной прозе Платонова. Анималистические характеристики врага, реальные и мифологические, в его военных рассказах встречаются редко, локализованы на периферии образной структуры, разнородны, свернуты в словосочетание или слово и даны, как правило, в речи персонажей: «комариная куча» («Рассказ о мертвом старике»), «гадюка», «хищник» («Дед-солдат»), «мошкара из болота» («Никодим Максимов»), «гончие псы»
(«Три солдата»), «расчетливый муравьиный разум» («Пустоду-шие»), «зубы» и «челюсти дракона» («Челюсть дракона»), «сказочный многоглавый дракон» («Штурм лабиринта»). К тому же некоторые из поименованных в этом списке представителей фауны в других военных рассказах представлены Платоновым «героями жизни», которые ведут свою борьбу с фашистами и «работу по одушевлению мира». Так, в финале рассказа «Неодушевленный враг» главный герой размышляет:
«…у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, — у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью»17.
А. Кулагина среди редких и разных зоологических представлений врага в военных рассказах Платонова прослеживает связь с фольклорными образами кровожадных, несущих смерть чудовищ (змéя, дракона): от сравнений фашистов с «комариной кучей» и «мошкарой болотной» до образа «сказочного многоглавого дракона» [Кулагина: 102]. Важно отметить, что «сказочной» силы враг — «многоглавый дракон» — появляется в прозе Платонова только во второй половине войны, где речь идет о борьбе с фашизмом на немецкой территории: когда враг насмерть стоит за родной кров, свою землю. В рассказах 1941–1942 гг., несмотря на трагизм ситуации, анималистические представления врага у Платонова близки к фигуре фикции: «Какой он (немец. — И. С .) неприятель? Он фашист аль Гитлер! Неприятели раньше были, они были в крымскую, в турецкую кампанию… А это просто так себе, одна гадюка …»18.
В «Одухотворенных людях» А. Кулагина выделяет две анималистических характеристики врага: «гады» и «волосяной червь», — также отмечая в них «перекличку с былинным змеем» [Кулагина: 102]. «Последним гадом», по оценке краснофлотца Юрия Паршина, является Гитлер: «У него была еще мечта — самому, лично, в рукопашную сразиться с последним гадом на свете. Он полагал, что последний гад есть Гитлер…» (90). «Родовое» определение фашистов «гадами» прозвучит во время боя, когда политрук Фильченко даст команду: «Цибуль-ко, пулемет по гадам…» (94). Вслед, в том же боевом эпизоде, образ врага-гада получит «реалистическое» обоснование: немцы, как рептилии, пытаются незаметно подползти к окопам русских моряков, прячась среди стада овец («…из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием» — 94).
В речи комиссара Лукьянова, обращенной к морякам, прозвучит сравнение врага с «волосяным червем»:
« Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли , без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а последний человек — до последней капли крови и до последнего дыхания!» (91–92).
Морфологически представляя литоту былинного змея, образ врага-червя семантически тождествен фольклорному чудовищу смертоносным содержанием: его проникновение в глубь земли, внутрь организма19 смертельно опасно, грозит разрушением глубинных, в том числе духовных основ русской жизни.
Зоологические уподобления врага в «Одухотворенных людях» включают еще один метафорический образ — «пустые шкурки от человека». По мнению Николая Фильченко, фашисты — это «только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером!» (92). Сравнение фашистов с «волосяным червем» и метафора «пустые шкурки от людей» развивают образ врага-гада ; одновременно периферийная смысловая связка анималистических характеристик врага: волосяной / шкурки как варианты шерсти / шкуры — дает вторичную зоологическую метафору и позволяет рассматривать образ врага как человека-зверя .
Анималистический триптих врага в «Одухотворенных людях» имеет ряд ассоциативных связей с романом «Чевенгур», где мастер Захар Павлович размышляет о фатальном родстве человека с червем: «…он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма»20. Пессимизм утраты «главного» смысла жизни и тождество человек-червь вызревают у Захара Павловича на почве национального исторического кризиса и «напоминают» о себе в «Одухотворенных людях» определениями врага как червя / гада, а также признаками пустоты («пустые шкурки от человека») и зловония (Красносельский «почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом» — 75).
В метафорическом развитии сюжета «Одухотворенных людей» проблема зверя охватывает обе противоборствующие стороны. Вернемся к эпизоду, когда на поле боя неожиданно появляется стадо овец:
«А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества . <…>
— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе. Огонь по овцам!
Цибулько начал сечь овец <…>. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей . <…> …через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.
Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями врагов» (95).
Точка зрения на этом повествовательном отрезке закреплена за овцами, и правда , с природной точки зрения, оказывается внеположна истории — людям, человечеству .
Претекстовая память мотива зверя в творчестве Платонова 1920–1930-х гг. поясняет его функции и семантику в «Одухотворенных людях» и военной прозе в целом. «Зверь больше не воскреснет на земле», — утверждал Платонов в статье «Преображение» 1920 г., так как против него «вспыхнул со страшной разрушающей мощью <…> человек — великий творец»21. В статьях первых пореволюционных лет писатель высказывался с ультрарадикальных революционных позиций, отрицая прошлое, природное и историческое, и приветствуя утопическое будущее — «Золотой век, сделанный из электричества» (1921).
Социально-политическая практика осуществления утопий в отечественной и мировой истории XX века приводит Платонова к горькому выводу о торжестве Зверя в современной цивилизации. Лейтмотив зверя — структурообразующий в повести «Котлован» (1929–1930). Расчеловечивание людей в нескончаемой гражданской войне, массовая мутация в социальное животное — одна из главных тем «Котлована». Ключевым персонажем в мире разрушенных границ является зверь-пролетарий Миша Медведев. Медведь-молотобоец — зооантропоморфный образ, в котором концептуально значима двуединая природа22. Социализация персонажа дана под знаком очеловечивания-озверения: превращение медведя в человека и «возвратная метаморфоза». Именно второе перевоплощение делает исключительного, фантастического по художественной природе героя «типичным» в системе персонажей. Медведь, по древним поверьям, — лесной брат человека. Тему подобия-тождества медведя и человека хранит первобытный ритуал медвежьей охоты, важная часть которого — снятие шкуры с убитого медведя, что символизирует «первый этап принятия медведя человеческим коллективом» [Иванов, Топоров: 128]. Обрастание героев «Котлована» шерстью — «надевание шкуры»23 — прочитывается как контрэволюционное следствие революционной истории.
Вслед «Котловану» эта тема прозвучит в антифашистском рассказе «Мусорный ветер» (1933). Его главный герой физик Лихтенберг свидетельствует о жизни нацистской Германии: «…я вижу происхождение животных из людей …»24. Происхождение животных из людей получает в рассказе сюжетную реализацию: собака оказывается «бывшим человеком»; о самом Лихтенберге в формуляре поступающего в концлагерь написано: «Новый возможный вид социального животного, обрастает волосяным покровом…»25. Анималистические метаморфозы персонажей раскрывают их человеческую трагедию, трагедию фашизма. Мотив зверя в «Мусорном ветре», как и в «Котловане», семантически дуален: «показывает» утрату социумом гуманистического начала и природу как последнее убежище человека в мире социального зла. Авторская семантизация мотива зверя в творчестве Платонова 1920–1930-х гг. поясняют его «противоречивое» содержание и роль в военной прозе.
В художественной структуре «Одухотворенных людей» анималистический ряд характеристик, сигнализирующий об опасности утраты человеком человечности: гад, волосяной червь, пустая шкурка от человека, зверь — предваряет образ человека с пустой душой. Молодой музыкант Даниил Одинцов в ночь перед боем мечтает о послевоенном времени, где «будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми и душа их станет полной» (84). В этой идиллической картине будущего есть тревожный знак опустошения души человека войной. Светлую грезу героя сменяет апокалиптическое видение: «И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся человеке, — и этот человек сначала убивает всех живущих, а потом терзает насмерть самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве» (84)26.
Антропозооморфный образно-мотивный комплекс в «Одухотворенных людях» — в его синтагматическом развитии и тем более парадигматической перспективе — многозначен и оппонирует названию произведения, выводит его из героической риторики в экзистенциальную проблематику. Где духовно погиб / опустошен человек — торжествует зверь.
В Откровении Иоанна Богослова сказано: «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Откр. 17:8).
Из записных книжек Платонова 1942–1943 гг.: «Война может стать постоянным явлением: к<а>к род новой промышленности, вышедшей из двух причин — некоторого “свободного” избытка пр<оизводительных> сил и “опустошения душ”.
Война, весьма возможно, превратится в долгое свойство челов<еческого> общества. <…> “Вечная война” как выход в другое историч<еское> состояние (фаш<изм>)» (ЗК, 237).
Душа — главная арена борьбы добра и зла в человеке. Образ души в художественном мире Платонова занимает одно из центральных мест: об этом говорят высокая частотность и многообразие метафор, развивающих данную тему [Михеев: 174–206]. В анализируемом рассказе исходная формула защитников Отечества — «одушевленные люди»27. В ходе последующей работы Платонов меняет в заголовке определение «одушевленные» на «одухотворенные».
Оппозиция наполненности–пустоты души ( одухотворенности – неодушевленности ) раскрывается у Платонова в контексте народной православной культуры. Неодушевленный (враг), пустодушные — это народные определения фашистов в военных рассказах Платонова, которые свидетельствуют не об отсутствии души, а об утрате врагом-агрессором ее истинного содержания, прежде всего — совести. В рассказе «Пусто-душие» ребенок спрашивает у матери:
«— Мама, а какие фашисты?..
— Немцы, — сказала мать, — они пустодушные , сынок… <…> Они за свои грехи чужую кровь проливают, оттого и пустодушные .
— А мы какие? — узнавал ребенок.
— А мы — нет. Мы сами свою кровь проливаем и сами горе терпим. Мы, когда грешны, свои грехи на другого не валим »28.
В «Одухотворенных людях»:
«Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа . А фашисту легко, ему кажется жизнь смутной, не то есть она, не то она ему снится, поэтому он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет» (84).
У русских воинов, защищающих Отечество, болит душа , потому что в ней жива совесть. Даже в ярости боя героям Платонова нужен оправдательный смысл, даже агрессора они убивают по трагической нужде защиты Отечества: «…чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти» (75). «Оправдание» русского солдата в смертельном единоборстве с немцем, в необходимости убить врага присутствует в рассказе «Божье дерево (Дерево Родины)», написанном в августе 1941 г.:
«Теперь уже не смогу прощать тебя, — ответил Трофимов врагу. — Теперь уже не сумею… У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли»29.
Необходимость опереться на правду, прислушаться к совести в страшной работе войны по уничтожению врага — постоянная забота «одухотворенных людей» Платонова.
Принципиально важно, что мотивы пустоты души и зверя введены в повествование через слово и мысль героев — как саморефлексия. «Зрячее, или именуемое», по определению А. Ф. Лосева, нахождение «себя в себе же» играет первостепенную роль в самоидентификации личности: «Это — различающее нахождение себя и как иного себе и как себя самого» [Лосев: 66–67].
Даниил Одинцов думает перед боем:
«А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон , в нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется…» (84).
Мысль героя имеет возвратную семантику — обращенность на себя, — актуализируя в подтексте тему онтологического зла. Из военного блокнота Платонова: «Зло въяве, наружи — это только то, что у нас есть внутри. Это наши же извержения, чтобы мы исцелились» (ЗК, 219). В яростном ожесточении смертельного боя Юрий Паршин открывает в себе «зверя». Герои Платонова из тех, кто «очнулся» — прозрел в аду войны, — ведь осознание в себе зверя есть опорная точка в усилии возвращения человека к себе самому.
Защитники Севастополя в рассказе «Одухотворенные люди» проходят сложную эволюцию, открывая смысл жизни и смерти, в последнем бою мысленно произносят слова благодарения жизни за то, что они родились жить здесь и сейчас. Личная смерть солдата в бою с немецкими захватчиками становится последним, крайним средством не только защиты общенародной жизни, но и выявления ее истинного содержания. Комиссар Поликарпов погибает со словами, обращенными к бойцам: «За Родину, за вас!» (79). Умирая, он передает боевым товарищам заветные смыслы патриотизма и любви к ближнему. Бойцы вспоминают погибшего командира: «Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно » (80); «— Комиссар говорил, что мы для него — всё, что мы для него родина . И он тоже родина для нас » (83). Краснофлотцы открывают для себя новое содержание жизни и смерти на войне — «защитить добрую правду русского народа» (84).
Духовная эволюция политрука Фильченко в эти три дня сражения за Севастополь — от жажды мщения врагам до радости дарения себя Родине, правде, народу. Готовясь к единоборству с фашистским танком, Николай Фильченко всматривается в родную, истерзанную войной землю, на которую наползает железная смерть:
«Жалкие живые былинки , росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли » (107).
Натуралистически точная детализация «сокращающегося пространства» передает психологическую концентрацию человека в последний, решающий момент смертельного поединка. Одновременно эти физические знаки имеют метафизическое содержание, символически представляют мистериальную драму вечного единоборства жизни и смерти, в которую готовится вступить человек. В этот судьбоносный момент происходит открытие героем жизни как добровольной любовной жертвы:
«И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь , и он ее сейчас жадно и страстно переживет, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в немощи на землю по воле одного его сердца. <…> Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, — и приник лицом к земле в последней любви и доверчивости » (107)30.
Катарсисом трагического сюжета в художественном решении Платонова станет кроткий подвиг любви — победа Агнца над Зверем в душе человеческой: «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их…» (Откр. 17:14). Герои Платонова, его «одухотворенные люди», утверждаются в вере, что сделать мир «святым и одушевленным» (85) может только любовь.
-
А. Киселев пишет об «одухотворении мира» как важнейшем принципе эстетики Платонова, восходящем и опирающемся на народную православную культуру: «Платонов в своих произведениях старается выявить Бога и сил небесных, действующих и в современном мире. Однако описания, выявляющие метафизическую реальность, строятся им так, что человек, близкий церкви, уже знакомые образы примет за реальные, а мало знающий
православие — за сюрреалистическое описание, являющее вспомогательный момент в описанных событиях» [Киселев: 82].
Зооантропоморфный сюжет в «Одухотворенных людях» имеет двухуровневую (текст–подтекст) структуру, сложный мотивный комплекс переводит конфликт с внешнего (социально-политического) во внутренний (экзистенциальный) план. Образное тождество человек-животное, восходящее к мифу, в метафорическом развитии сюжета получает у Платонова ресемантизацию в контексте новозаветной традиции. Контаминация мотивов ярости, зверя и пустоты души , их сюжетная стяжка ставит проблему опустошения / озверения человека в мире, ставшем войной, сигнализирует об исторической трагедии человека в полном объеме — индивидуальном, национальном, общечеловеческом. При этом трагические мотивы не разрушают, а усиливают героический пафос «Одухотворенных людей». Зооантропоморфный мотивный комплекс, концентрируя трагедию человека на войне, находится внутри сюжета, который открывает и завершает лейтмотив любви . Мотивы свободной любовной жертвы и благодарения жизни вынесены в финал духовной эволюции героев. Высокий патриотический смысл Отечественной войны развернут у Платонова из «злободневности» в вертикаль совести — нет другого выхода из «вечной войны». Писатель показал духовную победу человека над злом войны — Агнца над Зверем . Эти смыслы жизни, выстраданные русским народом в веках истории, утвержденные в его православной духовности, наново открывают автор и его герои в смертельном противостоянии фашизму.
Список литературы Мотивы ярости и зверя в рассказе А. Платонова "Одухотворенные люди"
- Акимов В. М. От Блока до Солженицына. Судьбы русской литературы ХХ века (после 1917 года): новый конспект-путеводитель. - СПб.: Изд-во Академии культуры, 1994. - 164 с.
- Брэм А. Э. Жизнь животных: в 3 т. - М.: Терра, 1992. - Т. 3: Пресмыкающиеся. Земноводные. Рыбы. Беспозвоночные. - 1370 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. - Л.: Худож. лит., 1940. - 649 с.
- Дымарский М. Я. Еще раз о понятии сюжетного // Алфавит: Строение повествовательного текста. Синтагматика. Парадигматика. - Смоленск: Изд-во СГПУ, 2004. - С. 139-150.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. - М.: Индрик, 2012. - 264 с.
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Медведь // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. - 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1992. - Т. 2. - С. 128-130.
- Киселев А. Одухотворение мира // Молодой коммунист. - 1989. - № 11. - С. 78-85.
- Кулагина А. Образ русского ратника в фольклоре и в военной прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. - М.: ИМЛИ РАН, 2003. - Вып. 5. - С. 101-107.
- Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. - М.: Правда, 1990. - С. 11-194.
- Михайлов О. Примечания // Леонов Л. Собр. соч.: в 10 т. - М.: Худож. лит., 1984. - Т. 10: Публицистика. Фрагменты из романа. - С. 595-622.
- Михеев М. Ю. В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. - М.: Изд-во Московского ун-та, 2003. - 408 с.
- Спиридонова И. А. Рассказ Платонова «Одухотворенные люди»: текст и контекст // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. - СПб.: Наука, 2008. - Кн. 4. - С. 217-233.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. - М.: Лабиринт, 1997. - 448 с.
- Шелер М. О феномене трагического // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. - Рига, 1988. - С. 298-317.
- Chandler Robert. Translaiting Soul // Platonov Andrey. Soul. - London: The Harvill Press, 2003. - Pp. 19-26.