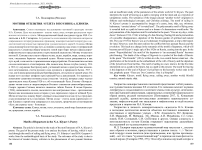Мотивы отплытия / отлета в поэзии Н.А. Клюева
Автор: Пономарева Татьяна Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию мотивной структуры поэзии Н.А. Клюева. Цель исследования - анализ темы ухода, которая реализуется через мотивы отплытия и отлета. Методологической базой послужили труды И.В. Силантьева и Б.М. Гаспарова. Актуальность исследования обусловлена интересом современного литературоведения к феномену новокрестьянской литературы и недостаточной изученностью параметров художественного мира Н. Клюева. Мотив ухода понимается поэтом как путь к слиянию с идеалом и как отказ от неправедной реальности. Семантика образа-концепта «иной мир» берет начало в фольклорномифологических представлениях и христианской аксиологии. Мотиву отплытия в поэзии Н. Клюева сопутствуют образы челна, ладьи, корабля, моря, пловца, кормчего, «желанных берегов» «желанной суши». Мотив отлета раскрывается и как путь в рай, и как мечта о гармоническом мироустройстве. Полисемантизм мотива отлета воплощен в стихотворении «Вы деньки мои, белые голуби» (между 1914 и 1916 г.): ощущение быстротекущей, улетающей жизни и предчувствие возможного исчезновения, отлета русского сада духовного и природного бытия. 1917 г. стал для Клюева революционным Преображением, отплытием к чаемой земле. Но вскоре поэт осознает конфликт крестьянской Руси с революцией. Это приводит к изменению семантики мотивов ухода (отплытия / отлета), которые станут частью трагического эпоса Клюева 1920-х гг. об «отлетающей» Руси. В поэме «Погорельщина» мотив отлета в «нерукотворную Россию» становится сюжетообразующим. Смерть деревни Сиговец является символом гибели России. В поэме Кремль» (1934), написанной в ссылке, выделяются две центральные темы - прославление Кремля как воплощение воли истории и уход лирического героя от избяной Руси. Мотив отплытия к новому берегу впервые осмысливается не как путь в грядущее, а как возможный путь в настоящее. Мотив ухода - отлета души лирического героя Клюева в горний мир завершается в последнем, пророческом стихотворении «Есть две страны: одна - больница».
Клюев, мотив, отлет, отплытие, иной мир, блаженная страна, природная утопия, корабль
Короткий адрес: https://sciup.org/149139258
IDR: 149139258 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_188
Текст научной статьи Мотивы отплытия / отлета в поэзии Н.А. Клюева
Творчество новокрестьянских писателей представляет собой уникальное художественное явление XX столетия. Его значение выходит за рамки литературы и осмысливается в контексте смены типа культур, исчезновения крестьянской цивилизации, кардинальных изменений национального образа жизни, русской ментальности [Пономарева 2017, 5]. Концепция русской судьбы, ценностно-смысловая доминанта национального сознания, мифологический тип мышления и мифопоэтика во всей полноте предстали в творчестве Н.А. Клюева.
Творчество и личность новокрестьянского «идеолога» Н.А. Клюева в последние десятилетия являются объектом постоянного внимания отечественных и зарубежных ученых - К.М. Азадовского, В.Г. Базанова, Е.И. Марковой, М. Мейкина, Э.Б. Мекша, А.И. Михайлова, С.Г. Семеновой, Н.М. Солнцевой, С.И. Субботина и других. Однако сложность и многоаспектность поэзии Клюева открывают перспективу дальнейших исследований его художественного мира.
М.Л. Гаспаров определяет художественный мир текста как «...систему всех образов и мотивов, присутствующих в данном тексте. <...> Частотный тезаурус языка писателя (или произведения, или группы произведений) - вот что такое “художественный мир” в переводе на язык филологической науки» [Гаспаров 1995, 275]. Этим обусловлены научный интерес к

мотивному анализу произведений, которому посвящены современные теоретические и историко-литературные труды И.В. Силантьева [Силантьев 2004], В.И. Тюпы [Тюпа, 2004], других новосибирских ученых, работающих над «Словарем сюжетов и мотивов русской литературы», и актуальность данного исследования.
Мотив понимается нами не только как сюжетно-нарративный компонент произведения, а, согласно Б.М. Гаспарову, как «любой феномен, любое смысловое “пятно” - событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; единственное, что определяет мотив, - это его репродукция в тексте <...>, он формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру» [Гаспаров 1994, 30]. Главное отличие лирического мотива от повествовательного заключается в том, что основой лирической событийности является не перемещение в пространстве, а состояние и изменение сознания лирического героя [Силантьев 2004, 86]. Такой подход к пониманию мотива расширяет возможности интерпретации текста.
Ключевой темой творчества Н.А. Клюева является судьба России и ее сына-поэта. Она реализуется в системе взаимосвязанных тем и мотивов - природного бытия как идеала и основы русской жизни, «избы» как сакрального центра крестьянского мира, возвращения к истокам русской духовности от «злосмрадной» цивилизации, вечной жизни за гранью земного бытия, «где нет ни печали, ни воздыханий», отрицания неправедной действительности и поисков спасения. Эти значимые мотивы и образы Клюева неоднократно становились объектом исследования, прежде всего при обращении к поэмам и циклам [Мекш 1995; Пономарева 2017]. Однако мотивная структура и функционирование ключевых мотивов художественного мира Клюева, позволяющих осмыслить отдельные произведения и все творчество поэта как единый целостный текст, изучена недостаточно, что определяет научную новизну настоящего исследования.
Одним сквозных в поэзии Клюева является мотив ухода в иной мир «из Лабиринта бренных стен» [Клюев 1999, 7], который понимается им как путь к слиянию с идеалом и отказ от неправедной реальности. Этот мотив берет начало в фольклорно-мифологических представлениях и христианской аксиологии - самых релевантных источниках клюевской картины мира.
Семантическое значение мотива ухода в творчестве Клюева неоднозначно и обусловлено сложной структурой образа-концепта иной мир: царство мертвых, рай, праведная земля (блаженная страна?) и некоторые другие окказиональные смыслы. Но во всех случаях он выступает как антитеза окружающей реальности, этому миру.
Образ другого мира «под сводом неба» присутствует в подтексте уже первого известного нам стихотворения Н. Клюева «Не сбылись радужные грезы». «Грезы о другом» - это жизнь без житейской суеты, оков рабских и содомской людской злобы.
Само же словосочетание иной мир впервые появляется в стихотворе- нии Клюева 1904 г. «Широко необъятное море» и является характеристикой «зеленого царства природы», в котором «не увидишь рыданий и слез», «пьяных оргий, продажной любви», «толпы развращенной»:
Здесь иной мир - покоя, отрады, Нет суетных волнений души; Жизнь тиха здесь, как пламя лампады, Не колеблемой ветром в тиши [Клюев 1999, 78].
Человек, лишенный «райской родины», находит новый вертоград в природном бытии:
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий в пустыне [Клюев 1999, 135].
Другой вариант иной жизни, иного удела раскрывается в стихах Клюева периода первой русской революции - это будущий мир социальной свободы:
Но я живу с глубокой верой
В иную жизнь, в удел иной! [Клюев 1999, 82].
И, наконец, концептуальное значение понятия иной мир - это образ горнего царства «за дверью гроба»:
Я говорил тебе о Боге,
Непостижимое вещал И об украшенном чертоге С тобою вместе тосковал [Клюев 1999, 97].
Сплетение мифологического с социальным характерно для всей новокрестьянской литературы. У Клюева социальные мотивы активизируются в периоды революционных потрясений 1905 1907-х и 1917-19120-х гг, но даже в его публицистике социальное сплавлено с мифопоэтическим.
Итак, в раннем творчестве Клюева реальной действительности противостоят природная утопия, социальная идиллия - «обитель свободного счастья» («Гимн свободе», 1905) и образ Царства Божия как антитеза несовершенной земной жизни. Устремление к идеалу находит воплощение в мотиве ухода.
Мотив ухода в ранней поэзии Н. Клюева представлен несколькими вариантами - конкретно-бытовым: любовное расставание / разлука («Любви начало было летом», «Вот и лето прошло»), прощание с городом («Осенюсь могильною иконкой», «Прошли те времена, когда нелицемерно») и символическим - отплытие, отлет.
Тема отрицания, ухода от неправедной действительности - «голштин-
ской» романовской России и никонианской церкви в дореволюционные годы, индустриализации и коллективизации во второй половине 1920-х -1930-е гг. - и связанные с ней мотивы разрушения «избяного космоса», природного бытия являются объектом постоянного внимания исследователей клюевского творчества [Мекш 1995; Солнцева 2008; Субботин 2008].
Но мифосимволическая реализация мотива ухода - отплытия / отлета, которая является ключом к герменевтическому прочтению текстов Клюева и позволяет проследить изменения в мировосприятии «олонецкого ведуна» и выявить сопряженность художественного сознания с поэтикой, не становилась еще объектом литературоведческого анализа.
Отплытие раскрывается в ранней поэзии Н. Клюева как путь к блаженной стране. В уже упомянутом стихотворении «Я говорил тебе о Боге» (1908):
<.. > Я тосковал о райских кринах, О берегах иной земли, Где в светло дремлющих заливах Блуждают сонно корабли.
Плывут проставленные души В незатемненный далью путь, К Материку желанной суши От бурных странствий отдохнуть.
С тобой впервые разгадали Мы очертанья кораблей, В тумане сумеречной дали, За гранью слившихся морей.
И стали чутки к откровенью Незримо веющих сирен, Всегда готовы к выступленью Из Лабиринта бренных стен [Клюев 1999, 97].
Клюевская блаженная страна связана с разными типами пространства. Земное пространство - это «Материк желанной суши», а также русское природное бытие, не затронутое железной цивилизацией. Небесное пространство воссоздано в согласии с христианскими догматами и мифопоэтическими представлениями русского народа.
Водное пространство соотносится с национальной русской легендой о Китеж-граде, городе праведников, ушедшем под воды озера Китеж. В «Песне о великой матери» (1929-1934) души «как челн, готовые к отплытью, / В живую водь, где Китеж-град» [Клюев 1999, 815].
В легендах китежского цикла есть сюжеты о попытках обретения сокровенного города. В. Короленко в очерке «На Светлояре» излагает услы-192
шанную в окрестностях озера Светлояр легенду, герой которой и два его спутника в лодке выплывают на середину озера, затем лодка опускается на дно озера. Но более всего в легендах повествуется о препятствиях, мешающих достичь благословенного града, который в народных представлениях является либо преддверием рая, либо райским местом [Криничная 2005, 55]. Один из героев романа П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» преодолевает четыре реки и непроходимый лес на пути в Китеж. Н. Криничная отмечает, что это соответствует народным похоронным причитаниям о пути-дороге, которую преодолевает душа умершего, чтобы достичь Царствия небесного [Криничная 2005, 57]. Китежский комплекс Клюева вбирает и легенду о взыскуемом граде, и народные представления о последнем отплытии в погребальной ладье, и европейские мотивы зачарованного острова.
Всенаходимость праведной земли обусловливает семантическое сближение в художественном мире Клюева мотивов отплытия и отлета. На семантическом уровне это обусловлено традиционными преставлениями о рае как Царствии небесном. На лексическом уровне это сопряжение проявляется в образе «крылатых баркасов» как фольклорного аналога летучего корабля и «океана небесного»:
Ждет попутного ветра небесный баркас:
Уж натянуты снасти, скрипят якоря, Закудрявились пеной Господни моря [Клюев 1999, 97].
В некоторых стихотворениях раннего Клюева мотив отплытия лишен мифологического смысла и является метафорой преодоления юных жизненных невзгод, будущего счастья, дерзаний молодости:
Об оставленном не плачь ты,
Впереди чудес земля,
Устоят под бурей мачты, Грудь родного корабля. Кормчий молод и напевен, Что ему бурун, скала?
Из всех морских царевен
Только ты ему мила
(«Не оплакано былое...») [Клюев 1999, 120].
Немифологический вариант отплытия представлен и в стихотворении «Плещут холодные волны» (1905?), которое посвящено погибшему за отчизну молодому матросу и которое представляет собой парафразирование известной песни «Варяг» на слова Я. Репнинского, посвященной гибели крейсера «Варяг» в начале 1904 г. во время русско-японской войны. Клюев использует тот же ритмический размер, что и в «Варяге» - трехстопный дактиль с усеченной третьей стопой. Но образно-мотивная структура ме-
няется.
Мотив любви к отчизне героев «Варяга», павших «за русскую честь», дополняется у Клюев мотивом напрасно загубленной молодой жизни: «Мертвым сегодня в пучину / Брошен матрос молодой»; «братской замучен рукою»; «много у бедной отчизны / Павших невинно детей» [Клюев 1999, 83]. Традиционные для литературы того времени символические образы «гневного отчаяния» волн, моря, которое «бурю сулит впереди», наполнены социальным содержанием и связаны с событиями Первой русской революции.
Отметим, что у Клюева есть и более позднее, очень близкое по социальной тематике, системе мотивов и образов, трехсложной ритмике стихотворение «Матрос», которое исследователи условно относят к 1918 г. Герой стихотворения «замучен за дело святое», убит «своим же собратом», «казнен на родном корабле» [Клюев 1999, 388]. Центральным становится мотив социального мщения.
С гибелью крейсера «Варяг» соотносят и известное стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...». И хотя никаких прямых отсылок к этому историческому событию у Блока нет, но косвенно на него указывают образы кораблей, ушедших в море, мотивы чужого края и сюжетообразующий мотив молитвы о тех, кто «не придет назад».
Образ корабля является ключевым А. Блока в незаконченной поэме «Ее прибытие», которая должна была отразить несбывшиеся надежды, связанные с Первой русской революцией. В отличие от Клюева, корабль и в поэме, и в других стихотворениях Блока, например, в «Барка жизни встала», с одной стороны, конкретизирован с помощью предметных деталей (руль, парус, багор, красная корма, рабочие), а с другой - смысловая семантика корабля имеет неясный символистский характер. Голубые корабли в поэме Блока - это сказочные феи, они несут заморские тайны. У Блока также присутствует образ «дали неизведанной земли» как некий аналог блаженной страны. Но герой Блока не следует в путь за мечтой, а только ждет «ее прибытия»: «корабли идут», «корабли приходят» [Блок, I960, 54-55], но миры лирического героя и рабочих на рейде, матросов не сливаются.
Мотиву отплытия в поэзии Н. Клюева также сопутствуют образы корабля, баркаса, челна, шлюпки, ладьи, моря, пловца, кормчего, «желанных берегов» («Мы любим то, чему названья нет», 1907), «желанной суши» («Я говорил тебе о Боге», 1908), которые, с одной стороны, отсылают к народной социальной утопии и мифопредставлениям, а с другой, имеют литературные источники - не только знаменитое стихотворение Н.М. Языкова «Пловец» (1829), но и поэзию А.А. Блока 1900-х гг:
Я тосковал о райских кринах, О берегах иной земли,

Где в светло дремлющих заливах
Блуждают сонно корабли
(«Я говорил тебе о Боге», 1908) [Клюев 1999, 97].
В стихотворении Языкова, более известном по первой строчке «Нелюдимо наше море» (1829), жизнь человека представлена как странствие по житейскому бурному морю, поиск смысла существования. Лирический герой готов к испытаниям, к борьбе со стихией. Его воодушевляет чувство единства с «братьями» и сам он вдохновляет их. Дважды повторяется призыв: «Смело, братья!»:
Будет буря: мы поспорим И помужествуем с ней.
Целью устремления героя является «блаженная страна» «за далью непогоды», куда волны выносят «только сильного душой» [Языков 1934, 363].
Религиозно-мифологическая символика, романтические порывы героя Языкова, пушкинский образ стихии как символа свободы оказались созвучными умонастроению Н. Клюева 1900-х гг. В стихотворении с «языковским» заглавием «Пловец» (1908) и с образом «материка Земли, пловцу обетованной» Клюев акцентирует религиозную составляющую мотива плавания по житейскому морю:
В страну пророков и царей
Я челн измученный направил
И на безбрежности морей
Творца всевидящего славил [Клюев 1999, 97].
Образ «измученного челна» отсылает нас и к более позднему стихотворению Н. Языкова (1930) «Водопад», опубликованному впервые в «Литературной газете» с названием «Пловец». Его герой устал бороться с «быстриною» течения реки и сдался:
Мирно гибели послушный,
Убрал он свое весло;
Он потупил равнодушно
Безнадежное чело;
Он глядит спокойным оком...
И к пучине волн и скал Роковым своим потоком Водопад его помчал [Языков 1934, 354].
Герой стихотворения Клюева уповает на «благостную» руку Господа, который может развеять «сумрак непогодный», обретает твердость духа

и ждет встречи с дивным краем «нерукотворных городов» [Клюев 1999, 108].
Не случайно стихотворение Клюева с «языковским» заглавием посвящено А. Блоку как знак надежды «на материк Земли, пловцу обетованной» [Клюев 1999, 97], как опровержение блоковской «скептической антитезы».
Весной 1909 г. Клюев, живший тогда на родине в вытегорской деревне Желвачево, отправил А. Блоку письмо, к которому приложил три стихотворения. Выбор их не случаен. Стихотворения «Поэт» и «Путь надмирный освещая» раскрывают тему предназначения художника, его трагического пути и веры в «кущи рая впереди» [Клюев 1999, 117],
Третье стихотворение «Предчувствие» посвящено Е.Д. - Елене Добролюбовой, сестре поэта-символиста Александра Добролюбова, которая принимала участие в революционных событиях 1905 г. «В дни потерь и большого унынья» Клюев вспоминает о революционной буре:
Бился парус... Стремительно шлюпка Рассекала бушуюший вал...
Мы с тобою, как вещие маги,
Прозревали миры впереди [Клюев 1999, 116].
Образ легкой шлюпки, бьющейся среди бушующих волн, в данном случае противопоставлен большому кораблю и соотносится с мотивом предчувствия поражения, гибели адресата дружеского послания, судьба которого была неизвестна автору стихотворения.
О взаимоотношениях Н.А. Клюева и А.А. Блока и их поэтических перекличках написано немало, и семантика мотива отплытия и образ корабля - еще одно доказательство их взаимного творческого притяжения.
В мировом фольклоре и литературе образ корабля (лодьи / ладьи) изначально связан с погребальной семантикой и является средством перемещения в другой мир [Тресиддер 1999, 198]. В большинстве стихотворений Клюева посмертное пространство связано с образом рая.
В «радужной ладье» к «лучезарным райским рекам» поплывут души героев Клюева, тех, кто живет в «чудном храме» природы («О, поспешите, братья к нам») [Клюев 1999, 158].
В стихотворении Клюева «Ель мне подала лапу, береза серьгу» (между 1914 и 1916 г.) образ «небесного баркаса», который ждет попутного ветра, чтобы умчать лирического героя по Господнему морю, также опредмечен: «натянуты снасти, скрипят якоря», «белокрылый матрос» убирает сходни, но «кобылица душа» лирического героя еще жаждет «пива Жизни» в мире русской природы [Клюев 1999, 253]. «Бессмертья ладья» в затоне является венцом жизни жителя избяной Руси («В васильковое утро белее рубаха, 1919).
Образно-семантическим контрастом этого стихотворения является инвектива Н. Клюева 1918 г. «Пусть черен дым кровавых мятежей...», вхо-196

дящая в цикл «Из “Красной газеты”», обличающий старый сопротивляющийся буржуазный мир:
Вы изгрызли душу народа,
Загадили светлый Божий сад, Не будет ни ладьи, ни парохода
Для отплытья вашего в гнойный ад [Клюев 1999, 378-379].
Пароход как сниженный синоним мифологической ладьи и ад вместо рая усиливают отрицательный эффект обличения.
Символический мотив ухода / отплытия в поэзии Н. Клюева соотносится с мотивом отлета, который станет сквозным в его творчестве 1920-х гг.
В ряде стихотворений 1900-х гг. значение отлета не выходит за рамки словарного - это осенний перелет птиц и связанные с этим явлением природные приметы: ««отлетят лебединые зори» («Дремны плески вечернего звона», 1908, 1912), отлеты журавлей» («Мы любим то, чему названья нет», 1907), «потянулися с криком в отлет журавли» («Темным зовам не верит душа», 1910). Но в последних двух стихотворениях семантика отлета усложняется, «отлеты журавлей» даны в перечислительном ряду природных примет, которые учат «прозревать неведомое», соотносятся с образом души, которая «не летит встречу призракам ночи» [Клюев 1999, 88, 131].
Картина лунной осени и «вздохов о былом» в начале стихотворения «Темным зовам не верит душа»:
Потянулися с криком в отлет
Журавли над потусклой равниной... - сменяется пейзажем души и образом прекрасного грядущего, к которому устремлены герой и героиня, готовая, «как белое крыло», «отлететь на юг» [Клюев 1999, 131]. В стихотворении «В разлуке» (1909) отлет также имеет схожее переносное значение: лирический герой провидит «...вдали наших крыльев удачу / Долететь сквозь туман до желанной земли. / Неис-четны, дитя, буйнокрылые рати / В путь отлетный готовых собратьев-орлов» [Клюев 1999, 88, 121]. «Желанная земля» предстает здесь как образ счастливого грядущего.
Мотив отлета раскрывается в поэзии Н. Клюева и в традиционном религиозном аспекте как путь в рай. В цикле «Избяные песни» рай описан в традициях народного православия, в котором сочетаются христианские и мифологические представления. Журавли уносят душу умершей матери «за моря, / Где солнцеву зыбку качает заря», где «креститель Иван с ендовы расписной их поит живой иорданской водой!..» [Клюев 1999, 232]. Образ моря соединяет понятия отлета и отплытия.
Ночная, казалось бы, неказистая деревня с темными избенками в сти-
хотворении «Прохожу ночной деревней» (1912) хранит память о самоцветном пере «отлетевшей жаро-птицы», и лирический субъект стихотворения ощущает эту сказочную древнюю явь, аналог утерянного рая.
В 1910-е гг. основой художественной концепции бытия Н. Клюева является идея единства человеческого и природного мира. В конкретных осязаемых картинах русского пейзажа и крестьянского быта раскрываются «преисподние глуби», сокровенная сущность природы, божественная благодать: «Рыжее жнивье - как книга, борозды - древняя вязь» [Клюев 1999, 260]. Библия природы уподобляется Книге Бытия.
Мифопоэтические идеи всеединства накладывают отпечаток и на образный строй мотива ухода / отплытия, отлета в горний мир.
В стихотворении «У розвальней - норов, в телеге же - ум» из цикла Земля и железо» (1916) каурый конь является прообразом всевышних крылатых коней, а хлев смотрится ковчегом, который «под парусом ясным, как тундровый снег» в свой срок умчит и лирического героя, и смиренного конягу, вздыхающего, как грешный мытарь, о лугах «Отче и Царя» и мечтающего напиться небесной волны» [Клюев 1999, 294].
Полисемантизм отлета, его сближение и расхождение со содержанием концепта отплытие в полной мере раскрываются в стихотворении «Вы деньки мои, белые голуби» (между 1914 и 1916 г). Оно представляет собой характерный пример уже сложившейся клюевской поэтики. Не ставя целью дать имманентный анализ текста, большинство образов которого многослойно, рассмотрим мотив отлета. Он развивается в двух взаимообусловленных аспектах - ощущение уходящего времени, чувство быстротекущей, улетающей жизни и предчувствие возможного исчезновения, отлета русского сада духовного и природного бытия:
Вы, деньки мои - голуби белые, А часы - запоздалые зяблики, Вы почто отлетать собираетесь, Оставляете сад мой пустынею? [Клюев 1999, 245].
Как известно, белый голубь в христианстве является символом Святого духа, и в этом значении он неоднократно упоминается Клюевым. Образы отлетающих белых голубей и пустынного сада в стихотворении - свидетельство тревоги лирического героя за судьбу русской духовной и природной жизни В двадцатые годы мотив разрушения традиционного русского уклада, духовной порчи станет лейтмотивом его творчества.
В стихотворениях Клюева, написанных во время Первой мировой войны, мотив отлета раскрывается как вознесение душ погибших воинов в Царствие небесное («Поминный причет»),
В народных социальных утопиях и литературе иной мир имеет не только временное, но и пространственное значение: «Там за далью непогоды есть блаженная страна» [Языков 1934, 368].
В творчестве Клюева другой мир имеет и пространственные и времен- ные координаты. Это и мир Царя небесного, и пространство природной благодати, и земное бытие после Преображения.
1917 г. сначала был воспринят Клюевым как революционное Преображение, при этом оно осмысливается как «всемирного солнца восход» [Клюев 1999, 429], как процесс, лишь начатый Красной Пасхой революции, отплытие к чаемой земле. В стихотворениях революционных лет мы наблюдаем изменение внутреннего смыслового наполнения мотива отплытия / отлета: это уже не перемещение души в иной мир, не эвфемизм умирания и загробного путешествия, а метафорическое обозначение движения в новую эпоху, царство социальной справедливости:
Мы - кормчие мира, мы - боги и дети, В пурпурный Октябрь повернули рули» («Солнце осьмнадцатого года) [Клюев 1999, 385].
Подобные образы были частотными для поэзии первых лет революции. Вспомним известные строчки стихотворения «Сумерки свободы» О. Мандельштама:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля [Мандельштам 1990, 122-123].
В. Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» также характеризует революцию как поворот «колеса рулевого».
В стихотворении «Медный кит» (1918) у Клюева вновь появляются образы матросов, но уже не как жертв, а как победителей: «Матросская песня канонов победней» [Клюев 1999, 395].
Отрывок, посвященный матросам, близок по патетической тональности, образности, гиперболизации стихотворению В. Кириллова «Матросам», с которым Н. Клюев тесно общался в это время.
Персонажи Кириллова:
Герои, скитальцы морей, альбатросы.
Застольные гости громовых пиров.
Орлиное племя, матросы, матросы, Вам песнь огневая рубиновых слов [Октябрь в советской поэзии 1967, 134].
Клюев повторяет в первой строке цитату из стихотворения Кириллова:
Матросы, матросы, матросы, матросы -Соленое слово, в нем глубь и коралл; Мы родим моря, золотые утесы,
Где гаги - слова для ловцов-Калевал. [Клюев 1999, 394].
Его лирический герой объединяет себя с матросами, выступая и от их лица, и от всего народа. Если в начале текста лирический герой говорит от своего имени: «Я верю...», то в финале появляется «мы» как олицетворение народной России:
Нас вывезет к солнцу во Славе и Духе
Наядообразный, пылающий кит [Клюев 1999, 394].
Революция в тот короткий период воспринимается Клюевым как колыхание мифологического кита. По славянским поверьям, «кит-рыба - прародитель всех рыб, всем рыбам мать. Он держит на себе Землю. Когда же повернется, тогда Мать-Земля всколыхнется. Когда кит-рыба уплывет, то конец белому свету настанет» [Персонажи славянской мифологии 1993, 89].
Клюев сочетает мифологию с православной риторикой: «пылающий кит» не уплывает от земли, а везет ее «к солнцу во Славе и Духе», начиная, тем самым, новый виток жизни. Мотив отплытия сливается с мотивом отлета.
Центральными в творчестве Клюева периода революции были темы Преображения мира, единства мировой жизни и культуры:
Русь течет к великой Пирамиде
В Вавилон, в сады Семирамиды. [Клюев 1999, 408].
Он прославляет «лик коммуны и русской судьбы» [Клюев 1999, 504].
Но пройдет совсем немного времени, и появятся сомнения, ощущение, что его идеалы новой Святой избяной Руси не совпадают с ходом истории: «На ущербе красные дни, наступают геенские серные» [Клюев 1999, 414]. Однако в первые пореволюционные годы у Клюева еще сохраняются вера в спасение Руси.
В цикле «Ленин», помещенном во второй книге «Песнослова» (1919), в девятом стихотворении «Воздушный корабль», название которого отсылает к М.Ю. Лермонтову, возникает образ воздушного корабля, «где на парусе “Огненный лик”». Этот образ одновременно является знаком Михаила Архангела и «путеводным» ликом вождя.
Герой слышит «гомон отлетных цапль, лебединый хрустальный крик». Образы осенней природы и улетающих птиц проецируются на мотив отхода от истинной, по Клюеву, цели Октября, которому поэт «под Смольным стихами трубил» [Клюев 1919, 246].
Уплывает в родимый туман Мой корабль - буревые стихи.
Только с паруса Ленина лик
С укоризной на Смольный глядит,
Где брошюрное море на миг Потревожил поэзии кит [Клюев 1919, 247].
Мифологический кит превращается в образ-символ поэзии, сужается до метонимии и образ корабля, переполненного стихами. Он символизирует уже не историческое движение, а уход поэта «в родимый туман», возвращение в лоно матери-Руси.
В тексте явлен зародыш конфликта поэта и новой власти:
Я под Смольным стихами трубил, Но рубиново-красный солдат Белой нежности чайку убил Пулеметно-суровым «назад» [Клюев 1999, 247].
В контексте дальнейшего творчества Клюева двадцатых годов «лебединый хрустальный крик» также вписывается в тему отлета клюевской Руси.
Во второй редакции стихотворения (1923) мотив сомнений не так явно выражен, он проявляется лишь в образе отзвеневших строк. Клюев в начале 1920-х гг. возлагал надежды на Ленина как вождя Руси преображенной, порывающей со «злосмрадной» антиприродной буржуазной цивилизацией. Когда после исключения Клюева из партии за религиозные убеждения его имя исчезает из петрозаводской губернской печати и появляются первые политические обвинения в адрес поэта, а у него самого возникают сомнения и тревожные вопросы: «Где же свобода в венке из барбариса и Равенство - королевич прекрасный?» [Клюев 1999, 422] - он напишет второй вариант стихотворения, возможно, надеясь на милость вождя.
Как известно, поэт переплел десять стихотворений цикла «Ленин» из второй книги «Песнослова» (1919) и в конце декабря 1921 г. через своего близкого друга Н.И. Архипова, делегата Всероссийского съезда Советов, передал этот самодельный сборник Н.К. Крупской.
Во втором варианте Клюев снимает «лермонтовское» название. В оглавлении стихотворение названо по первой строчке «Я построил воздушный корабль», возможно, из-за возникающей ассоциации героя с образом одинокого императора. Клюев также убирает из текста мотив противостояния власти и поэзии и делает акцент на образе Ленина как носителе идеи Преображения:
Только с паруса Ленина лик
Путеводно в межстрочья глядит, Где взыграл, как зарница, на миг Песнобрюхий лазоревый кит [Клюев 1924, 21].
Но образ мига указывает, что Красная Пасха для поэта в большей степени уже в прошлом.
Свидетельством идейного кризиса Клюева стал сборник «Львиный хлеб» (1922). Поэт осознает конфликт крестьянской Руси с революцией. Революционная Россия, которая воспринималась им как «Матерь Света» (381), становится «красным содомом», Россия - «белая Индия» - «обезглавленной Россией» (Вороньи песни») [Клюев 1999, 445]. Это приводит к изменению образной системы поэзии Клюева. Меняются и коннотации мотивов ухода (отплытия / отлета), которые станут частью его трагического эпоса, «золотой русской болью» об «отлетающей Руси» [Клюев 1999, 523].
Мотивы отлета / отплытия, исконной России в вечность, исчезновения Руси-Китежа, превращения поддонной глубинной Руси в подменную становятся лейтмотивными в его творчестве второй половины 1920-х -1930-х гг: «Отлетает Русь, отлетает» (Не буду писать от сердца», 1925) [Клюев 1999, 543]; «Отлетела лебедь-Россия / в безбольные тихие воды» (Наша русская правда загибла», 1928) [Клюев 1999, 544].
В поэме «Погорельщина» мотив отлета / отплытия в «нерукотворную. Россию» становится сюжетообразующим. Старцы Зосима и Савватий возносятся в ладье с огненным парусом, «с иконы ускакал Егорий», души же икон «вздымались в горнюю Россию» [Клюев 1999, 684]. Погибает северная деревня Великий Сиг. Ее смерть является символом гибели России:
Так погибал Великий Сиг Заставкою из древних книг, Где Стратилатом на коне Душа России вся в огне, Летит ко граду, чьи врата Под знаком чаши и креста [Клюев 1999, 688].
Олицетворением надежды является образ Лидды, «города белых цветов» на Индийском помории. Это клюевский вариант Китежа. Образ нетленной красоты вселяет надежду на будущее возрождение Руси под покровительством Богородицы:
Где ты, город-розан, Волжская береза, Лебединый крик И ордой иссечен, Осиянно вечен
Материнский Лик?! [Клюев 1999, 695].
Мотив ухода, отлета как преждевременной гибели или отрицания неправедной действительности в поэзии Н. Клюева 1920-х гг. соотносится с судьбой лирического героя.
В «Плаче о Сергее Есенине» (1926) Клюев осмысливает гибель Есенина в контексте собственной участи:
Мы свое отбаяли до срока -Журавли, застигнутые вьюгой. Нам в отлет на родине далекой Снежный бор звенит своей кольчугой [Клюев 1999, 653].
В «Песне о Великой Матери» (1929-1934) есенинский мотив «отчалившей Руссии» воплощается в истории деда, умирающего от тоски по Святой Руси и отплывающего к ней в вечность:
Приземную оставя клеть,
Отчалю в Русь в ладье сосновой, Чтобы с волною солодовой
Пристать к лебяжьим островам... [Клюев 1999, 791].
Летом 1934 г. в нарымской ссылке Клюев напишет поэму «Кремль», «роковое мое произведение», написанное «сердечной кровью», как признавался поэт в письме А. Кравченко, надеясь на публикацию поэмы [Кравченко 2008, 7-8].
«Кремль» - сложное, многослойное произведение. С одной стороны, это покаянная поэма, написанная с целью гражданской реабилитации автора, с другой стороны, это трагическая исповедь поэта, ломающего себя, научившегося «быть железным» [Кравченко, Михайлов 2006, 208].
Кремль как главный герой произведения - это сакральный образ, символ русского государства, святыня православной державы. В поэме переплетаются одические и лирические интонации. Как отмечают первые исследователи поэмы, «сердечные признания поэта носят по преимуществу характер его самоопределений по отношению к власти <...>, но вместе с тем он не забывает о глубине других своих откровений» [Михайлов, Кравченко 2008, 56]. Поэма покаяния воспринимается и как поэтическое завещание Клюева: «художник стремится определить свое место среди поэтов-современников, обозначить масштабность собственного творчества» [Изотова 2008, 191].
Две центральные темы заявлены в самом начале поэмы - прославление «седого Кремля» как воплощение воли истории и величественного настоящего:
Кремль озаренный, вновь и снова, К тебе летит беркутом слово», - и уход от избяной Руси: «Я разлюбил избу под елью» [Кравченко, Михайлов 2006, 203].
Уход осмыслен как отплытие к новому жизненному берегу. Поэт выражает надежду, что его стихи-напевы «заплывут Кремлю в ладони». Дважды повторяется метафорическое сравнение «мои стихи - плоты на Каме»
[Кравченко, Михайлов 2006, 203, 222]. Как и в стихах первых пореволю-ционых лет, возникает образ «могучего кормчего у руля»:
Мои стихи - полесный плот.
Он не в бездомное отчален, А к берегам, где кормчим Сталин Пучину за собой ведет
И бурями повелевает... [Кравченко, Михайлов 2006, 223].
А в финальных строках поэмы и сам герой, «отчаливший» от зимы к маю «склоняет сердце» перед «Кремлем - могучим братом: «Прости иль умереть вели!» [Кравченко, Михайлов 2006, 223].
Мотив отчаливания / отплытия к новой социальной реальности впервые осмысливается Клюевым не как путь в будущее, а как путь в настоящее.
Но надежды поэта не сбылись. Поэма не дошла до адресата и не была напечатана.
В последнем известном нам пророческом стихотворении «Есть две страны: одна - больница», присланном Клюевым из томской ссылки в 1937 г. незадолго до гибели, завершается мотив ухода - отлета души героя в горний мир:
«Приди, дитя мое, приди!» -Запела лютня неземная, И сердце птичкой из груди Перепорхнуло в кущи рая [Клюев 1999, 632].
Таким образом, можно выделить несколько смысловых доминант в семантике мотивов отплытия / отлета в поэзии Н. Клюева: переход души лирического героя в иную реальность; загробное путешествие; движение России и ее народа в «красное будущее», то есть в иную социальную действительность, наступившую после Октябрьской революции; уход «избяной Руси» в прошлое, обусловленный неизбежным распадом исконного крестьянского уклада жизни. Образно-смысловое наполнение мотивов отлета / отплытия (воздушный корабль, ладья, волшебные «лебяжьи острова», рыба-кит, жар-птица и т.д.) обусловлены мифопоэтическим видением мира, свойственным поэту и основанном на народном православии, русской и общеевропейской фольклорной традиции. Активность данных мотивов и их присутствие как в ранних, так и в поздних произведениях Клюева связаны с его верой в природное бытие и единство человека с ним, с отрицанием «железной» цивилизации, с его утопически-прекрасным восприятием традиционного крестьянского быта с позиции «избяной Руси».
Список литературы Мотивы отплытия / отлета в поэзии Н.А. Клюева
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 2. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. 472 с.
- Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы ХХ века. М.: Наука; Восточная литература, 1993. 304 с.
- Гаспаров М.Л. Художественный мир М. Кузмина: тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995. С. 275-285.
- Изотова Я.П. Риторический ореол лирического «я» в поэме Н. Клюева «Кремль» // Нарымская поэма Н. Клюева «Кремль»: интерпретации и контекст: Сборник статей / ред.-сост. В.А. Доманский. Томск: Томский государственный университет, 2008. С. 190-197.
- Клюев Н.А. Ленин. Л.: Ленинградское отделение госиздательства, 1924. 47 с.
- Клюев Н.А. Песнослов. Книга вторая. Пг.: Литературно-издательский отдел народного комиссариата по просвещению. 1919. 250 с.
- Клюев Н.А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1999. 1072 с.
- Комарович В.Л. Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд. Труды отдела древней литературы / отв. ред. А.С. Орлов. М.; Л.: Издательство АН СССР. 189 с.
- Кравченко Т. А. Поэма Н. Клюева «Кремль» в моем семейном архиве // На-рымская поэма Н. Клюева «Кремль»: интерпретации и контекст: Сборник статей / ред.-сост. В.А. Доманский. Томск: Томский государственный университет, 2008. С. 3-8.
- Кравченко Т.А., Михайлов А.И. Наследие комет: неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре. М.; Томск: Территория, 2006. 304 с.
- Криничная Н.А. Легенды о невидимом граде Китеже: мифологема взыскания сокровенного града в фольклорной и литературной прозе // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 4. Петрозаводск, 2005. С. 53-66.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. 638 с.
- Михайлов А.И., Кравченко Т. А. Итоговая поэма Николая Клюева // На-рымская поэма Н. Клюева «Кремль»: интерпретации и контекст: Сборник статей / ред.-сост. В.А. Доманский. Томск: Томский государственный университет, 2008. С. 51-64.
- Октябрь в советской поэзии / сост. И.В. Кудрова, Л.А. Плоткин. Л.: Советский писатель, 1967. 606 с.
- Персонажи славянской мифологии / сост. А.А. Кононенко, С.А. Кононен-ко. Киев: Корсар, 1993. 224 с.
- Пономарева Т.А. Художественный мир новокрестьянской литературы. М.: МПГУ, 2017. 184 с.
- Силантьев И.В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 296 с.
- Силантьев И.В., Тюпа В.И., Шатин Ю.В. Мотивный анализ: учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2004. 240 с.
- Солнцева Н.М. Новокрестьянские поэты // Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты поэтов: в 2 т. Т. 1. / Ред.-сост. А.Г. Гачева, С.Г. Семенова. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 5-49.
- Субботин С.И. Николай Клюев // Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты поэтов: в 2 т. Т. 1. / Ред.-сост. А.Г. Гачева, С.Г. Семенова. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 50-99.
- Тресиддер Д. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 199. 448 с.
- Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.; Л.: Асаdemia, 1934. 973 с.