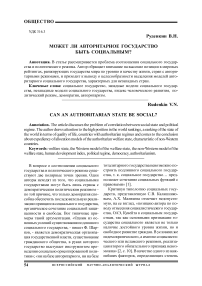Может ли авторитарное государство быть социальным?
Автор: Руденкин В.Н.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Общество
Статья в выпуске: 1 (38), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема соотношения социального государства и политического режима. Автор обращает внимание на высокие позиции в мировых рейтингах, ранжирующих государства мира по уровню и качеству жизни, стран с авторитарными режимами, и приходит к выводу о целесообразности выделения моделей авторитарного социального государства, характерных для незападных стран.
Социальное государство, западные модели социального государства, незападные модели социального государства, индекс человеческого развития, политический режим, демократия, авторитаризм
Короткий адрес: https://sciup.org/142226631
IDR: 142226631 | УДК: 316.3
Текст научной статьи Может ли авторитарное государство быть социальным?
В вопросе о соотношении социального государства и политического режима существуют две полярные точки зрения. Одни авторы исходят из того, что социальными государствами могут быть лишь страны с демократическим политическим режимом – по той причине, что только демократия способна обеспечить последовательную реализацию принципов социального государства, органическое сочетание социальной защищенности и свободы. Вот типичные примеры такой аргументации. «Одним из основных условий существования подлинного социального государства, - пишет Ф. Шарков, - является демократическая организация государственной власти, существование гражданского общества, в руках которого государство выступает инструментом проведения социально ориентированной политики»; «ни на базе авторитарного, ни на базе тоталитарного государства невозможно построить подлинного социального государства, т. к. социальное государство… предполагает сочетание социальных функций с правовыми» [1].
Критикуя типологию социальных государств, представленную С.В. Калашниковым, А.Х. Маликова отмечает недопустимую, на ее взгляд, «позицию автора по поводу отнесения социалистического государства, ОАЭ, Кувейта к социальным государствам, так как основными признаками государства социального является не только наличие достойного уровня жизни, но и свободное развитие граждан. В условиях же недемократического, а именно социалистического или исламского режимов, реализация второго обязательного признака невозможна» [2, с. 10]. В качестве одного из важнейших факторов, определяющих степень социальности государства, А.Х. Маликова называет «присутствие сильных демократических институтов» [2, с. 12]. Признавая способность фашистских, социалистических и исламских государств (в частности Кувейта и ОАЭ) обеспечить своим гражданам высокий уровень жизни, автор в то же время решительно возражает против отнесения этих государств к категории социальных – по той причине, что «реализация такого требования социального государства, как свободное развитие всех без исключения граждан, в них невозможна. В данном случае социальная деятельность государства выступает просто как один их приемов сохранения существующего антидемократического режима» [2, с. 12].
Сторонники второй точки зрения полагают, что «не политический режим является главным фактором в отнесении того или иного государства к социальному, а нечто другое, и это нечто связано с самим понятием социального государства (государства благосостояния), ясного определения которого на данный момент нет» [3, с. 38]; что функция социальной защиты «реализуется всеми государствами мира, только в различных объёмах [3, с. 40], поэтому «социальные государства могут быть и недемократическими, а следовательно, неправовыми» [3, с. 39]; что «социальным может быть любое государство, независимо от его экономической и идеологической сути» [4, с. 383]. Аргументируя свою позицию, они обращают внимание на объективный характер превращения любого государства в социальное на индустриальной стадии развития общества, вынужденного целенаправленно обеспечивать своим гражданам достойный уровень. «Этот процесс, - отмечает О.В. Родионова, - происходит в любом (независимо от типа государства) современном социальном государстве. Таким образом, социальным может быть как демократическое правовое государство, так и тоталитарное. Ярким примером социального государства при наличии тоталитарного государственно-политического режима является СССР. Еще раз ак- центирую внимание читателя: государство может быть неправовым, но в то же время социальным. И это уточнение совершенно необходимо сделать, чтобы внести ясность: в истории имели место не только социально-правовые государства, но и социальнототалитарные государства» [5, с. 28-29].
Вторая точка зрения нам представляется более справедливой в силу двух обстоятельств. Во-первых, вызывает некоторые сомнения оправданность применения концептов «демократия» и «авторитаризм» в контексте проблемы «социальное государство и политический режим» и, как следствие, - недостаточная содержательная определенность некоторых критериев социального государства. Например, что такое «свободное развитие граждан»? И всегда ли оно сочетается с высокими стандартами благосостояния и социальной защищенности?
Во-вторых, обращают на себя внимание высокие позиции в мировых рейтингах, ранжирующих государства мира по уровню и качеству жизни, стран с авторитарными режимами. В связи с этим возникает закономерный вопрос: если реальное проявление сущности социального государства связано «с установлением ответственности государства за обеспечение каждому гражданину достойного уровня жизни» [1], то почему это возможно только в условиях демократического режима и какая тут причинноследственная связь? Ведь в современном мире есть немало государств с авторитарными режимами, демонстрирующих ответственное отношение к своим гражданам в плане обеспечения им достойного уровня жизни.
Возьмем для сравнения два мировых рейтинга - Индекс человеческого развития (ИЧР) стран мира, который составляется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и используется в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека, и Рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских свобод, который составляется международ-
Таблица 1
Представительство стран в Индексе человеческого развития стран мира (ИЧР)-2015
и в Рейтинге стран мира по уровню политических и гражданских свобод-2016
|
Страна |
ИЧР |
Рейтинг Freedom House |
||
|
Место |
Категория |
Место |
Категория |
|
|
Сингапур |
11 |
Очень высокий ИЧР |
127 |
Частично свободная |
|
Катар |
32 |
Очень высокий ИЧР |
159 |
Несвободная |
|
Саудовская Аравия |
39 |
Очень высокий ИЧР |
186 |
Несвободная |
|
Объединенные Арабские Эмираты |
41 |
Очень высокий ИЧР |
170 |
Несвободная |
|
Бахрейн |
45 |
Очень высокий ИЧР |
183 |
Несвободная |
|
Кувейт |
48 |
Очень высокий ИЧР |
144 |
Несвободная |
|
Россия |
50 |
Высокий ИЧР |
167 |
Несвободная |
|
Беларусь |
50 |
Высокий ИЧР |
175 |
Несвободная |
|
Оман |
52 |
Высокий ИЧР |
161 |
Несвободная |
|
Казахстан |
56 |
Высокий ИЧР |
165 |
Несвободная |
|
Ливан |
65 |
Высокий ИЧР |
135 |
Частично свободная |
|
Куба |
67 |
Высокий ИЧР |
180 |
Несвободная |
|
Иран |
69 |
Высокий ИЧР |
176 |
Несвободная |
|
Венесуэла |
71 |
Высокий ИЧР |
147 |
Несвободная |
|
Иордания |
80 |
Высокий ИЧР |
143 |
Несвободная |
|
Тунис |
96 |
Высокий ИЧР |
74 |
Свободная |
|
Сальвадор |
116 |
Средний ИЧР |
88 |
Частично свободная |
|
Ирак |
121 |
Средний ИЧР |
158 |
Несвободная |
|
Микронезия |
123 |
Средний ИЧР |
32 |
Свободная |
|
Гайана |
124 |
Средний ИЧР |
83 |
Свободная |
|
Намибия |
126 |
Средний ИЧР |
79 |
Свободная |
|
Кирибати |
137 |
Средний ИЧР |
40 |
Свободная |
|
Сан-Томе и Принсипи |
143 |
Средний ИЧР |
66 |
Свободная |
|
Кения |
145 |
Низкий ИЧР |
125 |
Частично свободная |
|
Бенин |
166 |
Низкий ИЧР |
64 |
Свободная |
|
Сенегал |
170 |
Низкий ИЧР |
75 |
Свободная |
Источники: Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 17.03.2017).
Рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских свобод [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 19.03.2017).
ной неправительственной организацией Freedom House. В целом оба рейтинга подтверждают общую закономерность: демократические государства занимают ведущие позиции в мире по ИЧР (здоровье и долголетие, доступ к образованию, достойный уровень жизни). В то же время сравнение данных рейтингов показывает, что авторитарный политический режим вовсе не обрекает ту или иную страну на роль аутсайдера по ключевым показателям ИЧР, равно как и демократический политический режим сам по себе еще не гарантирует стране высокого места в ИЧР. Например, в группе стран с очень высоким уровнем ИЧР находятся «частично свободный» Сингапур и «несвободные» Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт; в группе стран с высоким уровнем ИЧР – «несвободные» Беларусь, Россия, Оман, Куба, Иран, Венесуэла, Иордания, Тунис. С другой стороны, «свободные» Микронезия, Гайана, Намибия, Кирибати, Сан-Томе и Принсипи оказались в группе стран со средним уровнем ИЧР, а также «свободные» Бенин и Сенегал и вовсе попали в группу стран с низким уровнем ИЧР (см. таблицу 1).
Приведем в дополнение данные исследования, которое проводится действующим при Колумбийском университете исследовательским центром «Институт Земли» (The Earth Institute) под эгидой ООН в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable Development Solutions Network) с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь. При составлении «рейтинга счастья» учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории, как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость. Исходя из указанных параметров, люди в каждой стране оценивали своё ощущение счастья по специальной шкале. В итоговый рейтинг 2017 года вошли 155 стран и территорий мира [6].
Традиционно и ожидаемо верхние строчки в данном рейтинге заняли развитые страны Запада (в первую десятку, например, вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Швеция). Однако достаточно высокие места в нем заняли и так называемые «несвободные» страны, причем некоторые из них по «уровню счастья» заметно опередили «свободные». Например, «несвободные» Объединенные Арабские Эмираты оказались выше «свободной» Чехии, «несвободный» Сингапур - выше «свободных» Мальты, Франции и Испании, «несвободные» Катар, Саудовская Аравия и Кувейт – выше «свободной» Словакии, «несвободные» Бахрейн и Узбекистан – выше «свободной» Италии, «несвободная» Россия – выше «свободной» Японии и т.д. (см. таблицу 2).
Приведенные данные позволяют сделать как минимум два вывода. Во-первых, развитые демократии Запада продолжают уверенно возглавлять мировые рейтинги, касающиеся важнейших аспектов человеческого развития: продолжительности жизни, доходов и здоровья населения, образования, социальной защищенности. Этому способствуют многие факторы: эффективная рыночная экономика, современное демократическое государство, система социального партнерства, подконтрольность элит обществу, традиции социального компромисса и солидарности и т.д. Благодаря этим факторам практически во всех этих странах было построено социальное государство, усилиями которого поддерживается баланс между принципами экономической эффективности и социальной справедливости. Такое государство оказалось во многом вынужденным ответом на внешние (международная конкуренция, борьба за рынки, глобализация) и внутренние (имущественная поляри-
Таблица 2
«Свободные» и «несвободные» страны в рейтинге стран мира по уровню счастья населения 2014-2016 гг.
World Happiness Report 2017
|
Место |
Страна |
Индекс |
Категория |
|
21 |
Объединенные Арабские Эмираты |
6,648 |
Несвободная |
|
23 |
Чехия |
6,609 |
Свободная |
|
26 |
Сингапур |
6,572 |
Несвободная |
|
27 |
Мальта |
6,527 |
Свободная |
|
31 |
Франция |
6,442 |
Свободная |
|
34 |
Испания |
6,403 |
Свободная |
|
35 |
Катар |
6,375 |
Несвободная |
|
37 |
Саудовская Аравия |
6,344 |
Несвободная |
|
39 |
Кувейт |
6,105 |
Несвободная |
|
40 |
Словакия |
6,098 |
Свободная |
|
41 |
Бахрейн |
6,087 |
Несвободная |
|
47 |
Узбекистан |
5,971 |
Несвободная |
|
48 |
Италия |
5,964 |
Свободная |
|
49 |
Россия |
5,963 |
Несвободная |
|
51 |
Япония |
5,920 |
Свободная |
Источник: Институт Земли: Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2014-2016 гг. [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 20.03.2017).
зация, безработица, высокая смертность, плохие жилищные условия, отсутствие каких-либо мер социальной защиты, обострение классовых противоречий) исторические вызовы, с которыми столкнулся мир в ХХ веке. Как справедливо отмечает О. Александрова, «заставить элиту преодолеть социальный эгоизм и согласиться на содействующее социально-экономическому развитию, а не деградации распределение национального богатства» способно «только чувство опасности, исходящей от внутренних (социальный взрыв) или внешних угроз (начиная с вытеснения с внешних рынков и заканчивая потерей территорий и активов). Внимательный анализ новейшей социальной истории Швеции, Германии, США и Великобритании, символизирующих основные модели социального государства, показывает, что к решительному социальному переустройству эти страны приступали вовсе не во времена, когда у них появлялся лишний “жирок”. А тогда, когда альтернативой перехода к более справедливому социаль- ному порядку оказывались социальные потрясения с непредсказуемыми для элиты последствиями» [7].
Во-вторых, Запад вовсе не обладает монополией на социальное государство. Едва ли корректно примерять к незападным странам западные модели социального государства (формировавшиеся и функционирующие ныне в совершенно отличных от «не-Запада» экономических, политических и социокультурных условиях) и делать на этом основании вывод о «несоциальности» этих стран. Незападные страны, осуществляющие «догоняющую» модернизацию, конечно, используют в этом процессе опыт западных стран, но используют его выборочно, прагматично, с учетом собственных исторических и социокультурных традиций. И, как видим, некоторые из них сумели добиться весьма впечатляющих успехов в деле построения социального государства, о чем свидетельствуют занимаемые ими высокие места в мировых рейтингах. Не случайно поэтому ученые в последнее время отмеча- ют необходимость уделить особое внимание, например, «восточно-азиатским социальным государствам, поскольку долгое время типологии социальных государств вообще рассматривались в рамках Запада» [5, с. 35].
Вот почему, на наш взгляд, правильнее говорить не о наличии или отсутствии социального государства где-либо за пределами западной цивилизации, а о специфике западной и незападной моделей такого государства. Собственно, о таких моделях пишут многие ученые, чаще всего используя термин «модель» во множественном числе: выделяют западные (например, американская, немецкая, шведская) и незападные (японская, южнокорейская, тайваньская) модели социального государства. Например, О.В. Родионова справедливо указывает на то, что «…политические и экономические принципы осуществления регулирования социальной деятельности современных государств напрямую зависят от конкретного культурноисторического типа того или иного государства. …Особенности японских, южнокорейских и тайваньских культурных традиций… обеспечивают самостоятельный тип социального государства, характерный для этого региона» [5, с. 36].
Подобная оценка в равной мере применима и к другим незападным странам – например к монархиям Персидского залива, которые, как отмечалось выше, занимают высокие места в различных рейтингах ООН и других авторитетных организаций. Западные и незападные модели социального государства различаются не только по генезису, но и по типу. Социальное государство в странах Запада формировалось в процессе так называемой «первичной» («органичной») модернизации, в ходе которой традиционное европейское общество постепенно трансформировалось в индустриальное. В незападных же странах строительство социального государства осуществляется в ходе «вторичной» («догоняющей») модернизации, в новых исторических условиях, и предполагает прагматичное использование как опыта других стран, так и собственных социокультурных традиций.
Западные и незападные модели социального государства отличаются также по типу. В странах Запада авторитетным партнером (а нередко оппонентом) государства является гражданское общество, которое не только внесло важный вклад в строительство социального государства, но и остается одним из важнейших гарантов его сохранения и дальнейшего развития. Базовые принципы и механизмы социального государства здесь давно стали неотъемлемой частью общественного консенсуса, и любые попытки посягнуть на социальные завоевания вызывают серьезное противодействие со стороны гражданского общества.
В незападных странах ситуация иная. Инициатором и основной силой социальных преобразований здесь всегда выступало государство. Базовыми ценностями незападных обществ являются приоритет государственного начала, иерархичность, этатизм, патернализм, стремление к гармонии, коллективизм, ориентация на подчинение личности группе. В незападных странах государство является центром экономической, социальной, политической, культурной и духовной жизни. Здесь «гипертрофированную роль по сравнению с обществами другого типа играют государство и религия, функцией которых является централизаторская, цементирующая и унифицирующая роль в обществе… государственными являются религии в 32 странах Востока против 13 в других странах мира» [8, с. 48-49]. Государства незападного типа основаны на принципе «священной справедливости», свобода здесь «не индивидуальна, а коллективна, это свобода народа, которая конструируется коллективно, у народа, соответственно, коллективная судьба, коллективное призвание, нередко или почти всегда - под патронажем власти… государственность является сакрализированной, и она воспроизводится в локальных сообществах как высшая ценность» [8, с. 51].
Однако характерные для незападных стран этатизм, патернализм, авторитаризм и религиозность не являются непреодолимой преградой на пути реализации в них принципов, механизмов и практик социального государства: различие природы западной светской и незападной религиозной моделей государства не исключает возможности иметь общую цель. Например, анализ опыта модернизации Саудовской Аравии показывает, что «саудовское государство иноприродно западной светской модели современного государства при том что у них общая цель: обеспечение условий для развития общества в условиях рыночной экономики» [9]. В таких странах исключительно велика роль общенациональных лидеров. В массовом сознании глубоко укоренен архетип лидера, который по-отечески заботится о своих подданных и по отношению к которому нужно проявлять сыновнюю почтительность. Вот почему здесь преобладают авторитарные режимы, что, впрочем, не мешает многим из них проводить достаточно эффективную социально ориентированную политику – при условии, конечно, что лидеры воспринимают такую политику как эффективный инструмент ус- пешной модернизации страны и повышения ее конкурентоспособности. В качестве примера можно привести королей-реформаторов Саудовской Аравии, которые сознавали, что проведение эффективной социальной политики является первостепенной функцией государства, что социальная сфера – «это не дополнение к успешному экономическому росту… а условие экономического роста» [10, с. 271].
Конечно, незападные страны слишком различны, а потому не случайно мы использовали термин «незападные модели социального государства». Немалый задел в изучении этих моделей уже имеется. Однако в качестве социальных государств, где реализованы соответствующие модели, все же чаще называются страны с демократическим политическим режимом – Япония, Южная Корея, Тайвань. Гораздо реже в качестве социальных государств упоминаются страны с авторитарными режимами. На наш взгляд, это не вполне справедливо. Анализ успешного опыта модернизации и построения социального государства в таких странах может оказаться очень полезным, независимо от возможностей его практического использования в других странах.
Список литературы Может ли авторитарное государство быть социальным?
- Шарков Ф. Социальная основа различных типов государств . URL: http://viperson.ru/articles/feliks-sharkov-sotsialnaya-osnova-razlichnyh-tipov-gosudarstv (дата обращения: 17.03.2017).
- Маликова А.Х. Модели реализации концепции социального государства в мировой практике//Ленинградский юридический журнал. 2011. №4.
- Евстратов А.Э. Социальное государство и политический режим//Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. №4 (41).
- Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учеб. пособие: в 2 т./С.А. Авакьян. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.
- Родионова О.В. Проблемы развития теории и практики современного социального государства//Lex Russica. 2015. № 1.
- Институт Земли: Рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2014-2016 гг. . URL: https://s3.amazonaws.com/sdsn-whr2017/HR17_3-20-17.pdf (дата обращения: 20.03.2017).
- Александрова О. Социальный эгоизм и национальные интересы . U R L: h t t p://w w w. v i p p r e m i e r. r u/a r t i c l e s/o b s h c h e s t v o/sotsialnyyegoizminatsionalnyeinteresy?sphrase_id=153 (Дата обращения: 05.07.2016).
- Воскресенский А.Д. Общие закономерности, региональная специфика и концепция незападной демократии//Сравнительная политика. 2011. №1.
- Яковлев А.И. Модернизация Саудовской Аравии: итоги и перспективы в начале XXI века//Восточная аналитика. 2011. Выпуск 2..
- Попов В. Стратегии экономического развития. М., 2011.