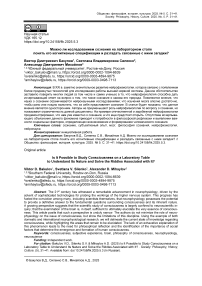Можно ли исследованием сознания на лабораторном столе понять его когнитивные спецификации и разгадать связанные с ними загадки?
Автор: Бакулов В.Д., Силенко С.В., Михайлов А.Д.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В XXI в. заметно значительное развитие нейрофизиологии, которое связано с появлением более продвинутых технологий для исследования работы высшей нервной системы. Данное обстоятельство заставило поверить многих людей (в том числе и самих ученых) в то, что нейрофизиология способна дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое сознание и какова его природа. Появляются мнения, что наука о сознании ограничивается нейронаучными исследованиями; что изучения мозга вполне достаточно, чтобы рано или поздно выяснить, что из себя представляет сознание. В статье будет показано, что данное мнение является односторонним. Авторы не приуменьшают роль нейрофизиологии по вопросу о сознании, но показывают ограниченность данной дисциплины. На примере отечественной и зарубежной нейрофизиологии продемонстрировано, что нам уже известно о сознании, а что еще предстоит открыть. Отсутствие исчерпывающего объяснения данного феномена приводит к потребности в философской рефлексии и выявлении важности социальных факторов, определяющих возникновение и формирование человеческого сознания.
Сознание, субъективный опыт, мозг, философия сознания, нейрофизиология, нейронаука
Короткий адрес: https://sciup.org/149147945
IDR: 149147945 | УДК: 165.12 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.3
Текст научной статьи Можно ли исследованием сознания на лабораторном столе понять его когнитивные спецификации и разгадать связанные с ними загадки?
,
,
,
,
Введение . В апреле 2024 г. в США состоялось беспрецедентное событие: была подписана Нью-Йоркская декларация о наличии сознания у животных1. В Америку прибыли ведущие мировые ученые из разных стран, в том числе нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга Московского государственного университета, академик К.В. Анохин. Данная декларация стала результатом многолетних обсуждений среди ученых. В качестве итоговых были сформулированы три положения, под которыми подписались участники дискуссии:
-
1) существуют убедительные научные основания, свидетельствующие о том, что сознание как субъективный опыт есть у млекопитающих и птиц;
-
2) есть много научных фактов, которые говорят о наличии сознания у всех позвоночных (рыбы, амфибии, рептилии) и у ряда беспозвоночных (некоторые виды насекомых, головоногих моллюсков, ракообразных);
-
3) поскольку существует реальная возможность наличия сознательного опыта у животного, безответственно игнорировать это при принятии влияющих на него решений.
Декларация имеет проблемный характер, ибо несмотря на провозглашение ее научности, нельзя утверждать, что проблема сознания теперь разрешена соответствующим образом, создана научная теория сознания и т. п. Да и в целом, можно ли однозначно утверждать, что наука о сознании ограничивается исключительно нейрофизиологическими или естественнонаучными исследованиями? Более того, отождествление с субъективным опытом лишает сознание ряда его сущностных характеристик: учета социальной природы, феномена самосознания и способности носителя к творчеству.
Любые самые изощренные нейрофизиологические исследования не могут игнорировать тот факт, что сознание не возникает вне социума, а одним из атрибутов последнего является сложившаяся речевая коммуникация между людьми, которой нет у животных. Многие из них, безусловно, имеют субъективный опыт в том смысле, что они ощущают мир определенным образом, однако могут ли животные подвергнуть это рефлексии? Маловероятно. То же самое касается и способности к творчеству. Почему только человек может творить? Потому что он обладает свободой. А откуда берется эта свобода? Она становится возможной еще и потому, что сознание есть система целеполагания и принятия решений, которая позволяет человеку развиваться так, как он посчитает нужным, в отличие от животных, деятельность которых детерминирована врожденной, как, впрочем, и приобретенной (условные рефлексы), программой поведения. Свобода человека – в его возможности действовать и творить по законам красоты или подчиняясь «моральному закону внутри нас» (Кант, 1964), а не только в силу внешней необходимости.
Можно ли называть строго научным подход, который игнорирует эти факты, оставляет неудобные вопросы в стороне и ограничивается изучением только одной, натуралистической стороны сознания, редуцируя его в итоге к субъективному опыту? Концептуальный постулат нашей статьи выражается в том, что социальные факторы оказывают на формирование сознания у человека не менее значимое обусловливающее влияние, чем протекающие в мозге нейрофизиологические процессы. Отсюда следует цель данной исследовательской работы – показать, что наука о сознании не может ограничиваться исключительно нейропредставлениями и полностью ими определяться. Достижение указанной цели требует выполнения ряда задач:
-
1) выявить причины, определившие установку на утверждение исключительности изучения сознания в нейронауке;
-
2) продемонстрировать актуальные данные о сознании в современной отечественной и зарубежной нейрофизиологии;
-
3) показать недостаточность полученных нейронаукой данных для исчерпывающего объяснения сознания.
Условия возникновения нейронаучных исследований о сознании . В 2014 г. всемирно известный французский нейробиолог С. Деан опубликовал монографию «Сознание и мозг: как мозг кодирует мысли» (Деан, 2018), в которой изложил итоги пятнадцатилетней работы, выполненной совместно с коллегами. Исследователь выделил три основных фактора, которые сделали возможным возникновение «науки» о сознании, к которой С. Деан относит только нейрофизиологию и нейробиологию:
-
1) исследование доступа в сознательный опыт;
-
2) проведение экспериментов над этим доступом;
-
3) принятие субъективных отчетов в качестве научных данных (Деан, 2018: 29).
Под доступом в сознательный опыт С. Деан подразумевает переход предсознательного в сознательное, осознание фрагмента информации (Деан, 2018: 31). На человека со всех сторон постоянно обрушиваются десятки разных стимулов, но далеко не все из них достигают сознания.
Его можно сравнить с бутылкой, у которой узкое горлышко: оно очень избирательно по отношению к той информации, которая нас окружает. И в тот момент, когда вы ощущаете что-то или думаете о чем-то, можно говорить о доступе в сознательный опыт.
Ученые научились проводить множество экспериментов с ним, чтобы выяснить его природу и природу сознания. Один из использованных ими методов был назван «моргание внимания». Он состоит в том, чтобы создать краткий период невидимости для субъекта некоторых знаково-символьных конструктов или явлений реальности за счет временного перенасыщения его избирательного внимания. Ход эксперимента выглядит следующим образом. Участников эксперимента сажают перед монитором, на котором в одном и том же месте в большинстве своем появляются цифры, но иногда мелькают и буквы. Задача участника – запомнить их. Первую букву участники фиксировали без проблем. Если вторая шла через полсекунды или позже после, то с ней тоже не возникало сложностей. Но если две буквы сразу сменяли одна другую, участники в большинстве случаев были неспособны воспринять вторую.
Данный эксперимент показывает нам одну простую вещь – пока сознание занято одним стимулом, оно не может одновременно и в той же степени заниматься другим. Отдыхая на природе, вы можете внезапно уйти в себя, в свои размышления, и тогда вы перестанете ощущать аромат леса и тепло от согревающего солнца.
Таких экспериментов множество, но их выполнение и реализация были бы невозможны и бессмысленны, если бы ученые не фиксировали субъективные отчеты участников. «Бихевиористы правы в том, – пишет С. Деан, – что интроспекция как метод является зыбкой почвой для психологической науки, так как, сколько бы данных мы ни собрали, их будет недостаточно для того, чтобы понять, как работает наша голова. Однако в качестве способа оценки интроспекция является идеальной и к тому же единственной платформой, на которой строится наука о сознании; интроспекция представляет важнейшую половину уравнения, а именно, говорит нам о том, что чувствует человек, переживая такой-то и такой-то опыт (даже если его оценка ошибочна). Для того чтобы достичь научного понимания сознания…, нужно выяснить, какие объективные нейробиологические процессы систематически сопутствуют субъективному опыту» (Деан, 2018: 59).
Парадоксальным образом стремление к строго объективному, даже объективистскому подходу, сущностному для нейро- и биофизиологических исследовательских установок, совершенно не исключает того, что мы, как оказывается, не можем обойтись без обращения к субъективному опыту, внутреннему ментальному содержанию, личностно-экзистенциальным смыслам осознающего действительность индивида, без интроспекции.
Что говорит о сознании отечественная нейронаука? В этом плане становится понятным, почему парадоксальным образом Нью-Йоркская декларация на первый план поместила субъективный опыт в качестве предмета нейрофизиологических исследований. Вместе с тем некоторые вопросы – что такое субъективный опыт? как и почему он возникает? как он соотносится с нейрофизиологическими процессами? зачем он нужен и нужен ли? каким живым существам он присущ? – хотя и определяются как самые существенные для понимания природы сознания и экспликации его когнитивных сущностных характеристик, однако своего развернутого содержательного определения в декларации так и не получили.
В нашей стране исследование субъективного опыта началось задолго до того, как стало мейнстримом. Еще в 1984 г. вышла монография «Информационные процессы мозга и психическая деятельность» (Иваницкий и др., 1984), в которой наш отечественный физиолог А.М. Иваницкий вместе с коллегами представил теорию информационного синтеза, призванную объяснить то, как возникает субъективный опыт и зачем он нужен.
Рассматривая пример со зрительной информацией, ученый утверждал, что данные об объектах окружающего мира после зрительной коры переходят в ассоциативную, а именно – в отделы височной коры, играющие важную роль в опознании стимулов. В ней происходит определение форм и цветов объектов (Иваницкий, 2006: 87). После этого нервный импульс попадает в гиппокамп, который отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную. В нем полученная информация соотносится с имеющейся. Из гиппокампа импульс перенаправляется в гипоталамус, который отвечает за эмоции, выработку некоторых гормонов, обмен веществ и деятельность сердечно-сосудистой системы. В нем определяется значимость сигнала. Только после этого информация поступает обратно в зрительную кору, и человек видит предмет, воспринимает его. Для категоризации субъективного опыта подключается лобная кора, ответственная за абстрактное мышление. Она активизируется лишь в том случае, если человек не только созерцает объект, но и называет его или думает о нем.
Таким образом, субъективный опыт представляет собой результат синтеза «наличной информации о физических характеристиках стимула и извлекаемых из памяти сведений о его значимости» (Иваницкий, 1996: 242). Этот круговой процесс совершается приблизительно за 180
миллисекунд – время формирования субъективного опыта после воздействия внешнего раздражителя на органы чувств. Тогда, очевидно, «восприятие включает в себя память» (Иваницкий, 1996: 248). Однако не совсем ясно, как быть с теми объектами, которые мы видим впервые? Может показаться, что такой предмет в принципе не может быть увиден нами, ибо у нас отсутствует информация о нем. Но это, разумеется, не так. Условием формирования субъективного образа является не гиппокамп как таковой, а возвращение нервного импульса обратно туда, откуда он начал свое движение. Роль гиппокампа в данном случае сводится именно к тому, что человек способен быстро и не прилагая никаких сознательных усилий узнавать предмет.
Основная мысль А.М. Иваницкого заключается в том, что перед возникновением субъективного опыта у нас в голове нервные импульсы совершают обратное, круговое движение. В случае со зрением это выглядит так: зрительная кора – ассоциативная кора – гиппокамп – гипоталамус – лобная кора – зрительная кора. В этом положении и заключается основная идея гипотезы информационного синтеза: сопоставление имеющейся в памяти информации об объектах и вновь поступившей от органов чувств является основой для возникновения субъективного опыта.
Однако остается открытым другой вопрос: зачем он нужен? А.М. Иваницкий утверждает, что субъективный опыт играет каузальную роль в поведении человека: «Тот факт, что ощущение соединяет в себе физические параметры стимула с его значимостью, придает ему высокий приспособительный смысл. Субъективный образ становится тем самым важным фактором поведения, указывая на полезность или вредность сигнала» (Иваницкий, 2006: 88).
Более того, субъективный опыт человека не только детерминирует его поведение, но и формирует необходимые для него когнитивные способности для жизни и деятельности в социокультурном континууме: «Возникновение в процессе эволюции речи и связанного с ней человеческого сознания принципиально изменяет возможности мозга как органа управления поведением. Кодирование мира внутренних переживаний в виде абстрактных символов как бы делает доступным этот мир с его мыслями и чувствами для других людей, создавая единое духовное пространство, открытое для общения и накопления знаний. Благодаря этому каждое новое поколение людей живет не так, как предыдущее, что составляет резкий контраст с жизнью животных, образ жизни которых не меняется тысячелетиями» (Иваницкий, 1996: 250).
В современной России одним из самых крупных исследователей сознания в науке является академик К.В. Анохин. Вместе со своими коллегами он не просто проводит различные эксперименты и собирает ценные эмпирические данные, но и разрабатывает один из теоретических подходов, успешно претендующих на то, чтобы представлять собой фундаментальную концепцию сознания, которая призвана объяснить его возникновение и функционирование. Она имеет название «теории нейронных гиперсетей», или «теории когнитома». Несмотря на то, что концепция до сих пор обновляется и видоизменяется на основании получаемых данных, уже сейчас она содержит в себе ряд фундаментальных положений, которые способны пролить свет на особенности мозга и сознания.
Постулатом данной теории выступает положение о том, что мозг человека можно понять, потому что он не только невероятно сложен, но и невероятно прост. Утверждается, что нельзя понять сознание, не выяснив предварительно, что такое разум, а разум нельзя понять, пока не станет ясным, что такое мозг. Для этого необходимо выяснить условия его возникновения. Общие принципы появления и изменения живых организмов уже были сформированы в теории эволюции Ч. Дарвина: 1) борьба за жизнь; 2) изменчивость; 3) наследственность. Все эти три принципа формируют алгоритм, который называется естественным отбором. Результатом его в течение миллионов лет является возникновение разнообразных сложных живых систем (Дарвин, 1937).
В чем сущность теории когнитома? В ней предпринимается попытка дать ответ на вопрос, что такое мозг и что такое разум с позиции их возникновения. И чтобы понять, что именно появилось, теория основывается на законах возникновения. Они также алгоритмичны и просты, как и в теории эволюции.
Базовые принципы (условия) возникновения сознания в мозге:
-
1. Способность живого организма генерировать функциональные системы. В более общем понимании последние представляют собой совокупность элементов единой системы, которые благодаря своей согласованной активности помогают ей достигать определенных целей во взаимодействии с внешней средой – например, добиваться чего-либо или избегать нежелательного. Примером такого рода системы является обширная группа клеток, объединенных общим действием ради выполнения конкретной задачи. В теле человека (или животного) существует множество функциональных систем, каждая из которых может считаться неким мини-Я, когда в зависимости от текущих обстоятельств и потребностей организма активируются разные из них. После этого функциональная система берет под контроль остальные составляющие и координирует деятельность всего организма для достижения конкретной цели.
-
2. Наличие глубокой нервной сети. Последняя охватывает весь живой организм, интегрируя его действия. Глубокая нервная сеть содержит внутри себя слои, которые не связаны напрямую с внешним миром, а функционируют в глубине организма и выполняют работу другого уровня. Именно наличие такой нервной сети позволяет организму генерировать новые функциональные системы, которые не стирают предыдущие, но интегрируются с ними.
-
3. Наличие долговременной памяти. Клетки нервной сети должны уметь запоминать и аккумулировать информацию, чтобы организм мог ее использовать и передавать дальше через генетическую память.
В этом контексте данные теоретические построения стремятся объяснить один из наиболее сложных механизмов деятельности сознания, связанный с разрешением проблемных для его носителя ситуаций: если организм, имеющий все эти три указанных выше компонента, сталкивается с какой-то проблемой в окружающем мире, которая приводит к рассогласованию с имеющимися у него функциональными системами из-за того, что они не способны справиться с этой проблемой, то внутри нервной системы начинается генерация новых функциональных систем, которые смогут ее решить. Результат работы нервной системы способен закрепиться в долговременной памяти клеток и генетически передаться потомкам.
Таким образом, организм в ходе своей жизнедеятельности переходит от одной проблемы к другой, накапливая внутри своей нервной сети новые функциональные системы. Данные процессы теория называет когнитивной прогрессией, потому что в результате работы механизмов памяти происходит усложнение мозга и разума живых существ.
Объяснение процесса возникновения и усложнения мозга позволяет пролить свет на его природу. Обычно мозг представляют в виде гигантской нейронной сети. Согласно данным теоретическим построениям, утверждается, что на максимальном уровне своего существования – том, в котором мозг выступает как причинное целое, он является не просто сетью нейронов, а нейронной гиперсетью, узлы в которой образованы группами узлов нижележащей сети, в данном случае – нейронной. Это своего рода сеть сетей. Такие высокоуровневые узлы начинают обладать качественно новыми свойствами (мотивацией, желаниями, ценностями и т. д.). В мозге они становятся носителями индивидуального опыта целого организма. В соответствии с данной теорией группы нейронов, составляющие узлы такой гиперсети, обозначаются когнитивными группами – когами; а всю гиперсеть, носительницу субъективного опыта субъекта, называют когнитомом (разумом). Смена взглядов на сущность мозга – от нейронной сети (коннектом) к когнитивной (когни-том) – представляет собой парадигмальный сдвиг. Он подобен перемене представлений о ДНК как о химической макромолекуле, наборе нуклетотидов, на ее трактовку как генома, системы биологических элементов – генов. Как изучение ДНК переходит при этом сдвиге из области химии в область биологии, так и мозг в новой парадигме превращается из объекта биологии в объект когнитивной науки, психологии.
В итоге суть гиперсетевой теории мозга (ГСТМ) сводится к трем положениям: а) мозг – это сеть; б) разум – тоже сеть; в) разум представляет собой гиперсеть, то есть сеть, сформированную на основе нейронной сети мозга. Хотя термин «гиперсеть» имеет математическую основу, по сути, он указывает на то, что разум – это надстроенная, высокоуровневая структура мозга. Основное утверждение ГСТМ состоит в том, что разум как макроуровневая структура мозга обладает уникальными элементами, и происходящие в нем процессы нельзя полностью объяснить через нейрофизиологию и нейроанатомию нижнего уровня (Анохин, 2016: 19).
Без разума нет сознания, потому что такой процесс протекает внутри когнитома, когда в какой-то момент одна или несколько когнитивных групп получают доступ ко всему прошлому опыту живого организма, ко всему его «Я». «Сознание согласно этому подходу является особой формой динамики в этой гиперсети – широкомасштабной интеграцией ее когнитивных элементов» (Анохин, 2021: 40).
Здесь мы можем зафиксировать предельно глубокий уровень анализа нейрофизиологической основы когнитивных спецификаций субъекта, позволяющий ответить на многие вопросы, но вместе с тем показывающий предел для нейронаучного объяснения природы и сущности сознания, а тем более его рефлексивных и творчески-когнитивных составляющих.
Каковы актуальные концептуальные идеи о сознании в зарубежной нейронауке? На Западе ключевой работой, вызвавшей интерес к исследованию субъективного опыта, стала статья Т. Нагеля «Каково это – быть летучей мышью?» (Nagel, 1970). В ней ученый отстаивает тезис о невозможности редуктивного объяснения сознания, то есть такого, которое было бы возможно дать с помощью физических терминов. Обладать сознанием или быть сознательным означает для Т. Нагеля то же, что и иметь субъективный опыт, воспринимать мир определенным образом. В качестве доказательства своих слов он приводит в пример летучих мышей, которые обладают сознанием (субъективным опытом), недоступным для человека. Последний не способен понять и объяснить, каково это, воспринимать мир, будучи летучей мышью. Методы эмпатии и экстраполяции не позволяют человеку лучше понять внутренний мир этих созданий в силу отсутствия у него эхолокации. «Таким образом, – говорит Т. Нагель, – размышления о том, на что похоже быть летучей мышью, привели нас к следующему заключению: существуют некие факты, которые не могут быть выражены средствами человеческого языка» (Nagel, 1970: 398).
То же самое касается субъективного опыта не только летучих мышей, но и самого человека. Однако как можно оставить особую точку зрения за пределами объяснения, если субъективный опыт мыслится только с этой позиции? «Если субъективный характер опыта возможно понять с единственной точки зрения, тогда любой сдвиг в сторону большей объективности – то есть меньшей зависимости от определенной точки зрения – не приближает нас к действительной природе данного феномена, а, напротив, удаляет от нее» (Nagel, 1970: 400). Таким образом, Т. Нагелю удалось продемонстрировать уникальный характер проблемы «сознание – тело» и задать вектор исследований сознания, в соответствии с которым ученые трудятся по сей день.
Известный австралийский философ Д. Чалмерс прославился тем, что разделил проблему сознания на «трудную» и «легкую». Впервые он высказал эту идею в 1994 г. в Туссане (Аризона) на конференции «К научной основе сознания». Годом позже он написал об этом в своей статье «Лицом к лицу с проблемой сознания» (Chalmers, 1995).
К числу «легких» проблем Д. Чалмерс относит следующие способности сознания: 1) различать, классифицировать и реагировать на внешние раздражители; 2) интегрировать поступающую информацию; 3) получать доступ к своим внутренним состояниям; 4) фокусировать внимание; 5) контролировать свои действия; 6) видеть различие между бодрствованием и сном.
Эти вопросы Д. Чалмерс считает легкими не потому, что их просто решить, а потому, что большинство можно объяснить, исходя из нейрофизиологических процессов. Все указанные процессы выводимы из физических свойств и функционируют по физическим законам, а потому не представляют серьезной проблемы. Куда сложней, по его мнению, проблема субъективного опыта. Почему вообще он должен существовать? Почему при восприятии мира нейрофизиологические процессы, протекающие у нас в мозге, сопровождаются сознательным опытом? Почему он именно такой, какой он есть? В.В. Васильев формулирует эту проблему так: «Как ментальные состояния в их квалитативном аспекте соотносятся с нейронными процессами и почему они вообще существуют в привязке к этим процессам?» (Васильев, 2009: 33).
В своей работе «Сознающий ум» Д. Чалмерс высказал предположение о том, что решение выходит за рамки онтологии нашего мира, ибо для этого необходимо допустить существование протофеноменальных свойств, из которых возникает феноменальное сознание, и психофизических законов, по которым оно существует (Чалмерс, 2013: 164–165).
Таким образом, вопросы о субъективном опыте приобрели особое значение для европейских ученых. Уже упоминавшийся нами нейробиолог С. Деан в своей работе «Сознание и мозг: как мозг кодирует мысли» представил теорию единого нейронного рабочего пространства. Он определил сознание как трансляцию «единого информационного потока в коре головного мозга: основой этого процесса является нейронная сеть, смысл существования которой сводится к активной передаче актуальной информации в пределах мозга» (Деан, 2018: 22).
Возникновение и функционирование сознания определяются рядом нейрофизиологических процессов, но вот какими именно – это вопрос. В результате многолетних исследований С. Деану удалось дать свой вариант ответа на него и найти несколько таких процессов, которые у него получили название «автографы сознания». Каждый из них – это «маркер, однозначно указывающий на сознательное восприятие стимула» (Деан, 2018: 150). Может показаться, что автограф сознания – это то же самое, что и коррелят сознания, но это не так. «Нужно научиться отличать факторы, – пишет С. Деан, – коррелирующие с наличием сознания, от истинных автографов сознания. Поиск имеющихся в мозге механизмов сознательного опыта нередко описывают как поиск нейронных структур, коррелирующих с сознанием, однако это в корне неверно. Корреляция не равна причине, поэтому одной корреляции ещё недостаточно» (Деан, 2018: 184). Таким образом, автограф сознания представляет собой причину возникновения субъективного опыта, а не просто сопутствующий ему процесс.
Всего С. Деан выделяет четыре автографа сознания, среди них: 1) распространение нейронной активности, особенно во фронтальной и теменной долях; 2) волна Р3; 3) усиление гамма-ритма; 4) обширная массовая синхронизация (Деан, 2018).
Первый автограф – распространение нейронной активности, особенно во фронтальной и теменной долях. Его удалось найти благодаря экспериментам, которые проводили разные ученые, в том числе и сам С. Деан. Он показывал участникам своего исследования замаскированные слова на мониторе. Они демонстрировались в среднем в течение 50 миллисекунд и таким образом находились чуть ниже порога сознательного восприятия. Вследствие этого информация о словах поступала в мозг, но не осознавалась человеком. Участник утверждал, что не видит нужного слова. При бессознательном восприятии слов у всех испытуемых повышалась активность в высших зрительных областях веретенообразной извилины, однако далее эта активность не распространялась. Она оставалась в этом очаге и очень скоро шла на спад. Однако если слово демонстрировалось на экране в течение 100 миллисекунд и более, участники сообщали о том, что видят его на экране. В этот момент нейронная активность участников лавинообразно распространялась из зрительной области в другие, а именно – в префронтальную и теменную доли.
Второй автограф – волна Р3. Его удалось отследить благодаря эксперименту, который проводили С. Деан совместно с К. Сэрджент. Ими исследовался эффект «внимательного моргания», суть которого состоит в том, что, когда человек отвлекается всего на несколько секунд, он теряет способность осознанно воспринимать стимул, находящийся прямо перед глазами. Поэтому слова на экране показывались именно в те моменты, когда внимание испытуемого было переключено на выполнение другой задачи. «В результате участники пропускали слова в половине случаев и говорили, что не видели их. Отследить судьбу увиденных и неувиденных слов позволила запись мозговых волн… Первая реакция зрительной коры во всех случаях была одинакова, однако примерно через 200 миллисекунд ситуация начинала развиваться по-разному в зависимости от того, было слово осознано или нет. Только если участник осознавал слово, волна активности нарастала и достигала префронтальной коры и ряда других ассоциативных областей, а затем возвращалась в зрительные области. Эта обширная активность фиксировалась в верхней части головы как высокое положительное напряжение – волна Р3» (Деан, 2018: 159).
Таким образом, где-то между 200–300 миллисекундами активность мозга спадает, если информация была воспринята бессознательно, и, наоборот, – вырастает и распространяется, если участник ее осознал. Спустя где-то полсекунды снова происходит возбуждение зрительной коры.
Как видим, С. Деан (как и многие другие ученые) не только смог зафиксировать распространение активности спустя 300 миллисекунд, но и обратил внимание на то, что стимул после фронтальной и теменной доли возвращается обратно в зрительную кору. Таким образом, он проходит определенный круг, о чем и писал А.М. Иваницкий. Как отмечает С. Деан, до сих пор точно неизвестно, что означает эта обратная волна, но ученый придерживается позиции, согласно которой повторное возбуждение первичной зрительной коры означает закрепившееся воспоминание о визуальном образе. Данное предположение полностью совпадает с теми выводами, к которым самостоятельно немного раньше пришел А.М. Иваницкий: субъективный опыт представляет собой результат синтеза «наличной информации о физических характеристиках стимула и извлекаемых из памяти сведений о его значимости» (Иваницкий, 1996).
Но как это проверить? На самом деле сделать это довольно просто: нужно показать участнику эксперимента зрительный образ, который можно без труда сознательно воспринять, а после этого с помощью искусственного электрического импульса прервать распространение естественного стимула внутри мозга. В результате такого эксперимента участник должен сказать, что он ничего не видел. Подобные исследования проводились и полностью подтвердили данное предположение. Таким образом, как отмечает С. Деан, «сам по себе изначальный импульс не способен спровоцировать появление сознательного опыта: возникшая активность должна пройти весь путь и вернуться в первичную зрительную кору, и только после этого наступит осознание. Сознание возникает в петле: источником сознательного опыта является вспыхивающая там и сям нейронная активность, циркулирующая по сети наших кортикальных связей» (Деан, 2018: 202).
Аналогичные идеи высказывает нидерландский нейрофизиолог В. Ламм. По его мнению, если две зоны мозга создают замкнутую петлю и обмениваются сигналами, возвращая информацию к ее источнику, этого может быть достаточно для появления сознания. Также В. Ламм полагает, что каждая нейронная петля содержит некую составляющую сознания (Lamme, 2001). Однако С. Деан не разделяет это мнение, так как в мозге существует множество нейронных петель – от совсем маленьких до довольно крупных – и потому трудно допустить, что каждая из них содержит элемент сознания. Он предполагает, что «активность, идущая сначала в одну, а затем в другую сторону, является необходимым, но не достаточным условием для возникновения сознательного опыта. Код сознания возникает лишь в петлях, охватывающих большие расстояния и располагающихся в префронтальной и теменной областях» (Деан, 2018: 203). А.М. Иваницкий, вероятно, добавил бы от себя, что эта петля также обязательно должна проходить через гиппокамп и гипоталамус, благодаря чему любой субъективный опыт соотносится с воспоминаниями и приобретает ценностную окраску.
Третий автограф – усиление гамма-ритма. Мозг бодрствующего человека постоянно выдает колебания, которые бывают трех видов: альфа- (8–13 герц), бета- (13–30 герц) и гамма-ритм
(от 30 герц и выше). С. Деан проводил эксперимент, в котором демонстрировал участникам видимые и невидимые слова (находящиеся ниже порога сознательного восприятия). В каждом из этих случаев он фиксировал повышение активности гамма-ритма. Однако если слово было невидимым для человека, то спустя уже 300 миллисекунд всплеск гамма-ритма угасал, а если видимым – то, наоборот, активность поддерживалась. По этой причине сильный скачок мощности гамма-ритма С. Деан относит к третьему автографу сознания.
Четвертый автограф – обширная массовая синхронизация. Зачем мозг генерирует синхронные колебания? Вероятно, чтобы способствовать передаче информации, – так считает С. Деан. «В нейронных дебрях, что раскинулись в коре головного мозга, разносятся хаотичные сигналы миллионов клеток, и потерять небольшую группу активных нейронов в этой путанице совершенно немудрено. Но если нейроны этой группы зазвучат в унисон, они будут услышаны и передаваемая информация ими информация полетит дальше… По сути, синхронность создает канал для коммуникации между удаленными друг от друга нейронами» (Деан, 2018: 177).
Эта гипотеза подтверждена многочисленными экспериментами и послужила открытием для четвертого автографа сознания – массовой синхронизации электромагнитных сигналов в коре головного мозга. «Синхронность, спровоцированная бессознательно воспринятым изображением, длится недолго и наблюдается только в задней части мозга, то есть там, где происходит не требующая сознания деятельность. Сознательное же восприятие порождает связь между самыми отдалёнными участками мозга и провоцирует активный взаимный обмен сигналами, именуемый мозговой сетью» (Деан, 2018: 177). Эта сеть охватывает удаленные друг от друга участки мозга, а в случае со зрительной информацией – зрительную кору и фронтальную долю.
Обнаруженные С. Деаном и его коллегами четыре автографа сознания легли в основу его теории «глобального нейронного рабочего пространства», которая говорит о том, что «в человеческом мозге, а особенно в префронтальной коре, развились эффективные сети, передающие информацию на большие расстояния. Задача их заключается в том, чтобы отбирать важные данные и распространять их по всем структурам мозга. Сознание же – это развитый инструмент, позволяющий нам фокусировать внимание на некоем фрагменте информации и поддерживать его в активном состоянии в рамках этой передающей системы. Таким образом, «эта глобальная доступность информации и есть то, что мы субъективно ощущаем как наличие сознания» (Деан, 2018: 218). Определение сознания через глобальный доступ информации имеет принципиальное значение, поскольку к такому же выводу пришел К.В. Анохин, разрабатывая свою концепцию.
Исходя из основных положений теории С. Деана, можно вывести три отличительных свойства сознания:
-
1) гибкое распространение информации: удерживает и передает ее в разные отделы мозга;
-
2) глобальная доступность информации: делает актуальные сведения общедоступными;
-
3) синхронность нейронов: «в процессе доступа в сознательный опыт между этими нейронами происходит двусторонний обмен информацией, реализуемый посредством длинных аксонов нейронов рабочего пространства и представляющий собой во многом параллельные попытки создать согласованную синхронную интерпретацию. Когда эти процессы сливаются в один, возникает сознательное восприятие» (Деан, 2018: 230).
Философская рефлексия относительно значения и смысла данных нейронауки о сознании . Какой образ сознания эксплицирует нейронаука в итоге? Несмотря на то, что «наука» о сознании должна иметь своим предметом сознание, на деле оказывается, что большинство исследований вращаются вокруг субъективного опыта, к которому ученые либо редуцируют сознание, либо признают его элементарной формой сознания.
Современная нейронаука утверждает, что необходимым условием возникновения сознания (субъективного опыта) является обратное движение стимула в те отделы мозга, откуда он начал свой путь. Важно, чтобы этот процесс происходил между крупными когнитивными группами нейронов, отвечающими за внимание, волю, память и речь, поскольку это взаимодействие позволяет сознанию приобрести глобальный информационный доступ, благодаря которому мы осознаем свое «Я» и весь наш накопленный опыт.
Таким образом, сознание предварительно можно определить как процесс обмена информацией между разными отделами мозга, который интегрирует и синхронизирует работу нейронов, позволяя создать целостную, активную систему (наше «Я»), обладающую свойствами целеполагания и принятия решений.
Однако нужно помнить, что нейронаука показывает нам лишь одну сторону сознания, видимую благодаря нейрофизиологическим исследованиям. Но не стоит полагать, что этим должна ограничиваться наука о сознании, ибо без философской рефлексии невозможно создать целостное представление о данном феномене.
Дж. Макдауэлл в 1994 г. опубликовал работу «Разум и мир», в которой он выдвинул особую точку зрения на опыт. Ученый утверждал, что «опыт должен пониматься как проявление рацио- нального, а не просто как результат причинного влияния на нас. При восприятии то, что мы получаем, не является просто неструктурированными данными, которые разум должен обработать и концептуализировать, прежде чем сможет сформировать основу для суждения… Содержание восприятия уже является понятийным по своем характеру и, следовательно, подходит для выработки суждения и в качестве основы для убеждения» (McDowell, 1996). Если Дж. Макдауэлл прав, то субъективный опыт человека – это не то же самое, что и субъективный опыт животного, ибо последние не оперируют понятиями и воспринимают мир существенно иначе, нежели мы.
Дж. Макдауэлл отмечает, что ребенок не рождается сразу разумным, но становится таковым по мере усвоения «второй природы» (McDowell, 1996). «Вторая природа» есть природа культурная, социальная, которую человек усваивает по мере того, как развивает способности понятийного мышления. «Овладевая языком, ребенок входит в интеллектуальную культуру или культуры, включая концепции мира, стили мышления и рассуждения, ценности, которые являются эпистемологическими, моральными, эстетическими и т. д.» (McDowell, 1996). Он наследует традицию мысли, «запас исторически аккумулированной мудрости о том, что является причиной чего», и, делая это, становится разумным существом. Таким образом, Дж. Макдауэлл приходит к точке зрения, что «история создает разум» (McDowell, 1996). Вспомним, что нейронаука говорит нам о том, что мозг человека усложнялся в течение многих миллионов лет, пока не сформировал внутри себя новую, высокоуровневую структуру – разум. Однако можно ли объяснить разумность человека исходя исключительно из физических фактов и закономерностей, не учитывая его социальную природу? Ученый считает, что это невозможно, ибо разум человек приобретает исключительно в процессе образования и воспитания.
Конечно, Дж. Макдауэлл не единственный, кто говорил о социальной природе человеческого разума и психики. Современный канадский философ Д. Бэкхёрст опубликовал в 2011 г. книгу «Формирование разума», в которой он излагает свои представления о сознании человека. Ключевым для нашей статьи является то, что Д. Бэкхёрст признает идею социальных состояний Д. Дэвидсона: «Убеждение, намерение и другие пропозициональные установки являются социальными в том смысле, что они являются состояниями, в которых существо не может находиться, не имея понятия об интерсубъективной истине, и это понятие невозможно иметь без совместного с кем-то другим понимания мира и способа мышления о мире» (Бэкхёрст, 2014: 27). Исходя из этой идеи, а также из отрицания приоритета первого или третьего лица при определении субъективного опыта, Д. Бэкхёрст приходит к выводу, что «условием для приписывания состояний разума себе является то, что человек должен также приписывать их другим. Вы не понимаете “Мне больно”, если вы не понимаете “Ему больно”: ни одно употребление не является самодостаточным. Поэтому вы не можете начать с психологического приписывания первого или третьего лица и так или иначе перейти к другому. Если я должен применять психологические предикаты к себе, я должен понимать, что это означает, чтобы применять их к другим, я должен понимать, что означает для других применение их ко мне» (Бэкхёрст, 2014: 131). Отсюда следует, что даже психические состояния человека имеют социальный характер.
Заключение . Таким образом, можно утверждать, что наука о сознании не может и не должна ограничиваться исключительно естественнонаучными исследованиями. Для целостного понимания сознания нужно учитывать роль социально-культурных факторов, внутренних личностно-экзистенциальных смыслов и значений носителя сознания, без которых не может быть субъективного опыта и которые никак не зафиксируешь и не осмыслишь на лабораторном столе нейроученого. Более того, нужно точно знать, как именно культура формирует сознание человека, как происходит этот процесс.
Весьма опрометчиво полагать, будто разгадать тайну сознания можно будет спонтанно, просто продолжая исследовать строение головного мозга. Сознание – это не отдельный орган, который можно будет случайно обнаружить и изучить его строение, а многоуровневый, социально-обусловленный процесс, для исследования которого необходимо выработать индивидуальную стратегию, методологию и язык. Выполнение этой задачи не представляется возможным без философии. Важно учитывать эти факты, поскольку без них не удастся достичь целостного, научного понимания сознания.
В свете вышеизложенного становится совершенно ясно, что исключительно на лабораторном столе нет серьезных шансов понять природу сознания, объяснить ее тайны и разгадать его сложнейшие загадки, раскрыть предпосылки и первоосновы когнитивных способностей в деятельности субъекта, его творческие и моральные интенции.