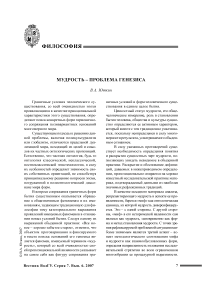Мудрость - проблема генезиса
Автор: Юткин Валерий Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974150
IDR: 14974150
Текст статьи Мудрость - проблема генезиса
Граничные условия человеческого существования, со всей очевидностью эпохи проявляющиеся в качестве принципиальной характеристики этого существования, определяют поиск конкретных форм гармоничного сопряжения поливариантных оснований многомерного мира.
Существующие подходы к решению данной проблемы, включая поликультурализм или глобализм, отличаются предельной дуа-лизацией мира, исходящей из целей и смыслов их частных онтологических пропозиций. Естественно, что частная онтология, будь то онтология классической, неклассической, постнеклассической эпистемоологии, в силу их особенностей определяет значимость своих собственных ориентаций, не способствуя принципиальному решению вопросов эпохи, погруженной в полионтологический диссонанс мира форм.
В вопросе сопряжения граничных форм бытия существенным оказывается обращение к общезначимым феноменам и их именованиям, задающим традиционную для философии тему категориального выражения проявлений именуемых феноменов в отношении новых условий бытия. Следуя одному из выражений обыденной практики: «Все новое – хорошо забытое старое», отметим, что объектом проговаривания и фиксируемого в тексте поиска оснований его генезиса является феномен, именуемый термином «мудрость», который со всей очевидностью своей пропозициональной явленности указывает на самое себя как фигуру сопряжения гра- ничных условий и форм человеческого существования в единое целое бытия.
Ценностный статус мудрости, его общечеловеческое измерение, роль в становлении бытия человека, общества и культуры сущностно определяются ее активным характером, который вместе с тем традиционно умалчивается, поскольку неопределенен в силу многомерности результата, усматриваемого обыденным сознанием.
В силу указанных противоречий существует необходимость определения понятия и раскрытия сущностных черт мудрости, позволяющих увидеть невидимое в обыденной практике. Раскрытие и обоснование дефиниций, даваемых в нижеприводимом определении, пропозиционально опирается на хорошо известный исследовательской практике материал, подтверждаемый данными из наиболее значимых рефлексивных традиций.
В качестве исходного материала анализа, репрезентирующего мудрость в аспекте ее проявленности, берется «миф» как онтологическая единица, из которой мудрость диверсифицируется. Это – с одной стороны. С другой стороны, «миф» в его исторической явленности сам являлся как мудрость, одновременно как форма и метод становления мудрости. С точки зрения рефлексируемой проблемной ситуации наиболее значимым является третий аспект – аспект методологического соотношения мифа и мудрости как взаимообусловленных форм, определяя направленность изложения исследовательской стратегии во всем ограниченном многообразии ее процедурной выразимости.
Адекватное понимание ясности исследовательской позиции видится как перспективная возможность дать исходное рабочее определение понятию мудрость, что методологически и логически восходит к выделению родового ядра и фиксации видовых отличий определяемого объекта. Оно выражается следующим образом: мудрость – это форма организации бытия в граничных условиях человеческого существования, задаваемая ориентацией на предельно гармоничное сопряжение бытия и мышления. Оговоримся, что данное определение выражает «узкий» смысл, раскрывая нелинейность бытийных форм в линейном письме исследовательского текста.
Рассмотрим подробнее мудрость как форму организации бытия в условиях генезиса форм человеческого существования. Так миф, возникая в условиях первобытного общества, задает родовую направленность эволюционного процесса форм человеческого бытия. В этом отношении он является основой системной интеграции опыта. «Будучи, наряду с религией, доминантой первобытного синкретического сознания, мифология сама по своей природе синкретична. Она имеет всеохватывающий характер, разносторонне проникая во все сферы жизни, культуры, социальных связей и поведения»1. Многовековая практика смены граничных условий существования задает собой накопление и отбор опыта, позволяющего эффективно осваивать окружающую действительность. Естественно, что за количественным накоплением следует качественное изменение форм освоения действительности, с соответствующим преображением форм организации бытия. Если исходным материалом для организации первичных форм человеческого бытия был материал, спонтанно накапливаемый и задаваемый естественным ходом эволюции этих форм, то базовым материалом для становления Homo sapiens стал системно накапливаемый материал, в ходе так называемого искусственного отбора, о чем со всей очевидностью свидетельствует неолитическая революция. Качественной формой преображения дискретного существования был миф.
Мудрость здесь играла далеко не последнюю роль. Она рождалась с мифом и миф рождала, определяя дифференцированный отбор, разработку и системное развитие наиболее эффективных форм освоения окружающей действительности.
Определяя связь между мудростью и мифом, отметим, что рассмотрение мифа является традиционной темой философской рефлексии, вызывающей исследовательский интерес с различных предметных сторон. А.Ф. Лосев, Э. Кассирер, М. Элиаде, К.-Г. Юнг, К. Леви-Стросс, В.Я. Пропп, О.М. Фрейденберг, Р.Я. Якобсон, Е.М. Мелетинский и т. д. в своих работах выделяют наиболее значимые аспекты данного феномена, лишь косвенно указывая на его причастность мудрости.
Так, М. Элиаде указывает, что миф – это «живая реальность, к которой человек постоянно обращается; это ни в коей мере не абстрактная теория и не простое развертывание образов, это кодификация религии первобытных народов и их практической мудрости»2. Идентичный акцент на мифе как онтологической единице делает А.Ф. Лосев в каждом разделе своего труда «Диалектика мифа»3, разделяя миф и теорию, миф и поэтику, миф и религию. Тем не менее при рассмотрении мифа как онтологической, по преимуществу, формы бытия за рамками рассмотрения оказывается мудрость. Мудрость либо умалчивается, взятая в кавычки сущностного и скрытого принципа мифа, либо выводится на второстепенный план в качестве аспекта самого мифа. Размытым оказывается вопрос о том, что породило миф.
Вопрос первичности порождающего и порождаемого – мудрости и мифа – как бы снимается, указывая на первичность проявления мудрости к устоявшейся форме выражения этого проявления – мифу. Однако сращен-ность и неразличимость мифа и мудрости на протяжении длительного периода истории оказывается существенным в вопросе генезиса мудрости.
Избежание «бритвы Оккама» в вопросе первичности происхождения реализуется со всей очевидностью логической соподчинен-ности субъектов и соответствующих им предикатов. Мудрость есть качественная характеристика субъекта, порождающего миф, будь то субъект индивидуальный или коллективный. Миф в отношении порождающего субъекта есть форма проявления этого каче- ства. Он как форма выражения качества субъекта, взятая в многообразии своих видовых отличий: вербальных и невербальных, образных и логических, натуралистических и методологических, определяет сопряжение вербализуемого и невербализуемого в систему организуемой и организованной деятельности, имея результатом реализацию помыш-ляемого.
В отношении мудрости следует отметить, что ее развитие в связи со становлением космогонического мифа и соответствующего ему годового цикла ритуалов указывает на этап полноценного признания статуса мудрости. Это мудрость не просто отдельных сфер человеческой деятельности, идентифицируемая с мудростью богов и первопредков, давших образцовые формы освоения мира. Космологические мифы есть указание на мудрость как целостность охвата и глубину проникновения в закономерности взаимодействия человека с окружающей действительностью.
Здесь присутствует одновременно глубинное проникновение в интенциональные и эк-стенциональные структуры психики, языка, нравственность и мораль, законы природного и человеческого взаимодействия. Выражение этого проникновения имеет метафорический характер, но, тем не менее, космогония – принципиальный момент становления мудрости в ее перестановке акцентов освоения мира. Мудрость делает акцент на порождающем мир первоначале, которое присутствует в каждой вещи мира.
Первоначало обнаруживается мудростью в самой себе, своей способности постигать происходящее и то же самое в том, что постигается. Недаром дальнейший ход эволюции мудрости обусловлен интенсивной разработкой единого образа мира, который разнообразен в попытках объективации единого начала. В этом религия становится целостностью обращения к мудрости порождающего начала, продуцирующего циклы и ритмы мира. Миф и ритуал в религии как форме становления мудрости включены в годовой цикл сопряжения и созвучия форм: человеческого, природного и сверхприродного существования.
Возвращаясь к вопросу о первичной форме мудрости и сравнивая роль мифа и ритуала в ее генезисе и становлении, еще раз от- метим, что ритуал в полноте своих выражений знания о мире и его освоении эволюционирует в сторону «танцующего мифа», имея при этом ограниченные возможности выражения отношения к миру действием: жест, поза, взгляд, комбинация движений. Потому о ритуале как форме мудрости говорить трудно, в силу отсутствия у него предсказательной силы, ограниченной рамками «рационализации мира действием». Простейший ритуал замкнут на гомеостаз с локальными условиями существования. Ритуал же в его интегративной – мифоритуальной – форме связан с циклической реализуемостью перспектив на протяжении астрономического года. Включенный в миф он уже фиксирует узнаваемый порядок мира, порядок космических циклов, позволяя через миф увидеть стратегию разворачивающегося порядка жизни.
Мудрость космогонического мифа – это мудрость, эволюционирующая с человеческой практикой. Она предстает уже как дифференцированное обращение к различным сферам порядка мира, проецируемым в интенциональную целостность души и духа, сопряженных со сверхчувственным началом слова. С другой стороны, мудрость реализуется как процессуальная организация и управление целостностью бытия со-общества, позднее общества и государства. Естественным становится вывод о том, что мудрость как форма целостной организации и управления формами человеческого существования появляется в период развитых форм выражения знания о целостности взаимодействия с окружающей действительностью.
В единичном качестве мудрость появляется значительно ранее, определяя собой осмысленное и осознанное решение проблемной ситуации, признаваемое за эффективное в целостности бытия общины. Проблема признания существовала как в человеческом стаде, как в родоплеменной общине, полисе, культуре, так и в современном обществе. При-знанность своим в человеческом сообществе – это признанность свободным – отвечающим перед сообществом за результаты и последствия индивидуально предпринимаемых действий. На данный аспект мудрости – σοϕιη – обращает внимание Топоров 4, прослеживая этимологическую взаимосвязь σοϕ – свет
(знание) и swe – свой, свободный, осваивающий. Свободный организован в соответствии со своим местом в мире и обладает знанием о порядке организации мира. Потому его мудрость – это мудрость места и времени реализации, признаваемая за таковую в силу практической – конкретной – ответственности перед процессуальным и морфологическим порядком мира.
Этика ответственности за последствия индивидуальных действий вытекает из синкретической мудрости родовой общины, наделяющей того, кто предрасположен к умелому, эффективному, успешному действию в той или иной сфере статусом, в том числе и мудростью. Традиционно не дается указания на то, что мифоритуальное единство, укорененное в самом существе и формах существования мудрости, определяет родовую практику коллективного освоения действительности: отбора и накопления опыта, систематизации и передачи знания о целостности бытия. Обретение способности накапливать знания на основе систематизации эффективного опыта, репродукция его в моделях ритуала и ритуального поведения, системная координация родовой деятельности через циклическую систему воспроизведения мифа указывают на интеграцию и сопряжение эволюционирующих форм существования и познания.
Было ли это мудростью? Да, в силу отбираемых и интегрируемых в единое целое искусственных и естественных форм: познания, существования и практики, – взаимосвязи и переходы между которыми определялись тяготением к эффективности и гармонии в мифоритуальных формах освоения окружающей действительности. Среди этих форм особую роль играет познавательная практика, приводящая к выделению особого класса индивидов, способных и предрасположенных к накоплению, систематизации и передаче знаний. Учитывая тот факт, что знание в начальный период становления человеческих форм существования определялось как руководство к действию взаимозаменяемых индивидов, то миф как система деятельности в различных сферах освоения действительности определял практическое сопряжение познанного и познаваемого, освоенного и осваиваемого, определяя их сращенность и синкретизм как обще- ственную практику. Потому указание на связь мудрости со знанием, которое есть свет = свобода пропозиционально вытекает из мудрости всеохватывающего мифоритуального освоения, отчасти определяя самостоятельный статус мудрости и ее генезис.
Поздние практики мифоритуальной традиции явно выражают взаимосвязь рождения мудрости со светом = знанием порядка мира как и освоением окружающей действительности, целостностью охвата и глубиной проникновения в скрытые тайны мира. Появление специализированной формы мудрости связано с устойчиво повторяющейся системой организации человеческого существования, превращением rta – ритуала – в функциональную часть самодостаточной государственности, еще внимающей циклическому порядку. Мудрость подобного типа государственности пропозиционально укоренена в циклах космологического мифа.
Организованность общественного бытия на основе мифа определяет верификацию мудрости как соответствие мифоритуальному порядку, на который наслаивается нрав, обычай, право, мораль и порядок социокультурного взаимодействия, религия и искусство. Естественно, мудрость не остается в стороне от эволюции сфер общественной практики. Тем не менее общая укорененность общественного бытия в мифе как онтологической – матричной – пропозиции сообщает открытие мудрости в частных сферах человеческого бытия. Потому при системном освоении мира мифоритуальная пропозиция дает результатом частные утверждения о генезисе мудрости. Естественно, что частные исследовательские рефрены по поводу рождения мудрости из ремесла, из которой произрастает мудрость техники и метода, определяются частными исследовательскими предпочтениями – предметными пропозициями 5. Естественная ограниченность подобных рассмотрений определяется поиском чего-то исключительного и таинственного в генезисе мудрости.
Отметим следующее: системность порядка в организации мира, фиксируемая как ведический rta, брахманистская dharma, античные ανανχη, κοσµοξ, λογοξ, фиксируют и репрезентируют мудрость как уместность и своевременность действия, предпринимаемого субъектом мудрости. Показательна в этом плане позиция тех, кого античная традиция именует термином σοϕοξ – мудрец. Слова и деятельность σοϕοξ статусно вплетены в единое целое общественной жизни. Они даруют общественной практике опыт нового целостного освоения действительности, включенности в новый слой процессу-альности мира. Вербальное мышление о мире через призму мифа становится интеграцией социального мира и нахождением форм его гармонизации в соответствии с порядком Единого, будь это ведический rta, брахмани-стская dharma, античная ανανχη . Слово обретает статус сакральной формы.
В этом плане интересен институт певцов-пророков: аэдов античности, или rishi в ведической традиции, которым традиция приписывает способность к dhi – неопосредованной интеллектуальной созерцательности мирового порядка, участию в нем, слышанию его голоса и говорению от его имени. Интересно, что dharma происходит от того же корня, что и dhi, определяя собой включенное познание структурной и процессуальной организованности мира. Песня, пропеваемая rishi, воспринимается как закон – dharma. То же самое прослеживается в античной традиции, где λογοξ – это слово-песнь и одновременно закон 6, обла- дающий сакральной значимостью. Песнь Соломона в иудаизме – также закон, который после Законов – слов Моисея – не может иметь рядоположенного значения. Тем не менее песнь – это открытие всеобщих закономерностей бытия, даруемых словом, проистекающим от всеобщего закона бытия мира в той или иной практике мифоритуального освоения мира.
Список литературы Мудрость - проблема генезиса
- Кабо В. Круг и крест: Размышления этнолога о первобытной духовности. Канберра: Алчеринга, 2002. С. 21.
- Элиаде М. Аспекты мифа: Пер. с фр. 3-е изд. М.: Академический проект: Парадигма, 2005. С. 25.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Республика, 1994. С. 27, 42, 71 и др.
- Топоров В.Н. Еще раз о древнегреческом ΣΟΦΙΑ: происхождение слова и его внутренний смысл//Структура текста/Отв. ред. Т.В. Цивьян. М.: Наука, 1980. С. 151.
- Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. М.: Эдиториал УРСС, 2004. С. 14.
- Виллер К. Учение о Едином в античности и средневековье. СПб.: Алетейя, 2002. С. 117.