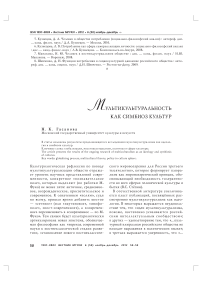Мультикультуральность как симбиоз культур
Автор: Гасанова Надежда Курмагомедовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (50), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье изложены результаты продолжающегося исследования мультикультурализма как идеологии и симбиоза культур.
Глобализация, мультикультурализм, политика в сфере культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/14489363
IDR: 14489363
Текст научной статьи Мультикультуральность как симбиоз культур
Культурологическая рефлексия по поводу мультикультурализации обществ отражает уровень научных представлений современности, конкретное «познавательное поле», которых выделяют (по работам М. Фуко) не менее пяти: античное, средневековое, возрожденческое, просветительское и современное. К означенным «полям», судя по всему, пришло время добавить шестое — «сетевое» (или «паутиновое», «инофо-поле», «пост-современное»), а «современное» переименовать в «современное — по М. Фуко». Тем самым будет культурологически артикулирована новая эпистема, обозначаемая философами как «переход современной науки к постнеклассической стадии развития», «становление нового постнеклассиче- ского мировоззрения для России третьего тысячелетия», которое формирует плюрализм как мировоззренческий принцип, обосновывающий необходимость толерантности во всех сферах человеческой культуры и бытия (В.С. Стёпин).
В отечественной литературе увеличивается пласт публикаций, посвящённых рассмотрению мультикультурализма как идеологии. В некоторых выражается неудовольствие тем, что «идеи мультикультурализма, похоже, постепенно усваиваются российским интеллектуальным сообществом»; в других — удовлетворение тем, что «…куль-турный плюрализм российского общества не находит выражения в политическом языке»; в третьих выражается уверенность, что «…
1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 6 (50) ноябрь–декабрь 2012 50–55
мультикультурализм скоро не понадобится, так как это завершающий цикл индустриальной модернизации». Новая постиндустриальная экономика высоких технологий и социально-политическая модернизация создадут условия для отмирания традиционных культур (Э. Паин). С точки зрения других экспертов, оценивавших западный опыт культурной политики, мультикультурализм, как стратегия и как культурологический принцип, не был использован в принципе. «С середины 1950-х, когда началось массовое рекрутирование иностранных работников, все верили, что имеют дело с “гостевыми рабочими” (“гастарбайтерами”) и затратные способы адаптации гостей не предусматривались. Бюджетные средства выделялись на изучение детьми мигрантов “родного языка” (а иначе как они вернутся к себе на Балканы или в Турцию?) Лидеры принимающих стран исходили из своего понимания национальных интересов — не дать иммигрантам инкорпорироваться, проникнуть в национальное тело. В немецком случае это была просто мягкая сегрегация» (В. С. Малахов) (2, с. 48). Эта точка зрения принципиально совпадает с мнением Ф. Фукуямы: «в Голландии и до некоторой степени в Британии под словом “мультикультурализм” скрывалось нежелание ассимилировать представителей меньшинств в жизнь большинства: пусть у вас будет своя религия, свои школы, свое сообщество, и мы оставим вас в покое, если вы оставите в покое нас». Несоответствие мультикультуралистических манифестаций и реальной политики привело к разобщенности между гражданами, конфронтации. Ф. Фукуяма, предлагает: «… наконец, заняться проблемой культурной ассимиляции. Меньшинства, проживающие в стране, должны согласиться с некоторыми базовыми ценностями, чтобы стать частью нации». В другом варианте для обозначения мер по политической стабилизации, когда мультикультурализм декларируется, а реально проводится социальная изоляция меньшинств от большинства «в целях сохранения этнической идентичности тех и других», используются понятия «мультикультурализм консервативный» или «культурный фундаментализм». По сути, так обозначаются «новые издания национализма и даже расизма». Хотя именуется это невмешательством государства и «большого» общества в жизнь этнических общин с одновременным предоставлением им привилегий и дополнительных ресурсов во имя охраны их «идентичности» и в качестве компенсаций за прошлое неравенство (В. Штольке). Некоторые эксперты, оценив громкие заявления о «крахе политики мультикультурализма» в Европе, предложили, сохранив стратегию мультикультурализма, изменить тактику: «…если не реализовалась эта политика воплощения стратегии мультикультурализма, выработать и одобрить другую политику воплощения стратегии мультикультурализма. Составить другой план и назначить других ответственных» (Д.Б. Орешкин). Есть убеждение, что «хронологически мультикультурализм — одно из новейших направлений теоретикокультурных исследований, представляющее рефлексию после постмодерна».
По нашему мнению, это и обозначение факта симбиоза культур, и виток культурологической рефлексии, возвращающий к осмыслению трансформации культурной однородности, которая была присуща только первобытным объединениям, в мультикультурализм, к которому человечество закономерно пришло в ходе эволюции.
Отдельно мы рассматриваем вопрос об утверждении идеологической доктрины современной многокультурной России, которая должна прояснить вектор государственной культурной политики. Это соответствовало бы традициям и ожиданиям российской нации. «В России сложилась и веками существовала особая социальная организация, одной из наиболее характерных черт которой было то, что государство здесь являлось не надстройкой над гражданским обществом (как в западных странах), а становым хребтом, а порой — и творцом институтов гражданского общества. В России государство, общество, личность никогда не были разделенными (как на Западе), они были взаимопроницаемы, целостны, собор-ны» (А.А. Данилов). Разнообразие мнений, возникающее при обсуждении идеологической доктрины современной России, связывают с актуальным состоянием общества, где отмечается «фрагментарность и маргинальность современного типа культуры, которая отражается на состоянии ее теоретических исследований. Научное знание эволюционирует в направлении перехода от универсальной, монологичной, целостной реконструкции культурного универсума к вариативной, плюралистичной, мультиплицитной парадигме» (Л.А. Коробейникова). То, что интеллект имеет ассоциативную природу, было известно со времен Гоббса (А.Г. Ярошевский). Цепочка понятий социализм/коммунизм/ мультикультурализм отдельных экспертов вводит в заблуждение квазисходством по якобы имплицитно содержащейся в них пропаганде уравнивания (в данном случае этнокультур). Сходство и тождество — разные вещи. Мультикультурализм это одновременно пост-монокультурная реальность, одна из её трактовок и проект нациеустройства (сейчас принято употреблять понятие «культура» вместо «нация»). В последние годы вопрос нациеустройства (или внутренней политики) особенно проблематизировался в обществах, для которых собственная мультикультурность стала откровением (или, как сейчас принято говорить, «культурная плюральность рельефно обозначилась»). Но в проблематизировавшихся политических условиях исконно мультикультурной России также необходима модернизация: страны прежней нет, идеологической доктрины нет, государственной концепции национальной политики нет (сейчас это называется «культурная политика»).
В вопросе исследования мультикультурализма как доктрины наступила ситуация переполненности дискурса различными нюансами. В трактовках мультикультурализма обнаруживается множество вариаций, в том числе его нерелевантное использование для обозначения различных политических, экономических и психотехнических манипуляций; для легитимации социальных движений и действий, часто имеющих цели, далёкие от межкультурного взаимодействия; для обозначения конструкций, основанных на интуиции или являющихся калькой с западных моделей культурной политики. Его рассматривают как характеристику современного общества, представленного многообразием культур, и как сугубо культурологический принцип, заключающийся в том, что люди должны научиться жить совместно, не отказываясь от своего культурного своеобразия. При этом критикуется поощрение замкнутости культурных групп, которая приводит к отчуждению граждан от своего государства.
В Германии мультикультуралисткий дискурс имел инструментальный характер, первыми пропагандистами мультикультурализма здесь выступили представители промышленного капитала — крупные «хозяйственники», озабоченные ухудшением ситуации на рынке труда. Введение терминов «мультикультурализм» и «мультикультурное общество» в немецкоязычном пространстве считается заслугой Хайнера Гайсслера, руководившего в своё время партией ХДС. Правительство Австралии взяло на вооружение лозунг мультикультурализма, стремясь положить конец дискриминации «цветных» и безрезультатной политики ассимиляции иммигрантов. В Канаде новая ситуация вокруг мультикультурализма сложилась в связи с выбором мультикультурализма в качестве нового правительственного курса, призванного сделать государство более чувствительным к запросам своих граждан разных культурных и языковых групп. На самом деле, неофициально это считалось способом увести политические дебаты от противостояния англофонов и франкофонов (В.С. Малахов). Швеция пошла по пути объединения под лозунгом мультикультурализма политики в отношении иммигрантов и традиционных меньшинств страны. В Америке первоначально мультикультурализм понимался как средство борьбы с расо- вой дискриминацией чернокожего населения. Последующее широкое распространение мультикультуралистской риторики связывают с такой особенностью американского публичного дискурса, как невнимание к социально-классовой стратификации, с тенденцией сводить общественные противоречия к противоречиям «ментальностей»; отсюда преувеличенное значение, придаваемое взаимопониманию.
В части научных исследований и обыденных взглядах на специфику мультикультурализма, на наш взгляд, воспроизводится одна системная ошибка, порождающая неэффективные практики культурной политики. Это убеждение в «недавности» происхождения феномена мультикультурально-сти/плюральности культур (даже указывается место и время его появления: «в конце 1960-х годов в Канаде»), и уверенность в легкости манипулирования им. На самом деле, мультикультурными общества становились с самого начала расселения людей по планете. Отрефлексированная за прошедшие миллениумы плюральность культур не могла оставаться на уровне примитивно маркируемых неясных ощущений, и, пройдя определённый путь эволюции, получив терминологическое оформление, она стала само-развивающимся феноменом. Тем не менее в настоящее время появляются предложения «модернизировать» термин мультикультурализм, рассчитанные на то, чтобы таким способом повлиять на процесс социокультурного развития. «…Есть плохой мультикультурализм, приводящий к расколу, и есть некий хороший… Лучше обозначить этот хороший мультикультурализм новым термином, предлагаю использовать для этого термин “интеркультурализм”» (Э.А. Паин). Как-то этот «новый» очень похож на известный нам «интернационализм», который «... заложил фундамент международной организации рабочих для подготовки их революционного натиска на капитал» (В. И. Ленин). А в лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был выражен призыв к укреплению сотрудничества рабочего класса разных стран в борьбе за социальное освобождение. В настоящее же время требуются специальные интеллектуальные усилия для экстраполяции его сути из политической плоскости в культурологическую, то есть это термин не прямого использования.
В научном анализе истории российской «национальной политики» доминировали отрицательные оценки политического курса российского самодержавия, который определялся термином «русификация» (годы первой русской революции). В 20-е годы, несмотря на иную методологическую и идеологическую основу, историками развивались концептуальные положения либеральной дореволюционной историографии о насильственном включении окраин в состав Российской империи. В зависимости от политической конъюнктуры в целом концепция российской национальной политики эволюционировала от декларации «абсолютного зла» до тезиса о «наименьшем зле» и полностью добровольном присоединении национальных окраин к Российской империи. В новейшей истории России одиннадцать республик бывшего СССР (включая Российскую Федерацию) одновременно провозгласили декларации о своём суверенитете (1990) «…во имя высших целей — обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а каждому народу — на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах». В установлении взаимоотношений народов постсоветской России были попытки использования понятия «ассоциированности» (компаньоны, партнёры), которое обозначает связь, скорее, психологическую, чем правовую. Региональные законы о языках и решения местных органов управления, касающиеся преподавания некоторых предметов в школах, размывали и эту связь. Государству стоило немалых усилий политическими средствами обеспечить целостность российской нации. Но остаётся пока открытым вопрос о новой идеологической доктри- не России. В обществе идёт дискуссия по этому вопросу.
Политику ассимиляции иногда называют «культурным империализмом», иногда — «новым расизмом», но всегда — «мультикультурализмом». При этом осуждается и политика государственной поддержки общин, которые «необоснованно берут на себя миссию представительства интересов всего этноса или религии, и это стимулирует развитие коммунитарной идентичности». Но полный запрет вмешательства государства в дела общин, к чему призывают либертарианцы-анархисты, считается, привёл бы к тому же следствию: человек оказывается в рабстве у общины, не имея возможности защиты от нее со стороны государства. И это тоже считается «заслугой» мультикультурализма: «тенденции политкорректности и мультикультурализма уравнивают нормы цивилизации и дикость, как равноправные проявления национальной специфики». Однако здесь причина в практике: мультикультурализм декларируется и не реализуется. Сегрегация, например, происходит по-прежнему, только гетто возникают как бы на «добровольной основе». Люди, утратившие свою этническую или религиозную идентичность в странах Европы или в США, вынуждены («добровольно») возвращаться в замкнутые монокультурные поселения и кварталы только потому, что правительство спонсирует не культуру (многослойную), в которой бы индивиды нашли себя, а общины (их школы, клубы, театры, спортивные организации и др.). В общинах возникают параллельные управленческие институты, которые блокируют деятельность законных органов власти. Это позволяет администрации заявлять, что в таких условиях неосуществима защита прав человека, и не пытаться делать этого. Поэтому привезённые в качестве жен для жителей турецких кварталов Берлина или пакистанских кварталов Лондона женщины, например, оказываются менее свободными и защищенными, чем на родине. Там от чрезмерного произвола мужа, свёкра или свекрови их могла защитить родня. В европейских же городах их зачастую не спасают ни родственники, ни закон. Считается, что «в европейских городах возрождаются такие черты традиционной культуры, которые уже забыты на родине иммигрантов». Но такого «возрождения» (с традицией отрезания частей тела за неповиновение) вряд ли кто-то жаждет. В Европе сотворили из мультикультурализма «чупакабру» и пугают ею весь мир. А между тем всё гораздо сложнее.
Идеология мультикультурализма, в принципе, не воплощается в жизнь по причине трудоёмкости и затратности её воплощения. Речь идёт о необходимости разработки специальных, научно обоснованных программ интеграции; финансирования множества сопутствующих проектов; организации образовательного сопровождения ресоциализации с применением новейших технологий (учёт возможностей социальной инженерии); затрат времени и чувств социальных, медицинских работников и психологов. Особенно психологов, так как речь идёт о необходимости консультаций по социальной психотерапии в целях изменения стереотипов поведения. Мир функционирует, в основном, как определенная система стереотипов. Но развитие мира подразумевает разрушение одних, естественно сформированных стереотипов и постепенное образование новых, видоизмененных. Человеку приходится вписываться в действующие рамки поведения или фрустрировать под давлением системы стереотипов новой культуры. Стереотипы нелегко поддаются изменениям. И уничтожить все стереотипы нельзя в силу аналогового принципа мышления, который сам по себе подразумевает формирование тех или иных стереотипов. Поэтому стереотипы, помогающие видеть, слышать, ощущать и, как следствие, осознавать и понимать, ломать нельзя, чтобы окончательно не разрушить личность. В этом и следует разобраться, анализируя каждый стереотип в отдельности, сколько б их ни было; какие из стереотипов помогают, а какие уже мешают. Критерием отбора должен быть анализ сте- реотипа на предмет «способствует он формированию толерантности или же, наоборот, тормозит». Если стереотип мешает, то вторым этапом анализа должно стать принятие решения: «каким именно способом можно преодолеть, то есть разрушить данный стереотип». Избирается же в качестве практики культурной политики, как правило, вариант менее затратный, — декларировав мультикультурализм, проводить привычную культурную политику сосуществования: способствовать ассимиляции, закрывать глаза на сегрегацию, не соотносить цифры параллельного прироста населения и величину бюджетных расходов, не проводить мониторинг актуального состояния межкультурной диффузии, прогнозирование социокультурного баланса. Назвав всё это «мультикультурализмом», поступить потом так, как американцы поступили с идеологией «плавильного котла», — не утруждая себя модернизацией, выбросить на свалку истории. Но цивилизованный мир никогда больше не будет монокультурным, и общества вынуждены искать пути интеграции.
Интеграция российского народа традиционно опиралась на идеологию, которая всегда принадлежала к миру духовных ценностей русского народа. В настоящее время у российского государства идеологической доктрины нет по нескольким причинам. Во-первых , это официальная позиция государства, выраженная в «Основах конституционного строя Российской Федерации»
(Конституция РФ, раздел I, глава I, ст.13, п.1), где указано, что в Российской Федерации «… признается идеологическое многообразие» и что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (Конституция РФ, раздел I, глава I, ст.13, п.2), так как «Российская Федерация — светское государство» (Конституция РФ, раздел I, глава I, ст.14, п.1). Неукоснительное соблюдение Конституции — закономерный гражданский акт. Между тем всё большее количество исследований в гуманитарных науках завершается выводами о необходимости принятия идеологической доктрины. И это не случайно. Возник опасный прецедент — законодательное пространство для создания локальных идеологических доктрин субъектами федерации; допустимость их воплощения в разнообразных социокультурных практиках и на этой основе — опасность последующей фрагментации социума. В результате у нации может исчезнуть ощущение публичного пространства как общего. Во- вторых , это обнаруживаемое в части научной общественности активное отрицание необходимости принятия государственной идеологической доктрины, «так как жизнь не вмещается в какие-либо схемы». В-третьих , сложившееся у части граждан представление о достаточности имеющихся официальных документов, в том числе общего характера, для регуляции жизни социума. На наш взгляд, это важнейшая государственная задача.